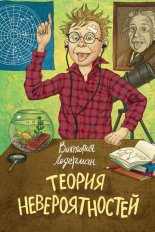Порою блажь великая Кизи Кен

— … в смысле, Тедди, я ни разу не в обиде, когда ты разбавляешь дорогое бухло дешевым — ну, ты понимаешь. Я парень простой, угодить мне нетрудно, в послевкусиях-букетах не петрю… Но, мать твою, средство от потливости ног в моем бурбоне — это как-то слишком!
И все ржут, оценивают насыщенность красок на физиономии Тедди. Это уж стало ритуалом, исполняемым каждую ночь, а то и дважды за ночь. На самом деле к недавнему времени он настолько изнемог от обвинений в разбавлении виски дешевым одеколоном, что решил именно так и поступать. И не сказать, чтоб кто-то заметил разницу: он знал, что среди них не найдется ни единого дегустатора с достаточно тонким вкусом, чтоб прочувствовать в жидкости хоть что-то помимо градуса; и точно так же он знал, что никто из них даже не подозревает о степени достоверности своих ернических претензий. И когда ему напоминали об этом, знание сути наполняло его как праведным гневом оклеветанного (Какое они право имеют выдвигать столь гнусные обвинения без доказательств!), так и презрением, единственно умерявшим ярость (Бараны, да знали б они…).
В последнее время, правда, ярость сделалась почти неподконтрольной: трепещут ресницы, он краснеет, испуганно мямлит: «Не может быть, сэр», — а за этим заячьим обличьем дает торжественный обет: «Ни единой капли „Тен Хай“ для этих ослов! Только продукт переводить! Даже „Бурбон Де Люкс“ не заслужили. Отныне и впредь их „Джек Дэниелс“ будет родом из стеклянных баллонов на рынке, и пусть себе ослепнут к черту все!» — а вслух все извиняется, конечно: «Простите великодушно, сэр! — и предлагает заменить выпивку за счет заведения: — Прошу вас, сэр, позвольте мне…»
Кретин непременно отмахивается от предложения: «Да забей, Тедди, забей. Ты так мило краснеешь, что и лосьон в радость, — а потом зачастую швыряет на стойку горсть монеток с выражением нервической щедрости: — Вот… ни в чем себе не отказывай!»
И все ржут. А Тедди неслышно шаркает прочь подошвами своих вечных тапочек, унося шестьдесят центов чаевых и слабую улыбку, кисеей висящую над полным ртом ненависти, скользит за стойку, забивается в уголок, оскорбленный и взбешенный, ждет, пока целительный неон не залижет душевную рану. Там был его приют и пристанище, единственно утешительное в его одиноком мире. И с недавних пор, хотя дела шли как нельзя славно, а вера в его превосходство над миром перепуганных дурней была несомненна, вдруг возросла его потребность в дозах этого шипучего бальзама. Бывали ночи, когда он, облитый пьяными поклепами очередного зубоскала, аж по полчаса и более утешался, стоя у окна, с улыбкой на устах, возложив одну руку на стойку, будто лаская свою раковину-домик — полчаса, покуда неоновый массаж не изгладит ярость. В такие минуты он казался все тем же, все в той же манере привечал вновь прибывающих, теребил длинную цепочку ключа, нависавшую над передником, сообщал время, когда спрашивали… и даже если бы кому-то из клиентов доводилось наблюдать его вблизи, пока он купался во всех оттенках красного, лилового, пурпурного, трепещущих на его лице…
— Тедди, чертова ты каракатица, уже высуни нос из своей пещерки и плесни чистого, как слеза, джина из бутылки с надписью «Гилби» в мой стакашек? — …даже тогда цвет его лица легко объяснялся игрой неоновых сполохов — и ничем более.
Но в эту ночь, несмотря на чрезмерное число обидных пощечин, Тедди не много времени провел в лучах своей неонотерапии. Во-первых, он был слишком занят: обескураживающее известие о том, что Стэмперы переводят народ с лесопилки в леса, запустило алкогольный насос почти на ту же мощность, что и поединок Стэмпер — Ньютон недельной давности; и на этот раз Тедди не пригласил официантку из «Морского бриза» себе в подмогу. Поэтому сейчас он, шныряя взад-вперед, не мог позволить себе роскошь своих огненных ванн, даже если и подденет его кто из этих баранов. Это во-первых.
А во-вторых, он и не так нуждался нынче в своих ваннах, как обычно. Не только потому, что раны его, пусть отчасти, исцелял тот фимиам тревоги, что вздымался над столами, мешаясь с сигаретным дымом — «Тедди, черт, поверь мне… тут что-то сильно не в порядке…» — «Да, сэр, мистер Ивенрайт» — «Просто потрава какая-то…» — поднимался к потолку, и сизыми пластами нависал над залой… но и потому, что он сейчас уже смаковал восторг от сладкого предчувствия, воспрянувшего в нем с полуденным звонком от Джонатана Дрэгера. Тот сообщил, что звонит издалека, из Юджина, и попросил об одолжении:
— Я загляну нынче вечером. Не могли бы вы до моего прибытия удержать Флойда Ивенрайта в заведении, а равно — от глупостей. — И уж вовсе взыграло триумфально сердце Тедди, когда Дрэгер добавил: — Мы покажем этим дуболомам, чего можно добиться, имея малость мудрого терпения, а, Тед?
Весь остаток дня и весь вечер этот крохотный уголек доверия пламенел в груди Тедди. Мы, сказал Дрэгер, мы! Такое слово, да еще от такого человека, способно затмить весь неон Орегона!
Ивенрайт заявился после ужина, чуть раньше семи, и лицо его было краснее обычного, а дыхание оторочено сладковатым запахом бренди.
— Да, что-то не в порядке… — снова заявил он, страшно комкая свои черты.
— Что, мистер Ивенрайт?
— А? — Ивенрайт тупо заморгал.
— Вы сказали, будто что-то не в порядке…
— Черт, да, не в порядке. Со стаканом этим — про него толкую. А ты думал, о чем?
Тедди опустил ресницы и уставился на эту лапищу с ее колбасками-пальцами, ороговелыми ржавыми костяшками, придавившую изящный рисунок полированной стойки. Рядом с этим уродством его собственная кисть — неизбывно синеватая от постоянного мытья бокалов, плоть почти прозрачная, точно засоленное мясо, — казалась даже синее и мельче обычного. Он робко ждал, поникнув раболепно и виновато:
— А что с ним, сэр? Со стаканом?
— Ну, прямо щас он пустой — вот что с ним. Для начала мог бы и наполнить чем. Уже что-то.
Тедди достал бутылку и вновь наполнил стопку. Ивенрайт, взяв ее, направился к своему столику.
— С вас пятьдесят центов, мистер Ивенрайт.
— Пятьдесят центов?! В смысле, ты еще и деньги берешь за эту дрянь? Тедди, я не собирался пить, я просто хочу помыть голову, а шампуня нет.
Тедди выглянул в зал: мужики за столиком Ивенрайта ржали, как всегда приветствуя комическую интермедию в своей серьезной, угрюмой, деловой дискуссии. Затем Ивенрайт сам хохотнул и припечатал к стойке стопку монет, будто клопа прихлопнул. Тедди бережно взял деньги и отнес их к кассе, смакуя деликатес нового страха, только что выуженного из сумбура чувств на лице Ивенрайта… Это одна из ваших особенностей, мистер Дрэгер, которая отличает вас и от меня, и от этих дуболомов… он снова и снова, с наслаждением истинного гурмана, ласкал языком это новое яство… Я могу лишь избегать страха; вы умеете его порождать.
Все столы ровнялись на стол Ивенрайта, и потому все беседы текли параллельными руслами. Для начала — никто и подумать не мог, что Хэнк Стэмпер так наплюет на своих соседей: «Старый Генри — еще ладно, но Хэнк всегда был ничего себе парень». Далее: «А какого дьявола? От осинки не родятся апельсинки, да? Конечно, Хэнк не разливается соловьем, на манер своего папаши, про то, какую стальную шкуру нужно иметь, чтоб преуспеть в бизнесе, но он ведь — кровь от крови, плоть от плоти». И наконец: «По мне, все однозначно: Хэнк Стэмпер ясно дал понять, что на своем стоять будет, покуда его носом не ткнут в его ошибки».
В этом последнем маневре инициативу взял Ивенрайт:
— И я так скажу, — заорал он, вскочив на ноги и моментально захватив всеобщее внимание: глаза блестящие и красные, как леденцы жженого сахара, а нос закупорен так, что вот-вот взорвется, — скажу, что нгадо бы нгам отправиться туда тоупой и припереть мистера Хэнка Стэмпера к сте'ке! — Он утер нос рукавом и добавил: — Сию сегунду!
Всколыхнулся краткий шквал одобрения — «Да, к стенке… немедленно…» — но Тедди знал, что в баре слишком тепло, светло и уютно, а ночь за окном — слишком тоскливая, зябкая и сырая, чтоб этот порыв реализовался. Немало еще понадобится трепа и выпивки, прежде чем Ивенрайт умудрится вывести хоть какую-то толпу под дождь. Однако ж при таком развитии событий хотелось бы…
Дверь распахнулась, и будто продолжением незавершенного пожелания Тедди вошел Дрэгер. Едва ли замеченный кем-то, кроме Тедди: прочие внимали пламенным глазам и гнусавым речам Ивенрайта. Дрэгер снял шляпу, плащ, повесил их у двери и сел за пустой столик у масляного радиатора. Показал Тедди палец, беззвучно произнес: «Один», — и приступил к наблюдению затылка Ивенрайта, пышущего и распухающего призывом к действию.
— Слишком долго мы ходили вокруг да около, чтили заког, пытались быть добгыми… Что ж, спгошу я вас, они по добгу с нами обошлись? По правде? По закогу?
Снова крики и скрип стульев. Но Тедди, доставив виски и воду, глядел из-под опущенных ресниц на безмятежное, мудрое лицо Дрэгера и видел, что тот не больше его самого опасается сгинуть в волнах революции. Если уж тут кто и поднимет восстание, так точно не Флойд Ивенрайт. Тедди поставил емкости на стол; Дрэгер пригубил виски и улыбнулся бармену.
— Мой отец, — кричал Ивенрайт, — всегда говорил: никто рабочему человеку ничего не даст, пока своею собственной рукой не возьмет… Верго? Чертовски верго…
Прикончив свой виски, Дрэгер сидел, изучая игру света на гранях стопки, а Ивенрайт гремел над столами, проклиная и подначивая, багровый от разбавленной выпивки и иллюзорного могущества.
— Так что я говорю? Кто смирится, кто не распрямится? А? А? — Большинство подхватили идею распрямиться, но все остались на своих местах. — Я говорю! Я говорю! Вперед, на врага, и тогда… — Он сморгнул, отчаянно пытаясь сосредоточиться на мысли. — И тогда мы всем народом, всем миром…
— Поплывете через реку, как бобриный выводок? — Головы поворотились от Ивенрайта к Дрэгеру. — Выстроитесь на берегу и будете камни кидать? Флойд, судя по всему, ты где-то простыл.
Ивенрайт проигнорировал этот голос — он хотел его проигнорировать, как весь вечер предвкушал. Он поднял свой пустой стакан и уставился в него, будто этот кристальный рот изрекал некие умные, душевные слова.
— Подумай головой, Флойд, — продолжал Дрэгер. — Нельзя подстрекать людей к набегу на этот дом в духе дурацких ковбойских фильмов, даже если б это было законно, ибо прежде всего…
— Опять законность! — выкрикнул Ивенрайт в стакан. — Да при каких делах тут закон?
— …ибо, — продолжал Дрэгер, — прежде всего, мы не сможем переправиться через реку толпой. Если, конечно, ты не рассчитываешь, что мистер Стэмпер перевезет нас подвое или по трое. Что ж, я мало знаком с этим человеком, — он осиял зал улыбкой, — но после того, что слышал о нем, не вызовусь парламентером с просьбой переправить народных мстителей в достаточном для возмездия числе. Конечно, может, Флойд преуспеет больше. Я слышал, он поболе моего искушен в подобных делах.
Собравшиеся неуверенно засмеялись, озадаченные спокойным тактом этого человека. Они ждали, наблюдая его оптические эксперименты со стопкой за одиноким столиком. Но Дрэгер молчал, и внимание толпы вернулось к Ивенрайту, который так и стоял, стиснув пустой стакан. Ивенрайт чувствовал, как внимание опаляет его спину: блин! Ведь так хорошо все было, пока этот козел не нарисовался, — замечательно все шло. Но Дрэгер каким-то образом снова выставил его в дураках, и хрен разберешь, каким образом. Ивенрайт немного поломал голову над этой загадкой, а потом спустил досаду на Тедди, потребовав стакан бесплатно на том основании, что если б бухло, которое он усосал за вечер, было натуральным бухлом, то надрался бы по уши, — так какого черта? Тедди наполнил его стакан без комментариев. Ивенрайт осушил его залпом, даже не поморщившись, и задумчиво поиграл губами. «Моча голубиная», — сертифицировал он и сплюнул в сторону плевательницы. Снова прокатилась рябь смеха, по-прежнему неуверенного. Люди переводили глаза со своего местного председателя на президента и обратно в ожидании следующего хода. Дрэгеру, казалось, и дела не было до тишины, воцарившейся с его появлением; он смотрел на свет через стопку, что вертел меж пальцев, глаза — терпеливостью под стать улыбке. Ивенрайт навалился на барную стойку. Он знал, что его очередь. Дрэгер свой ход сделал. Потер шею и наконец нарушил тишину, швырнув стакан в панель радиатора в углу бара и опять выкрикнул: «Моча голубиная!»
— Это не виски, это чистая, стопятидесятипроцентная голубиная моча! — Снова засмеялись, и тогда он повернулся к Дрэгеру, вновь обретя уверенность. Его слегка кренило, глаза горели. — О'кей, Джонатан Бэйли Дрэгер! Если вы такой до хера умный, так скажите нам, что делать. Это ж вы нас подбивали на стачку, в первую голову. Разве нет? И если вы такой умный — так вытаскивайте нас из этой заварухи. А я — тупой древогрыз. В смысле, нам, дуракам, за «думать» не башляют. И если вы такой умный…
Дрэгер опустил стопку на салфетку, лежавшую поверх пластика стола; звук вышел приглушенный, но все равно явственный, далекий и очень близкий разом, словно щелчок по лбу под водой:
— Только сядь, пожалуйста, и расслабься, Флойд…
— Ну нет. Не надо мне тут тыкать-флойдать, Джонатан Бэйли Дрэгер. Закон? Если по закону тереть, то вы знаете и я знаю, чт мы тут по закону разотрем. Зубы до десен — вот что. И, конечно, что я тут орал брать Стэмперов приступом — это тупость… ну а не тупость, что вы втянули нас в эту сраную забастовку, когда нахер она никому не упала?
— Флойд, а не ты ли в августе кричал, что вы тут, ребята, с голоду пухнете?
— В августе вы сказали, что до забастовки дело не дойдет!
— Что, боишься не сдюжить, Флойд? Боишься пропустить пару платежных чеков?
Дрэгер говорил так тихо, что было сложно понять, из него ли вовсе исходит этот голос. Рев же Ивенрайта нарастал, силясь прободеть тишину, что Дрэгер навесил над залой.
— Нет, я не боюсь пропустить пару чеков! Чай, не впервой. Как и у всех. Мы уже бастовали раньше — и сдюжили. Мы бастовали еще до «Вобов», которые бы прикрыли спину. Сдюжим и на этот раз, правда, ребята? — Он оглядел мужиков, кивая. Те кивали вместе с ним, глядя на Дрэгера. — Вы чертовски правы. Мы не боимся потерпеть или потерять пару чеков, но не побоимся и осадить назад, когда впереди ничего не светит!
— Флойд, если ты…
— И по закону, если уж ты так печешься, нам ничего не светит. Нас просто поимели. — Выговорившись перед Дрэгером, он снова повернулся к мужикам, утирая нос: — Давно хотел это выложить: неправильно время для стачки выбрали. И все мы это понимали… Черт, середина зимы, в забастовочном фонде — шаром покати… но Дрэгер прикинул, что если он это дельце обстряпает — ему зачтется, будет у себя там полным королем говна и пара… вот и нас втравил…
— Флойд…
— Дрэгер, если ты такой, нахер, умный…
— Флойд.
Щелк. Вновь — то же легкое, сдержанное прикосновение стекла к столу, тихое, как отдельный тик часиков. Головы снова поворотились к Дрэгеру. Теперь вижу; теперь понимаю… За своей стойкой Тедди восхищается силой и точностью этого человека… Вы умеете ждать. Вот вы заговорили… и посмотрите, как эти идиоты потянулись к вам, не шевельнувшись, потащились, сами неподвижные, на ваш голос, — как железные опилки тащит к себе магнит…
— Флойд… а директор лесопилки Стэмперов, Орланд Стэмпер, он, часом, не твой ближайший сосед?
…Потянулись без колебаний; и не важно, что вы говорите. Потому чт вы сами по себе сила — и в этом все дело. Слова тут ни при чем. Вот и брат Уокер, целитель-проповедник, тоже обращается порой в силу. Но не такую, потому что вы знаете больше, чем брат Уокер и его Бог вместе взятые…
— А у вас, Ситкинс, и у вашего брата, как я слышал, дети учатся в том же классе, что и дети Стэмперов? Да, припоминаю, что-то такое слышал. И их дети — просто дети, такие же, как ваши, верно?
…И вы знаете, что приводит людей в движение, — стылая сила мрака. И вам не нужны все эти барабаны, гитары и органы, чтоб пустить идиотов в пляс. Вы знаете, что Бог отца Уокера — всего лишь соломенный божок, чучело, которым отмахиваются от истинно Всемогущего…
— А жены Стэмперов, разве они не просто женщины? Озабоченные, ровно как всякие другие женщины, убранством дома в глазах гостей? Новой прической? — и, ребята, вы вообще видали эти их фасоны? — как любые другие женщины, эти жены Стэмперов?
…Соломенный самодельный божок, не сильнее прочих самодельных божков вроде Что Подумает Олух Сосед или Нужно Многое Успеть… и все они — лишь частички могущества той грозной Силы, что породила их; осколки Страха изначального.
— Ребята… Флойд… Есть одна-две простые истины, которые следует иметь в виду: имя — всего лишь звук, и они хотят от жизни того же, что и вы, того же, ради чего вы, ребята, сплотились в профсоюз и сражаетесь. Того же, чего желаете сейчас… потому что это естественно.
…Естественно для зверушек сбиваться в стаи, защиты ради. Вам не нужны барабаны и гитары. Нет. Все, что нужно, — люди вокруг с их естественным страхом, как и магниту, чтоб быть силой, нужны железные опилки.
— И я делаю ставку на человечность, а не на всякие зверства…
…Правый — неправый, добрый ли, злой — он просто притягивает. И уже через секунду идиоты даже не слушают, только тянутся. Им не нужно думать. Лишь естественный страх и тяга к единению. Как капельки ртути собираются в шарик все крупнее, пока не останется один, ни забот, ни тревог, ибо ты — комочек большего кома, что, нарастая, катится по земле в океан ртути…
— И вот чем я занимался последние четыре дня, там, в Юджине — ко всеобщему благу, без насилия, без кровопролития… Я выбил фонды из казны профсоюза…
…И вы все это знаете, мистер Дрэгер. Это и делает вас особенным. И вам достает мужества использовать свое знание. Я лишь благоговею перед истинным Всемогуществом; вы его используете. Вы прекрасны…
— К чему вы клоните, Дрэгер? — спросил Ивенрайт, вновь почувствовав внезапную усталость.
— Возможно, не все, что нам понадобится, — продолжал Дрэгер, будто не слыша Ивенрайта, — однако ж, уверен, местные бизнесмены со своими невеликими капиталами, но острым инвесторским чутьем дополнят сумму до нужной…
— Для чего гужгой, Дрэгер?
Дрэгер грустно улыбнулся Флойду:
— Ты подпростыл малость, Флойд, верно? Экая жалость. Особенно при том, что нам предстоит еще одна лодочная прогулочка через реку и беседа с мистером Стэмпером.
— Да иди ж ты! Я его знаю. Если он неделю назад нас послал, то сейчас тем более вряд ли пере… — Ивенрайт подозрительно прищурился: — Кстати, я спрашивал: для чего деньги?
— Мы купим «Лесопилку Стэмпера», Флойд. До последней досточки-косточки, винтика-шпунтика.
— Он не продаст, — в некотором отчаянии возразил Флойд. — Хэнк Стэмпер? Ни за что…
— Думаю, продаст. Я говорил с ним по телефону. И назвал цифру, которую только полный дурак пропустит мимо ушей…
— Он согласился? Хэнк Стэмпер?
— Не безоговорочно, но не вижу причин для отказа. Лучшего предложения ему никто не сделает. — Дрэгер повернулся к остальным, пожал плечами: — Цена кусается, ребята, но он взял нас за глотку, как Флойд говорит. И все равно мы не прогадаем: бизнес отойдет к местным, на паях с профсоюзом. Инвесторы получат дивиденды. А «Тихоокеанский лес» останется с носом…
Тедди сквозь туман своих дум вслушивался в этот приглушенный далекий голос и влюблялся через свою баррикаду радуг.
Ивенрайт облокотился на стойку, ошеломленный до полного протрезвления. Он больше не слушал ни взволнованные расспросы, ни оптимистические планы Дрэгера. В какой-то момент перспектива новой речной прогулки почти вытряхнула его из ступора, но когда он поднял голову, чтобы возразить, слова уперлись во всеобщий чрезвычайный энтузиазм и застряли в горле. Когда же Дрэгер направился к Мамаше Олсон, Флойд нацепил штормовку и покорно последовал.
На улице он потряс головой и повторил:
— Хэнк Стэмпер… ни за что не продаст.
— Без разницы, — радостно заявил Дрэгер. — Мы и предлагать не станем.
— А куда мы тогда идем?
— Просто гуляем, Флойд. Для моциона. Я просто подумал, что ребята скорее поверят, будто мы сделали предложение, если мы направимся к пристани…
— Поверят? О чем ты? Хэнк-то Стэмпер не поверит, будто мы были у него дома, если…
— Но он будет единственным неверующим, Флойд. — Дрэгер захихикал, довольный собой. — Кстати, ты играешь в криббидж? Милая игра для двоих. Пошли: у меня в номере есть доска… Как раз освоишь правила за то время, что мы якобы катаемся на лодочке.
И лишь один Тедди со своего поста у окна видит, как они вдвоем, не доходя до пристани, сворачивают и ныряют в боковую дверь отеля. Ты сила, сила. Он медленно кивает, когда в одном из верхних окошек отеля загорается свет. Будто бы мистер Дрэгер нарочно раскрыл перед ним свою хитрость; Ты знаешь, что я всегда стою у окна… вот подлинное доверие! «Мы», сказал ты мне… «мы» — и его маленькое пухлое тельце распирает едва не до взрыва: изначальное восхищение разрастается до любви и далее — до благоговения, до преклонения.
Когда моего отца списали на берег в сорок пятом, мы переехали из укромного городка в Калифорнии, где была его база, в «Обиталище Старого Джарнаггана» в долине Уилламетт — двухэтажный деревенский дом в тридцати милях от Юджина, где отец устроился на работу, в пятнадцати милях от Кобурга, где я поступил в третий класс, и в добром парсеке от хайвея, где водились ближайшие гуманоиды. Электричество проникло не дальше кухни и гостиной, для освещения же остального дома требовались «колеман», никелированный ручной насос и очищенный бензин, — система слишком сложная и опасная для третьеклашки, который отныне был признан достаточно взрослым, чтобы спать в темноте, с божьей помощью. А в моей спальне на втором этаже и впрямь было мрачно. Дьявольски мрачно. Непроглядно черна деревенская ночь в каморке с одним окошком, в проливной дождь, когда хоть открой глаза, хоть закрой — никакой разницы. Света просто нет. Но, подобно воде, эта густая тьма обладает чудовищной проводимостью звуков из неведомых источников. И пролежав с вытаращенными глазами три или четыре часа в первую ночь в новой кровати, я заслышал один из таких звуков: что-то тяжкое, твердое и страшное громыхало и топало в неистовстве от стены к стене коридора, упорно приближаясь. Моя голова взметнулась над подушкой. Я уставился в направлении двери, заполняя черную пустоту свихнувшимися крабами-гигантами и пьяными роботами по мере того, как звук неумолимо подбирался к двери… в дверь… в мою комнату… (Вспомнил свои тогдашние чувства несколькими годами позже, когда открыл мир Эдгара Алана По: «В точку: так-то оно и бывает».) Я застыл, задрав голову. Я не кричал; я будто вовсе лишился голоса, как бывает порой, когда пытаешься докричаться до яви из темницы сна. И пока я лежал, через окошко вдруг прорезался странный, мигающий свет — краткие, мгновенные вспышки, разделенные равными интервалами темноты. Дождь прекратился, и тучи приподнялись, допустив до моего окна прерывистое мерцание маяка на полевом аэродроме (я раскрыл источник этого загадочного света лишь недели спустя); и стробоскопическим зрением, дарованным этими периодическими сполохами, я сумел прозреть мрак над тайной: маленькая крыска стащила большой грецкий орех из кладовки и искала, во что бы твердое его упереть, чтоб разгрызть упрямую скорлупу. Орех выскальзывал изо рта, и крыса, настигнув добычу, снова подкатывала ее к стене, которая, словно динамик, разносила скрежет крысиных зубов. Объединившись, они вдвоем проделали путь из кладовки, через весь первый этаж, по лестнице, и до самой моей комнаты. Всего лишь крыса, явил мне свет, всего лишь глупая полевая крыса. Я перевел дух и уронил голову на подушку: всего лишь крыса грызет орех. Вот и все. Вот и все — Но что за свет мигает неуемно, будто призрак или кто еще все кружит, кружит, в дом стремясь забраться, в поисках дыры?.. Что за кошмарный свет такой?
Тот же ноябрьский дождь, что выгнал мышей из их нор и примял взморник, притащил с собою такие внушительные стаи перелетных гусей, что на побережье сроду не видали. Ночами за колыбельным воем ветра и шумом дождя звучали их звонкие, вольные, громкие, заливистые голоса. Гонимые бурей, они упорно стремились к югу, прочь от ручья Доусона; днем кормились на овсяной стерне, ночью летели на юг; и великий крик их ночных перелетов горним благовестом прорезался сквозь ветер и тучи, ниспадал на маленькие грязные городишки на побережье под их крылами.
Когда же обитатели этих городишек просыпались, разбуженные гусиным криком над крышами, — слышали в нем только: «Мороз на пороге, мороз на пороге» — недобрым, глумливым заклинанием, снова и снова: «Мороз на пороге, мороз на пороге…».
Уиллард Эгглстон, лысый и очконосный зять Главного по Недвижимости Хотвайра, однажды тихой ночью особенно внимательно прислушивается к звукам, доносящимся через круглую дырочку в билетном окошке с улицы, влажно блестящей отсветом козырька, и напоминает себе и пустынной улице: «У гусей наверняка тоже есть свои секреты. Они поют в ночи о своих тайнах, и никто не слушает, только я».
Когда же Ли довелось послушать песнь гусиной стаи, пролетающей над фургоном, где он обосновался, на пеньковатом краю порубки, в ожидании, пока Хэнк с Джо Беном и Энди сожгут отходы, этот звук отодвигает его на замечание в послании, которое он пишет Питерсу в старой бухгалтерской книге, обнаруженной под сиденьем:
В движение, Питерс, нас приводят неустанные напоминания о позднем часе. Природа сигналит нам на все лады, что лучше делать ноги, покуда можно, ибо лето никогда, дети мои, никогда не бывает вечным. Вот только что надо мной пролетела стая гусей, и они взывали ко мне: «Иди на юг! Следуй за солнцем! Замешкаешься — будет поздно». И от одного их крика меня бросает в дрожь..
Хэнку же слышатся в гусином крике иные мысли, сонмы мыслей, что будят сонмы сонных чувств — зависть и гнев, обожание и горечь — и ему до одури хочется вознестись к их песне, расправить крылья, улететь! Множество чувств и мыслей, что льются и сливаются и вновь дробятся на внезапные октавы, подобно звуку, что их породил…
Городишки же, слушая гусиное «Мороз на пороге», в ту первую неделю, исполнялись негодования: какая назойливость! Все городишки слушали гусей и все негодовали в те первые тусклые дни ноября. Поскольку сознание неотвратимости зимы никогда не греет душу (А эта зима в Ваконде будет небось даже позлее прошлой), и эти первые ноябрьские ночи всегда маятны, ибо за ними маячат сотни подобных грядущих. (Ага, но на сей раз нам придется особенно туго: без работы, без денег, на черный день ничего не припасли… здесь, в Ваконде)… кто ж полюбит глашатаев этаких напастей?
А зима уж точно была не за горами. И по всему побережью в ту первую неделю ноября, пока шумные гуси уносили крылья, гонимые севером, запад гнал через морской горизонт еще более темные и зловещие стаи туч. Тучи рыскали по небу и волнами обрушивались на горные кряжи, разбивались вдребезги, и вода неслась вспять, к морю… тучи разбивались в водяные брызги, или же — будто хищные лапы рвались из глубин, терзая землю серыми когтями. Будто лапы некой твари, заточенной в тверди и вознамерившейся процарапать путь наверх или низвергнуть твердь в серое море. Лапы тянулись к Свернишейке и Костоломке, к Пику Мэри, Тилламуку и к Нагамишу, скребли по всем западным склонам на побережье, и слепые когти вспарывали бока гор кровоточащими шрамиками. Те извивались, изливались в борозды покрупнее, а те — в канавы, пересыхавшие по лету, канавы — в овражки, заполоненные чертополохом и буйволовой травой, а далее — истекали в Лосиный Ручей и Ручей Лорэйн, Ручей Дикаря и Тай-Ручей, и Десятимильный Ручей; шустрые, шумные ручьи, щерящиеся на карте зубьями пилы. Все эти ручьи вгрызались в Нагалем и Сайлетз, и Алзею, и Смита, и Лонгтома, и Сьюслоу, и Ампкву, и Ваконду Аугу, и все эти реки текли в океан, бурые и ровные, в кружевных клочьях желтой пены, налипшей на шкуру, бежали к морю, точно взбесившиеся звери.
«Мороз на пороге» — возвещали гуси, перелетая от реки к реке над маленькими городишками, — «Мороз на пороге». Зима — точь-в-точь такая же, как год назад (Но в прошлом году мы винили красных с их ядерными испытаниями, что всю погоду испоганили), и точь-в-точь такая же, как в позапрошлом году (но в ту зиму, припомните, были ураганы во Флориде, которые на нас и надули больше дождя, чем положено), и точь-в-точь такая же зима, как тысячу лет назад, задолго до рождения этих прибрежных городишек. (Но в ту пору зимы были как зимы, а города как города… а в нонешнем году здесь, в Ваконде, уж поверьте, совсем другое дело!)
В барах и боулингах жители маленьких городишек, глядя на ливень и слушая гусей, пихали табак под обветренные губы, чистили уши спичками и обменивались суровыми, многозначительными кивками. «Многовато дождя. Послушайте, как разоряются эти гады — они-то знают, им наверху видно. Это все гребаные спутники, что правительство запускает, — вот в чем дело. Вроде того, как на праздники из пушки палят по облакам, чтоб дождем опростались. Так-то. Это козлы из Пентагона бросили нам такую подлянку!»
Гуси-то, наверное, ровно столь же гнусно предвещали зиму и в прошлом году, и тысячу лет назад, но маленькие городишки находили утешение, помогавшее пережить досадную неизбежность, в той мысли, что погода — результат чьих-то происков. Чуть легчало на душе, когда можно потыкать пальцем в козла отпущения: красные, спутники, ураганы далеко на юге…
Лесорубы винили строителей: «Это от ваших дорог паршивых грунт просел!» Строители винили лесорубов: «Вы, топорники тупорылые! Оголили все склоны — вода и не держится… чего вы ждали-то?»
Молодежь всегда могла обвинить старшее поколение, что дало им эту хреновую жизнь; старшее поколение винило церковь. Церковь, не желая остаться крайней, валила все претензии к божьим стопам: «Слушайте! Разве не говорил я вам? Разве не предрекал, не ограждал? Талдычил ведь дуракам: да не отриньте свет Его, блюдите заповеди Его — и не познаете гнева Его? А вы, свинтусы? Достукались: Меч Господень вознесен, хляби разверзлись!»
Что ж, не самое худшее объяснение, дарующее умиротворенность и эдакое стоическое спокойствие: сначала списать все на дождь, а в нем обвинить нечто не менее стихийное и столь же неумолимое, вроде Длани Господней.
Ибо — что с дождем поделаешь, кроме как его обругать? А коли поделать ничего нельзя — так чего морочиться? На самом деле можно еще и пользу извлечь. Разлад в семье? Это все дождь. Дряхлый автобус разваливается на куски прямо под тобой? Чертов дождь. Все валится из рук, все наперекосяк, а на сердце черная тоска? ночь за ночью лежишь с женщиной, а не встает? сплошь уксус, мало меда? Ага? Да вали, брат, на дождь, как на мертвого; ему без разбора, кого мочить, — плохих ли, хороших ли; шлепает и шлепает целыми днями, целую зиму, каждый год, так что можешь расслабиться, все одно ничего не попишешь, ляг и вздремни чуток. А то ведь недолго и дробовик себе в рот сунуть, как с Эвертом Питерсоном в Мэплтоне в прошлом году было, а то заделаться дегустатором крысиного яда, как оба пацана Мейрвольда. Плыви по течению, вали на дождь, гнись по ветру, ляг в постельку и покемарь — так сладко спится под колыбельную ливня (Но говорю вам: в нонешнем году в Ваконде все не так), правда сладко и уютно… (потому что эти гуси спать не дают, и Господь вины неймет, в год сей, в Ваконде…)
Потому что в этом году гражданам Ваконды увильнуть было непросто. И не поспишь дни напролет и ночи напропалую. И не свалишь свои беды на дождь, на Бога, на красных или на спутники.
Нет — потому что имелся отвратительно очевидный, вполне земной и зримый, прямо там, в Ваконде, в том году, явный виновник всех городских горестей и напастей. Тот проклятый упрямец за рекой — и никто иной! И дождь — это одно дело, и с погодой-то не поспоришь, разве что побранишь, а Хэнк Стэмпер — это совсем другой коленкор! И можно винить Длань Господню, в те годы, когда она так туго стягивает удавку стужи, наброшенную на леса, что и все платежные каналы пережимает; и можно винить порывы ветра, когда никто иной никуда не порывается и не нарывается… но когда рука, придушившая ваш доход, — рука Хэнка Стэмпера, и вы отлично знаете, что это его пальцы разрывают в клочья ваше благополучие — весьма затруднительно валить свои беды на кого-то еще!
И того труднее — лечь и покемарить, когда гуси над головой упрямо курлычут-талдычат: «Мороз на пороге, и надо уже что-то делать с этой недоброй рукой!..»
Уиллард Эгглстон уже что-то решил, все так, только он не говорит, что именно. Наконец он закрывает билетное окошко, выключает подсветку козырька, велит киномеханику сворачиваться и поднимается по лестнице на галерку, известить одинокую юную парочку об окончании картины. В фойе он надевает плащ и калоши, берет зонтик и выходит под дождь. Гуси вновь напоминают ему о той тайне, что он никому не раскрывает, и он с минуту стоит, с грустью смотрит в окошко прачечной, прилипшей к синематографу, мечтая вновь узреть там, как некогда, верную свою наперсницу (хоть он и не смог бы ей рассказать). Ох уж эти дни тайн, славные годы — до того, как в его жизнь ворвались автоматические стиральные машины и перемололи ее своими барабанами. До того, как жена с шурином втянули его в авантюру с покупкой синематографа, по «незыблемым, как сама недвижимость, резонам благоразумия, Уиллард; здание — рядом, а эти новые автоматы ведь не такого внимания к себе требуют, правда?»
Вспоминал он это со смехом. Сейчас бы, думал он, лаская пальцами родную стеклянную дверь прачечной, я бы, наверное, не поддался. Как бы ни убедительно звучало. Теперь он знал истинные «незыблемые» резоны для сделки. Шурину попросту нужно было пристроить куда-то никчемную недвижимость, а жена попросту хотела пристроить куда-то Уилларда. На десятом году супружества ее вдруг загрызли подозрения касательно тех ночей, что он проводил в прачечной с Молли Оушен — «с этим черным обмылком, который ты величаешь „ассистенткой“. В чем это она тебе там ассистирует, хотелось бы знать, до самого рассвета?».
«Мы с Молошей просто сортируем вещи, разговариваем…»
«Молоша? Молоша? А может, „Смоляша“ — больше подошло бы?»
Забавно, подумал Уиллард: ведь это как раз супруга первой прозвала девчушку «Молошей» — больше, наверное, в насмешку над нежным возрастом и бесплотным сложением работницы, нежели перевирая имя. Он-то прежде звал ее не иначе, как «мисс Оушен», да и в голову не приходило ему трепаться с девчонкой поздними трудовыми ночами, покуда жена не обвинила его в том. Теперь он жалел, что не обвинила куда раньше, и во много, много большем. Он с печалью оглядывался на потерянные годы, когда Молоша была для него лишь тощей негритяночкой, локти, да коленки, да зубы… и как он мог ее не замечать, покуда жена не ткнула носом?
«Я от этого устала, понимаешь? Думаешь, не знаю, что там творится на грудах грязного шмотья?»
Видимо, именно потому, что супруга так напирала на свою роль обманутой и оскорбленной, он решил сыграть в подкаблучника, не перечить ни в чем, не обманывать ожиданий. Видимо, поэтому. Во всяком случае, пока жена не соблаговолила намекнуть, у них с девчушкой ничего не было на грязных шмотках, кроме возни с грязными шмотками да глупеньких секретиков.
Хотя и это немало, понимал он теперь, когда все закончилось; эта часть романа осталась любимой в его воспоминаниях — грязные шмотки да глупые секреты. Началось с того, что они стали показывать друг другу маленькие отрывочки из тайной летописи города, обнаруженные в вещах, и вместе толковали находки. Со временем научились читать любой заляпанный клочок как официальную светскую хронику. «Посмотри, что я нашла, Уилл… — И она с гордостью предъявляла рецепт на противозачаточные таблетки, извлеченный из кармана пиджака Дедушки Прингла. — Стыди срам! А ведь на вид — такой благонравный католик».
Он отвечал пятном губной помады на майке Хови Эванса, она — перекрывала счет штанами Флойда Ивенрайта, изгвазданными в светло-голубой глине, в какую можно вляпаться только на старом плесе поблизости от лачуги Индианки Дженни…
О, может, то были и не лучшие их ночи, но вспоминать он любил именно их. Странно, думал он, вглядываясь в окно прачечной, что была по-прежнему его, но обходилась без его участия, вглядываясь в тюки с бельем, бесстрастно отсортированным чьими-то холодными и безучастными руками, странно, что память о тех давних ночах смеха над изнанкой города в нем теплее памяти о ночах куда более близких и жарких. Те давние ночи принадлежали ему. Никто и не догадывался, как они ворошат помянутую помятую изнанку. Почти пять лет они с девчушкой гладили белье и пришивали пуговицы, бросали монетку, кому идти за колой в «Морской бриз» через дорогу, и обменивались интимностями, какие можно прочесть друг другу вслух по чужим письмам, найденным в чужих карманах.
Но ни разу не делились собственными тайнами, пока супруга, по сути, их к тому не обязала.
И тогда на несколько чудесных, страстных месяцев они разделили меж собой еще две тайны. Первую — на кипе простыней, что извлекались еженощно из сушилки, воздушные, пушистые и белые, как теплый сказочный снег… Вторая же — под темными покровами девичьей кожи, и была она еще теплей, и все росла.
«Теперь, когда ты купил синематограф, Уиллард, думаю, тебе лучше и ассистента сменить. Держать единственную в городе чернушку — не лучший способ привлечь новых клиентов. К тому же ей, наверное, собственную жизнь устраивать пора. Может, ей домой хочется — должна же у нее быть семья, — как ты считаешь?»
И снова, казалось, жена выступила со своим как всегда разумным предложением как всегда весьма кстати. Молоша, смеясь, оценила столь великую заботу, да и в самом деле неплохо было бы наведаться к родне в Портлент на месяцок-другой, «хотя бы — чтоб всем потом наплести про свой бурный брак с морячком, который утонул в бурном море, но я готова донести до мира ребеночка этого бедняги. Высший класс. Твоя жена никогда плохого не посоветует».
Все было высший класс. Ни единого подозрения не зародилось в городе, ни единая бровь не нахмурилась: «Уиллард Эгглстон? И эта шоколадка недогрызенная, что у него работала? Да никогда в жизни…»
И хотя супруга понятия не имела, куда уехала Молоша, опять же ее была идея — чтоб он ездил раз в месяц в Портленд и отбирал фильмы для своего синематографа. Высший класс — лучше не бывает. И ни единого прокола с бухгалтерией, который бы озадачил банк: как будто прикрытие продумали за него, до мельчайших деталей.
Молли была так заботлива, что ухитрилась даже подгадать с рождением чада утопшего моряка как раз к визиту Уилларда в Портленд. Едва он зашел в клинику Бёрнсайда и спросил про мисс Oyшен, как цветной интерн, сообщив, что мама в порядке, указал на каталку, выезжавшую из акушерского отделения. Уиллард прильнул к стеклянному колпаку к поглядел на младенца — столь свирепого и дикого, столь своеобразного и безобразного в своем смешении кровей, что Уиллард еле удержался от разоблачения, от крика: «Молодец, вот это мой сын!»
Ныне, по прошествии едва-едва года с рождения, Уиллард слышал в себе лишь слабые отголоски той ужасной гордости. Теперь уж ему почти и не верилось, что это впрямь случилось, что в самом деле обитали на земле эти два самых важных в его жизни человека… Тем более с этой забастовкой. Поначалу он наведывался к ним чуть ли не каждую неделю, когда дела его шли достаточно хорошо, чтоб высылать три сотни в месяц без ущерба. Но открылась другая прачечная-автомат, и он едва-едва мог выкроить двести пятьдесят, а потом и двести. А с этой забастовкой в убыток пошли и синематограф, и прачечная, и он никак не мог отсылать больше полутора сотен. И он не мог взглянуть в лицо сыну, столь свирепому и неистовому, который точно не простит отца с его жалкими ста пятьюдесятью долларами в месяц.
Сегодня же он получил письмо от Молоши, где она писала, что знает, как трудно ему, при таких делах, отрывать от себя такой кусок… поэтому она подумывает о замужестве. «Моряк торгового флота, Уилл, все больше в рейсе, и ему совсем не надо знать, что мы с тобой тут делаем, когда его дома нету. А мы слезем с твоей шеи, понимаешь?»
Он понимал. По-прежнему все шло по плану «высший класс». И дело в шляпе: его мир столь долго был всецело скрыт под его шляпой, что скоро и вовсе причин для тревог не будет: уже никакого дела в шляпе не останется. И если не принять меры, он уподобится дереву, что падает в глухом лесу без треска, ибо некому услышать его треск.
Уиллард собирался уже уйти, отступил от окна прачечной, но его задержало собственное темное отражение в стекле: неправдоподобный, нелепый персонаж с мышиным подбородком и близоруко-слезливыми глазками под старомодными очочками, карикатура на Подкаблучника с большой буквы, двухмерное сатирическое чучело, чья двухмерная, плоская сущность очевидна всякому с первого взгляда, прежде чем откроется рисованный ротик. Уилларда этот образ не потряс: он сознавал его много лет. Когда был помоложе, потешался про себя над людьми, что принимали этот образ за чистую монету: «Какое мне дело до того, что они видят? Они думают, можно судить о книжке по обложке, но самой-то книжке видней!» Теперь же он понимал: если книгу ни разу не раскрыть и не прочесть — она сама рискует обратиться в то, что видят в ней другие. Он припомнил байку Молоши о ее отце… был он застенчив и кроток, пока разбитое лобовое стекло его же машины не отметило его шрамом от уха до подбородка, и с тех пор каждый залетный негрилла в баре норовил померяться с ним крутизной, и полиция проходу не давала. И вот он, некогда солидный джентльмен, ныне тянет пожизненный срок за убийство старинного друга бритвой. Нет, у книги нет иммунитета против обложки.
Он бросил прощальный взор на свое отражение — уж не этой тощей шейке снести тяжесть на ней сидящих — и пошел дальше, к фонарю на углу. Этот карикатурный образ столь полон и окончателен, думал он, даже странно, как только дождь не смоет меня в водосток, будто картонную куклу. Да, истинное чудо… что я не размок давным-давно.
Однако же, когда он свернул за угол и миновал фонарь, перед ним вытянулась его тень, черная и плотная. Что ж, связь с миром не вполне утрачена. Что-то еще осталось. И его двухмерное совершенство все равно подпорчено памятью о худенькой негритяночке и ее уродливом свирепом ребенке: они были кровью, плотью и костьми, не дававшими ему свернуться в рулон. Но кровь делалась все жиже, а кости — все прозрачней, а сердце — сморщенным и дырявым, как листик растения, чахнущего без света.
И теперь она пишет, что собирается замуж за морячка, точь-в-точь как в своей шепотливой легенде, и тогда они с малышом сумеют обойтись без его заботы. Он отписал в ответ, умолял подождать: он что-нибудь придумает; он уже много думал; но пока не может сказать ей; но дает слово; пожалуйста, всего несколько дней, подожди!
И когда его тень вытянулась в бесконечность по влажному тротуару, он снова заслышал гусей. Он опустил зонт, чтоб слушалось лучше, поднял лицо навстречу дождю: птицы небесные… не одни вы владеете тайнами.
Но как ужасно жаль, что он так и не сподобился найти кого-то, кому бы поведать свой последний секрет. Одного человека, который никому более не расскажет. Право, жалко, подумал он, снова поднявши зонт и продолжив свой путь с влажным от дождя лицом, завидуя птицам, у которых в моросящей тьме над головой есть незримые конфиденты.
А Ли, который пресыщен конфидентами, но сидит на диете по причине тонкости кишки, завидует гусиной явной и немногословной честности.
«Лети скорей! После отдохнешь!» — кричат они мне, Питерс, отчего у меня возникает такое чувство, что если я замешкаюсь здесь еще немного — пущу корпи прямо через шипованные подметки. «Лети! Лети!» — кричат они, и я от греха подальше задираю ноги над чересчур землистым полом этого транспортного средства… Что ж за поколение наше, дружище, что нас так волнуют перипетии с корнями? Посмотри: мы целенаправленно рыщем по всей Америке, экипированные сандалиями, гитарами и бакенбардами, в неустанных поисках утраченных корней… и притом всеми силами отбрыкиваемся от самого позорного конца: осесть и сродниться с почвой. Что, спрашивается, станем мы делать с предметом наших поисков, когда преуспеем в них? Когда не имеем ни малейшего намерения прирасти к этим корням — какое применение им может быть, на твой взгляд? Заварить чай, как из сассафраса, чтоб прослабило? Засунуть в кедровый ларец, рядом с дипломом и резюме? Для меня это всегда было загадкой…
Еще одна разрозненная стая пролетает, довольно низко, судя по звуку. Я потер запотевшее лобовое стекло и приложился к получившейся амбразуре. Небо затянуто все тем же сумраком из дождя и дыма, что висел над фургоном, как нетерпеливая мечта о вечерней выпивке, рожденная в обеденный перерыв. Гуси, должно быть, пролетали в нескольких ярдах от меня, но лишь легкая серая зыбь колыхала тот сумрак. Эти птицы рождали во мне странное сомнение, сродни тому, что возникает, когда смотришь телеинтервью в записи: за много-много дней я слышал их тысячи и тысячи, а видел лишь одного.
Гусиный крик унесся туда, где работали Хэнк с Джо и с Энди. Я видел, как Хэнк замер, прислушался, бросился к лебедке за дробовиком, передумал, остановился и стоял, изготовившись к их появлению, с голыми руками, но сугубо разбойничьим видом в своем капюшоне и с закопченной рожей. Небось надумал сигануть в небо и ухватить зубами на лету, как одна горилла в нью-йоркском зоопарке ловила голубей… сжирала с перьями и требухой до собственного приземления!
Но вот он расслабился и распрямился: тоже их не видел. Прыгун он, может, и могучий, но его глаза почти так же бессильны против этого орегонского сумрака, что и мои.
Я опустил взгляд на смутные карандашные каракули в моем гроссбухе; я уж на полдюжины страниц намел сугробов дискурсивной философии и дури, пытаясь объяснить Питерсу, почему так надолго завис в Орегоне против ожиданий. Уж сколько дней меня снедал недуг нерешительности, и я мог до черта времени потратить, объясняя это Питерсу, когда и сам был далек от понимания. Микробов, повинных в нынешнем моем приступе долготерпения, было куда труднее выявить, нежели тех, что мне удалось наконец извести в том споре после охоты на лис. Тот первый приступ лучше поддавался диагностике; еще до лисьей охоты я отчасти понимал причины своего замедления до полной остановки: в то время я был столь неуверен в себе, в своей схеме и в ситуации вообще, что остановка означала лишь, что машинист чертовски заблудился и не чует боле рельсов под колесами. Но не сейчас, не в этот раз, ведь нынче все иначе…
В отличие от прошлого моего паралича, сейчас я точно знал, куда еду, был уверен в маршруте и, самое главное, на сей раз у меня было четкое представление о том, чего добьюсь, достигнув цели.
Как и все коварные мечтатели, я больше смаковал фантазии, нежели созревшие плоды трудов, и по этой причине трудился не торопясь, упиваясь своим мастерством (я упивался, точно; я считаю, никак нельзя обойти вниманием школярские радости, кои дарят нам грезы наяву), но план давно уже был готов и пущен в действие. По сути, кампания приближалась к финалу. Все было готово. Все меры предосторожности предприняты, все подготовительные мероприятия проведены. Все пластиковые бомбы подложены, и кнопка ждет лишь моего пальца. Уже который день. Но я — колебался. Чего тянуть, — риторически вопрошал я, — зачем?..
Ли морщится от докучного гусиного крика, но не таков крик на слух Хэнка. Его всегда занимали голоса пернатой дичи: на охоте ли, на работе ли, он наблюдал, увязывал птичьи сигналы с иными событиями, и уже умел почувствовать заранее, до крика, о чем он возвестит. Но ни одна из птиц в низинах и горах, ни одна из музык их странствий не порождала в нем такого яркого чувства грядущей тоски, одинокой, чистой, жгучей, как зов канадского гуся…
Пеганки, к примеру, когда идут на рассвете на малой высоте, крикливыми стайками по шесть-восемь штук, своими меланхолическими причитаниями могут вогнать в некоторую жалость: бедные, глупые уточки, их так шокирует выстрел, что они начинают кругами кружить над тобой, смотрят, как их становится все меньше… но пеганки — как поганки, не великая им жалость. А вот свиязей — уже пожальче. Да и поумнее они, чем пеганки. И красивше. И когда летят они на закате, покрякивая-поквакивая, заманивая манки, что вы расставили, тянут оранжевые лапки, готовясь на воду сесть, а головки сияют последними отсветами дня, и не лиловые, и не зеленые, и не то чтоб жестко-голубые, как пламя газового резака, а цвета такие сочные, что аж воздух ими звенит: этакие переливы, будто стеклышки мозаичные друг об друга звякают на ветру… И когда стая свиязей заходит — у вас сердце екает, как будто фейерверком небо разукрашено. Сильное зрелище. Вот так же сердечко екает, когда кукурузное поле пополудни вдруг взрывается-разверзается игрищами диких индюков. Или когда древесную утку в руки возьмешь. А она-то на самом деле куда красивей свиязи, но только в полете той красоты не увидишь, потому как утка древесная всегда норовит меж деревьев прошмыгнуть, обычно и не знаешь, что это она, пока с воды не подымешь. Тогда — да, красавец селезень, алый, пурпурный, белый, будто клоун в перьях, но уже, правда, мертвый…
И если чирка подстрелить — героем себя тоже не ощущаешь, но если упустить — будто вовсе дурак-дураком, потому что мелкие они и шустрые, и повадка у них есть каверзная: проноситься в двух футах над вами и с двухсотмильной скоростью, словно дразнят. Лысухи — те непременно посрамят вас: бьешь и бьешь их на воде до посинения, а они только мечутся, не взлетают. Даже неловко. Казарка — скорее рассмешит: такая большая птица и такой сиплый-дохлый в ней писк. Но вот выпь, ой-ой, крик выпи, когда ночью с собаками выходишь и слышишь это отродье на болоте — будто самое окостенелое одиночество свихнулось и вопиет о своей неприкаянности в этом окоченелом мире — этот крик такую тоску нагоняет, что уж зарекаешься когда-либо еще выбираться в этот ее стылый-постылый мир.
Но никто из всех птиц со всеми своими писками-кряками-кваками ни в какое сравнение нейдет с криком канадских гусей, когда те пролетают над крышами в ненастную ночь. С одной стороны, нельзя не пожалеть бедняжек, что так, видно, несладко им продираться сквозь эту дрянь. С другой — начинаешь и себя жалеть, потому как понимаешь: коли уж погода погнала такую здоровущую птицу, как канадский гусь, — зима точно не за горами…
Но главное — помимо чистого слушательского интересу — от гусиного крика чувствуешь себя вроде как малость околпаченным. Потому как пусть ничто человеческое тебе не чуждо — теплая постель, сухой кров, обильная жратва, развлекуха всякая… и все есть — но вот не полетишь, хоть тресни. В смысле, не в самолете, а вот чтоб самому по себе, разбежаться, оттолкнуться, расправить крылья — да и взлететь!
Впрочем, я рад был их слышать. Первый звоночек их миграции поступил, когда я крепил фундамент лишними брусьями с лесопилки: все одно сучковатые, не продашь… они летели в сорока-пятидесяти футах над водой — достаточно низко, чтоб поймать парочку-другую лучом фонарика о восьми батарейках, что мне Джо Бен оставил. И я так возликовал с их песни, что прямо в небо им об этом и проорал.
Пролет гусей всегда оставляет человека малость в непонятках. Может, потому что летят они так далеко, а проходят так быстро… пара недель каких-то — и все. Чертовски короткое время по сравнению со многими другими явлениями этого мира, такое короткое, что я никогда и вовек не устану слушать их песню. Даже не обсуждается. Это как утомиться, скажем, цветением рододендронов, двенадцать дней в году. Или — пресытиться «серебряной» оттепелью, что раз в десять лет выпадает, которая превращает весь этот сраный мир, от ржавых труб и чокеров до кедровых иголочек, в сплошной и ослепительный хрустальный перезвон… Так как же можно пресытиться, устать от таких мимолетных красотищ?
Та первая стая прошла над рекой, и я решил, что мне тоже пора убираться. Я вообще задержался там, на берегу, так долго, только для того, чтоб маленько остыть после разговора с Ивенрайтом и этим Дрэгером. Пришли, понимаешь, от дела отвлекли, медом уши мазали, интересовались, не затруднит ли меня разорвать контракт с «ТЛВ», чтоб не быть бякой для милого профсоюза… так прямо и спросили, а Ивенрайт, клоун, делал вид, будто несказанно разочаровался, когда я не сказал «да»! У меня аж в глазах все покраснело. Я уж опасался, что мы с Флойдом прямо там, на мостках, и сцепимся. А сказать по правде, не больно-то я был в настроении и тем более — в кондиции для новой потасовки, сразу-то после вчерашней стычки с Верзилой Ньютоном…
Собрал свою инвентарню и понес в сарай. И по дороге слышал еще пару стаек, помельче. А уж в постель когда забрался — прошла ватага поизрядней. Авангард выдвинулся, решил я. Первые птички, выпихнутые штормом из штата Вашингтон. Основную-то массу, из Канады, — жди в четверг-пятницу, не раньше. Подумал я это — и вырубился. Но в ту же ночь — в понедельник утром, если точно, — пролетела мама родная какая стая! Тысячи, судя по гомону. И тогда я решил: ну, значит, все в одно время снялись. Жаль. Значит, в этот год все скопом пролетели, в одну ночь или около того… потому что никак не меньше половины всего ихнего мирового поголовья пролетело над нашими головами в один момент.
Но — опять не угадал. Они все шли и шли, теми же темпами, и такими же мощными стаями, а то и похлеще, каждую божью ночь, с того первого понедельника в ноябре до самого Благодарения. Ну, по ночам временами неважно выходило. Потому что когда Ивенрайт решился объявить нам «войну народную» и забодал своими пикетами, полуночными диверсиями и всем прочим, я смерть как нуждался в драгоценных часах покоя; лежу себе, кемарю уже, а тут стая, так шумно и так низко, что едва не утаскивает меня прямо с постели.
Но несмотря на все на это, через неделю их тоскливых воплей, я все-таки малость расстроился, когда Джоби наконец очухался и заметил их (Джоби и артналетом — не то что гуселетом не разбудишь!) и за завтраком возжаждал застрелить птичку к ужину.
— Без балды, Хэнкус: прошла такая огроменная стаища… громадная просто стая.
Я сообщил ему, что уж неделю пытаюсь уснуть под стаями не меньшими, чем его огроменная.
— Что ж, тем более славно! Как думаешь, своими бдениями по их милости ты уже заработал право одного из них съесть? — И он распрыгался по всей кухне в носках, стиснув голову руками. — О да, Хэнкус. Давно мечтал об этом — и вот мой день. Такой ветрюга, как сегодня ночью, просто обязан был отбить кого-то от стаи, как думаешь? Ага, готов спорить, к утру осталось полным-полно бедных одиноких гусиков. Летают туда-сюда, места не находят… Ага?
Он обернулся, ухмыльнулся мне через всю кухню, и все переминался с ноги на ногу да держал голову руками на свой манер детского восторга. (Джо стоит и смотрит…) Он знал мое отношение к гусиной охоте. Даже если б я никогда ничего не говорил, он знал, что невеликая мне радость видеть их тушки. (Джо стоит и смотрит на меня. На уме у него кое-что поболе хорошей прочистки ствола. Что-то странное.) Хотя я всегда терпеть не мог слюнтяев, которые долдонят: «Ой, как не стыдно убивать такого милого олешка? Как можно быть таким жестоким и подлым?»
…Не шибко-то я уважаю эти благостные мыслишки, потому что мне всегда казалось: куда позорней и трусливей для человека, когда он и знать ничего не желает о своем стейке, кроме как добыть его в супермаркете, в нарезке и без косточек, когда милая свинка или милый барашек на себя не больше, чем картошка фри, похожи… То бишь, если уж жрешь какую-либо тварь живую — так знай и помни, что истинно живой она была, но кому-то пришлось грохнуть бедняжку и настругать ломтями…
(Вив спускается по лестнице. Джо мельком смотрит на нее, потом снова на меня.)
Но про охоту так думать не положено. Нет, охотники — сплошь «злодеи и подлецы», как обзываются всякие гандоны с Востока, которые полагают, будто фазанов разводят на витрине, под стеклом, с рождения ощипанных и потрошеных. (Да, что-то странное…)
— Так что думаешь, Хэнк? — снова спросил Джоби. Я сел, дразня его, потягивая паузу за хвост. Я сказал ему, что для начала подумал, будто он тачдаун пробивать собрался со штрафной линии, судя по тому, как за голову ухватился — но гол не стоит таких жертв. Он руки опустил. — Я в смысле, с дробовиком прогуляться? — не отставал он.
— Конечно, почему нет? — сказал я. — За двадцать лет охоты ты не потревожил ни единого гусиного перышка, так что сегодня мне вряд ли грозит пойнтерская работа на болотах.
А он:
— Посмотрим… У меня предчувствие…
Ну, как это обычно и случается с пророчествами Джоби, сегодня был не его день: ни единого гуся мы так и не увидели. Но и не мой день: Ивенрайт насовал нам всяких стальных палок в бревна и — прощай пила-двухходовка за шестьсот долларов. Но, по сути, и на улице Ивенрайта фанфары не гремели: поломка дала мне долгожданный повод перевести команду в леса. Сразу, правда, я им этого не сказал. Отпустил домой на остаток дня, решил — начнем в понедельник. Вряд ли они так уж горят в лесах трудиться.
В общем, в тот день все отсосали по полной, кроме того гусака, что Джоби поклялся подстрелить к ужину. Где б он ни был, он легко отделался. За ужином Джо объяснил, почему пророчество сорвалось:
— Туман слишком плотный, видимость ограниченная. Не сделал поправку на туман.
— И со мной завсегда та же фигня, — приперчил старик. — И на ветер поправку делаю, и на дождь, а вот чтоб на туман — ни хрена ни разу не задавалось.
Мы еще немножко поподкалывали Джо. Он сказал, мол, о'кей, завтра видно будет…
— Завтра с утречка, если я чего в приметах разумею, похолодает! Ага… ветер крепкий, чтоб стаю рассеять, а морозца хватит, чтоб придавить туман поутру… Завтра ждите с гусем в мешке!
Все верно, на другой день ударила холодина, вполне достаточная, чтоб отморозить яйца, но все равно Джоби не повезло. Холод придавил туман, но он и гусей придавил куда-то в теплые укрытия. Гомон стоял всю ночь, а вот днем ни единого гуся даже не слышали. Похолодало. Так, что ночью аж небо прояснилось. И потому, когда я наказывал Вив обзвонить родичей и пригласить к обеду в воскресенье, назавтра, попросил также напомнить им, чтоб антифриз залили — так ртуть упала. Мне чертовски не хотелось, чтоб кто-то не прибыл, потерялся. Все они так или иначе прекрасно представляли себе, что к чему, что я хочу пригласить их скопом в леса…
— А поскольку я знаю, как многие из них ненавидят труд на природе, — сказал я ей, — лучше б не давать им предлога отлынить от собрания, вроде того, что радиатор лопнул… Пускай хотя бы завтра перед нашим домом на той стороне стоит такое стадо машин, чтоб Ивенрайт проникся, на кого прет.
После обеда в то воскресенье мы с Джоби взяли ружья и отправились на болота поглядеть, не застряло ли там чего гусеобразного. Я набил ягдташ крохалями, но больше никого мы не встретили. Вернулись домой к четырем, и когда я, обогнув сарай, глянул через реку — едва глазам своим поверил: такого скопища-толчища машин я там уж много лет не наблюдал. Явились почти все Стэмперы в радиусе пятидесяти миль, как связанные с лесным бизнесом, так и нет. Я подивился такому отклику на приглашение в последнюю минуту, но гораздо больше подивился их всеобщему дружелюбивому и бодрому настроению. Это-то меня и сразило! Я знал, что они в курсе моей затеи в общих чертах, но все они вели себя так, будто притомились работать на лесопилке и страждут хорошенько поразмяться на здоровом ядреном воздухе.
И даже погода взяла курс на дружелюбие: дождь почти прекратился, хотя ртуть здорово приподнялась с утра. А меж тучек внезапно и ярко проблескивало солнышко, озаряя горы так, что они искрились, будто сахарные. К вечеру дождь унялся совсем, и в тучах порой проглядывала зябкая луна. Ветер улегся, запели птички. Никто не спрашивал о повестке заседания, поэтому я ничего не говорил. Мы, собравшись у крылечка подле поленицы, просто торчали там, трепались о собаках, вспоминали прошлые великие охоты и нарезали стружку для растопки. А кто не строгал — стояли себе у стеночки и глазели, как детишки качают друг друга на качелях из старой покрышки, которые Джо под навесом смастерил. Я вышел и вкрутил в патрон под козырьком здоровую трехсотваттовку, и мужики, стоявшие на берегу, бросили тени через всю реку, аж до железнодорожной насыпи. И всякий раз, когда на гравийную площадку подкатывала новая битком набитая машина, эти тени набегали на нее, интересуясь, кто еще прибыл.
— Это ж Джимми! Провалиться, если не он, — орали тени через реку. — Джимми, эй, Джимми… это ты?
В ответ по воде катился голос:
— Кто-нибудь перевезет меня, или мне вброд переправляться?
Тогда кто-то из нас топал по доскам к лодке, подбирал вновь прибывшего и отводил его к крылечку, чтоб он тоже мог поболтать о собаках, построгать и погадать, кто в очередной машине заявился.
— Кто на этот раз? Мартин? Эй, Мартин, это ты?
Я стоял и млел. Голоса тянулись, как и тени, и росли над рекой в сгущающейся темноте. Мне это напомнило Рождество и прочие общие сборища, когда мы, ребятишками, сидели у окошка и слушали, как мужики смеются, травят байки и орут через реку. Славные дни, когда тени всегда были большими, а настрой всегда был бодрым.
Они продолжали прибывать. Все такие улыбчивые и приветливые. Никто не спрашивал, в чем дело, и я не вызывался растолковывать. Я даже отложил начало собрания — вдруг кто еще нагрянет, как я народу объяснил, но на самом деле — мне просто жалко было портить такой вечер деловыми базарами. Но вскоре меня так разобрало любопытство, что я поднялся к Вив поинтересоваться, что она такого наговорила им по телефону, что вся орда в такой радости.
Малыш был там, лежал ничком на ее топчане, голый по пояс. Вив обрабатывала здоровенный синяк под правой лопаткой, полученный им на днях. (В комнате жарко, воняет винтергриновым маслом. Мне вспоминается спортивная раздевалка…
— Как спина, Малой? — спрашиваю.
— Не знаю, — отвечает он. Лежит, щекой на руке, отвернувшись к стенке. — Наверное, получше. Я уж готов был смириться с инвалидностью, если б не Вив со своим священнодейственным массажем. Теперь, думаю, позвоночник удастся спасти.
— Что ж, — говорю, — тогда с матраса не шибко-то слезай, а то снова развезет. — Он не отвечает. Больше никакие слова мне на ум не идут. В комнате тесно и как-то странновато. — Завтра… по-любому, Малой, завтра у нас появятся новые работники, так что не переживай. Пока боль не отпустит — можешь порулить немного, — говорю я. Расстегиваю куртку, недоумевая, почему в его присутствии всегда так жарко в комнате? Может, у него лучевая болезнь?..)
Я подошел и спросил Вив:
— Лапочка, ты не припомнишь, что говорила родне, когда обзванивала их вчера? — Она посмотрела на меня, задрав брови на свой манер, в сугубой озадаченности, и глаза такие огромные, что провалиться можно. (На ней «левайсы» и пуловер в желто-зеленую полоску — он чем-то напоминает мне рощу солнечным осенним утром. Руки красные от мази. У Ли красная спина…)
— Господи, милый, — сказала она, задумавшись. — Точных слов не помню. Просто сказала, как ты просил: чтоб приехали к ужину, потому что после этой поломки тебе надо кое-что уладить. И напомнила про антифриз…
— Сколько ты звонков сделала?
— Четыре или пять, так где-то. Жене Орланда… Нетти… Лу… И попросила их кое-кому звякнуть. А что?
— Если б хоть раз за последний час спустилась по лестнице — поняла бы, что. Там собрались все наши, до седьмой и далее воды. И все ведут себя так, будто на день рождения пришли, и каждый — на свой.
— Все? — Ее это обескуражило. Она поднялась с колен, смахнула волосы со лба. — У меня припасов человек на пятнадцать хватит… а все — это сколько?
— Добрых четыре, а то и пять десятков, считая детей.
Она аж на цыпочки приподнялась.
— Пятьдесят? — переспросила она. — У нас никогда столько гостей не было, даже на Рождество!
— Знаю. А сейчас — есть. И у каждого радости полные штаны — вот чего я объяснить не могу…
Тут Ли сказал:
— Я могу объяснить.
— Что объяснить? — спросил я. — Почему они все приехали? Или почему они такие довольные?
— Всё. — Он по-прежнему лежал, лицом к стене, на этой дневной кушеточке Вив. (Он поскребывает стену ногтем.) — Потому что, — сказал он, не поворачивая головы, — у них у всех сложилось впечатление, будто ты продал бизнес.
— Продал?
— Именно, — продолжал он. — И как пайщики…