Русские тексты Гаврилов Юрий
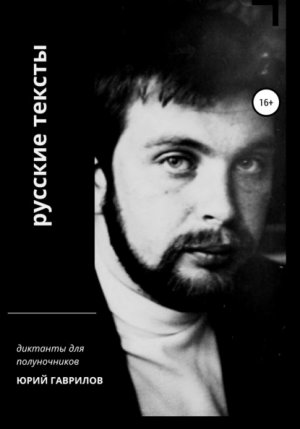
Удивительные строки были написаны им в эвакуации:
- Обители севера строгого,
- Накрытые небом, как крышей!
- На вас, захолустные логова,
- Написано: сим победиши.
Тут впору обидеться: «захолустные логова», а замечательно другое – поэт трезво и определенно понимал, откуда придет победа – из безответной жертвенности русской провинции: «сим победиши».
Очарование социализмом, Сталиным вылетело из головы, как дурной хмель перед лицом страшного горя.
Слово «почва» не имеет никакого отношения к «почвенничеству» как разновидности славянофильства.
Почва – это просто земля, огород, лопата, тяпка – физический труд, который любил Пастернак.
Близость к земле, переворачивание ее пластов, наблюдение за мудростью её сокровенной жизни весьма способствует пониманию:
- И того, что вселенная проще,
- Чем иной полагает хитрец,
- Что как в воду опущена роща,
- Что всему свой приходит конец.
- Что глазами бессмысленно хлопать,
- Когда все пред тобой сожжено,
- И осенняя белая копоть
- Паутиною тянет в окно.
Хромая и фантастическая проза «Доктора Живаго» напоминала устную речь Пастернака с ее «перескоками» и требовала новизны «поэтической тетради».
Блестящие, великолепные строки наподобие: «Февраль. Достать чернил и плакать…» или «Пью горечь тубероз, осенних горечь…» в романе были бы не к месту.
«Доктор Живаго» требовал стихов окончательных, страшных, как кровь горлом, чтобы о любви можно было сказать так:
- Как будто бы железом,
- Обмокнутым в сурьму,
- Тебя вели нарезом
- По сердцу моему.
Испытана сурьмой и железом любовь неслыханного века мировых и гражданских войн и испепеляющих революций.
И как в этом мире, казалось бы, навсегда покончившем с человеком, в этой «бездне унижений» не погасла свеча, горевшая когда-то в феврале, а отныне – в вечности; какова же была сила творческой энергии, чтобы писать стихи после вселенских катастроф:
- Сколько надо отваги,
- Чтоб играть на века
- Как играют овраги,
- Как играет река.
Роман стал итогом жизни, в нем развязаны все концы и начала, в нем прозвучали мотивы «полной гибели всерьез» и, казалось бы, невозможной надежды:
- Зачем же плачет даль в тумане
- И горько пахнет перегной?
- На то ведь и мое призванье,
- Чтоб не скучали расстояния,
- Чтоб за городскою гранью
- Земле не тосковать одной.
- Для этого весною ранней
- Со мною сходятся друзья,
- И наши вечера – прощанья,
- Пирушки наши – завещанья,
- Чтоб тайная струя страданья
- Согрела холод бытия.
Что к этому добавить?
Разве что слезы…
Булгаков Михаил Афанасьевич
Начищенные до блеска лаковые штиблеты (Что за сияющая чепуха? – как говаривал Филипп Филиппович Преображенский), застегнутый на все пуговицы серый пиджак (пятна на костюме собственноручно выведены бензином), безупречный пробор (так заинтриговавший издателя-редактора Рудольфи) и, черт подери, монокль. Вот отчебучил – монокль в большевистской Москве!
Ба, да это маска! Непревзойденный виртуоз литературной мистификации, он был завзятый пересмешник в жизни.
К моноклю полагалась новая жена. Прежняя, Татьяна Николаевна Лаппа, спасшая его от смерти, больше не годилась – слишком проста и добродетельна.
Булгаков стремился в мир литературы, а стало быть – в мир Бондаревских, Лесосековых, Агапенковых, он очень хотел стать своим среди них (не без помощи монокля).
Он еще не знал, что самый талантливый из этой разношерстной публики (А. Н. Толстой – Измаил Бондаревский в «Театральном романе») в подпитии говорил о себе: «грязный, бесчестный шут».
Тем не менее, требовалась жена из литературных сфер, а еще лучше – из бывших, какая-нибудь Белорусско-Балтийская («12 стульев»). Или – самый крутой расклад – вернувшаяся в Совдепию белая эмигрантка, блудная дочь отечества.
Новая жена, Любовь Евгеньевна Белозерская, была, по выражению Михаила Афанасьевича, «баба бойкая и расторопная».
Она энергично и ловко, словно сам черт ей помогал, взялась улаживать литературные и бытовые дела мужа: появилась отдельная квартира, а в квартире мебель красного дерева.
Любовь Евгеньевна была дамой светской, ее знала половина Москвы, другую половину знала она сама. Она брала уроки верховой езды в какой-то военной или конной школе и лихо водила автомобиль одного симпатичного ведомства.
Расстался Михаил Афанасьевич с Любовью Евгеньевной безо всякого сожаления: «– Вы были женаты? – Ну да… На этой… Вареньке, Манечке… нет Вареньке… впрочем, я не помню» («Мастер и Маргарита»).
Умел, надо заметить, Михаил Афанасьевич быть галантным, когда хотел.
«Белая гвардия», первый роман Булгакова, против ожидания автора мир не перевернул и прошел почти незамеченным.
Но из «Белой гвардии» выросли «Дни Турбиных», пьеса, связавшая Михаила Афанасьевича с МХАТом, вместе с которым Булгаков-драматург прожил недолгую, но такую раскаленную историю любви, предательства (предательство – стихия театра, его воздух), разбитых надежд и сокрушительных триумфов.
Именно благодаря «Дням Турбиных» имя Булгакова становиться известным Сталину и тот уже не выпустит Михаила Афанасьевича из поля зрения. Драма Мольера, «Кабала святош», повторится в тоталитарном государстве с полупросвещенным государем.
И от судеб спасенья нет…
А тем временем «Собачье сердце» показало, насколько выросло мастерство Булгакова-прозаика, и как далеко простираются его амбиции писателя-философа; сатирическая тога стала ему маловата.
Неотразимый Евстигнеев в роли Филиппа Филипповича Преображенского отвел глаза зрителю, а ведь именно он, а не Шариков или Швондер, главная мишень сатирических стрел. Профессор и сам признает это: «вот что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей».
Интеллигенция вовлекла десятки миллионов Шариковых в непосильный для них чудовищный социальный эксперимент и сама стала его первой жертвой.
В 1925 году Булгаков осознал: места ему в мире советских литераторов нет. «Я хочу сказать правду, … полную правду. Я вчера видел новый мир, и этот мир мне противен. Я в него не пойду. Он чужой мир. Отвратительный мир. Надо держать это в полном секрете».
Секрета не получилось: 7 мая 1926 года дневник «Под пятой» и рукопись «Собачьего сердца» были конфискованы сотрудниками ОГПУ. Булгакова стали таскать на допросы.
О литературной среде большевистской России в дневнике было сказано: «затхлая, советская, рабская рвань».
В 1928 году Булгаков буквально заболел «романом о дьяволе», а в 1929 познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской (в девичестве Нюрнберг), которая была замужем вторым браком за видным советским военным.
Булгаков понимал, что писать большое мистическое произведение, ежеминутно опасаясь обыска и отвлекаясь на допросы, крайне затруднительно, а, положа руку на сердце, и вовсе невозможно.
В один миг все сошлось – Елена Сергеевна была ведьмой, много лет состояла на связи с органами; ее родная сестра, Ольга Сергеевна Бокшанская, секретарь В. И. Немировича-Данченко, была классной машинисткой и сотрудницей ОГПУ; муж Бокшанской, актер МХАТа Евгений Калужский, тоже служил не только в театре, так что за ними, новыми родственниками, Булгаков был как за каменной стеной.
Бокшанская относила на Лубянку обязательную копию всех булгаковских рукописей, Калужский – записи разговоров Михаила Афанасьевича дома и в театре; материалы Елены Сергеевны правил сам писатель. Никаких обысков, никаких допросов – не печаль, не воздыхание, а жизнь бесконечная…
Приказ Сталина не трогать Михаила Афанасьевича безусловно был (с 1926 года и до самого смертного часа чекисты напрямую ни разу не побеспокоили писателя) и появился, скорее всего, после телефонного разговора Сталин – Булгаков 18 апреля 1930 года.
Этот разговор стал следствием самоубийства Маяковского, письма Булгакова советскому правительству о своем крайне бедственном положении, просьбы отпустить его за границу и донесения Елены Сергеевны в ГПУ, написанного под диктовку Михаила Афанасьевича.
Сомнительно, чтобы Сталин пообещал Булгакову личную встречу: больше всего кремлевский горец боялся оказаться смешным, а Булгаков был известный шутник и человек непредсказуемый.
Сталин чрезвычайно интересовал Булгакова и не только как явление инфернальное; со Сталиным Пастернак хотел говорить «о жизни, о смерти», Мандельштам описывал воображаемую и желанную встречу с тезкой. И Булгаков думал, что личная встреча развяжет роковые концы и изменит его судьбу мистического писателя.
Но встречи не произошло, ее и не могло быть, Сталин предпочитал видеться с теми, кто был ему по плечу и был ему ясен – Фадеев, Симонов…
Заочно Сталин начисто переиграл Булгакова в истории с пьесой «Батум»: дал дописать, убедиться, что это продукт второй свежести, заочно похвалил и безусловно запретил дурацкую затею.
Булгаков был убит, и поделом – он надумал объехать по кривой изощренного мастера политической интриги, кунктатора и скорпиона.
Максиму Горькому, пришедшему к нему просить разрешить к постановке пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца», Сталин сказал, что он не против (пьеса не пошла) и добавил: «Эрдман мелко берет. Вот Булгаков! Тот здорово берет. Против шерсти берет! Это мне нравится!»
Булгаков нравился настолько, что с 1926 года Сталин не позволил опубликовать ни строчки, ни в чем ни разу не помог, но не дал погибнуть в кровавой мясорубке 30-х годов.
Хочешь баловаться, называясь Г. П. Уховым – изволь; хочешь изобразить, как власть, лаская, душит художника – валяй, мы даже на сцене дозволим «Кабалу святош», но недолго; надумал писать роман о дьяволе и Понтии Пилате – воспаряй, а мы тебя к ремеслу пристроим: либретто будешь тачать в Большом театре.
Сразу после смерти в квартире Михаила Афанасьевича раздался звонок из Кремля: справлялись, действительно ли умер писатель Булгаков.
Опасались, что он и на сей раз пошутил, устроил розыгрыш?
И возможно, один человек в Кремле, получив подтверждение печального известия, раскурил трубку и сказал: «Ну что же, он заслужил покой».
Безусловно, Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна были созданы друг для друга, они прожили свои недолгие восемь лет в любви и согласии, что, впрочем, не мешало Елене Сергеевне посылать на глазах умирающего Булгакова призывные знаки Фадееву. Надо признать, что в данном случае Елену Сергеевну полностью извиняет то обстоятельство, что у Фадеева был большой черный автомобиль и личный шофер, похожий на грача; обстоятельства, предусмотрительно описанные Булгаковым в «Мастере и Маргарите».
Великие заслуги Елены Сергеевны перед русской литературой неоспоримы: благодаря ей «закатный роман» был дописан, она сохранила его и донесла до читателя любимое детище Булгакова.
Мистический роман породил мистическую ауру из загадок, разгадок, тайн и открытий, домыслов, фантазий и использования каббалы и бинома Ньютона даже там, где ларчик просто открывался.
Михаил Афанасьевич одновременно писал «Мастера и Маргариту» и «Записки покойника» («Театральный роман») и не смог удержаться от отменной шутки.
В «Театральном романе» почти все персонажи, даже самые малозначительные, имеют конкретного прототипа, и у каждого старого мхатовца хранилась заветная тетрадочка, где было написано: «Панин Михаил Александрович – Марков Павел Александрович; Романус Оскар – Израклевский Борис Львович» – и так до курьеров и капельдинеров.
В эмигрантской печати такой же список прототипов (совершенно произвольный) был приложен к «Собачьему сердцу».
И с той же куцей меркой масса читателей и критиков приступила к «Мастеру и Маргарите» и скоро те, кто оказался поумнее, поняли: «нет, мудрено» – как предвидел один предшественник Михаила Афанасьевича.
Чета Булгаковых, на первый взгляд, как нельзя лучше подходила на роль Мастера и Маргариты, но, на второй взгляд, неожиданно обнаружилось, что Мастер и Маргарита умерли, а Булгаковы вроде бы как живы. Потом обнаружились и другие несоответствия, но были и совпадения поразительные.
Назначенный на роль Воланда Ленин не курил и никогда не носил при себе портсигаров, даже и золотых.
Кроме того, ссылать философов на Соловки была его затея и будь то в его силах, он бы и Канта туда упек заодно с Махом и Авенариусом.
С хронологией, затмениями и полнолуниями выходил полный кабак – светила упорно указывали, что московские события романа совпали с похоронами мастера пролетарской культуры Максима Горького. И ни астрономы, ни астрологи, ни таблицы пасхалий, ни сам диакон Андрей Кураев не смогли внести ясности.
Словом, произошла путаница, о чем, правда по другому поводу, есть предупреждение в мистическом романе.
Относительно «Мастера и Маргариты» у Булгакова была установка: «чтобы прочли…»
Конечно, он шифровал роман разными кодами, таковы были обстоятельства его создания, и элемент мистификации и головоломки в романе есть.
Но неужели Михаил Афанасьевич мечтал, чтобы его любимый роман прочла кучка эрудированных халдеев?
«Я хотел служить народу» – Булгаков жил и творил в могучей гуманистической традиции русской литературы, и утверждать, что Булгаков писал для посвященных – значит оскорблять его подвиг.
Самый верный способ понять «мистический роман» (а неизбежность подобного романа мистическим образом возникла еще в 1918 году, когда большевики установили в тихом, богоспасаемом городе Свияжске памятник Иуде, грозившему небу кулаком) – это поверить автору и пойти за ним.
Поверить, что жарким душным вечером на Патриарших прудах некто Берлиоз, в котором при желании можно обнаружить несимпатичные черты Максима Горького, Леопольда Авербаха, Михаила Кольцова и многих других Вронских и Гронских, и некто Бездомный (Безыменский, Голодный), малограмотный комсомольский поэт, коих было пруд пруди, встретили Сатану, на которого очень похожи все диктаторы кошмарного ХХ века от Ленина до Мао Цзе-Дуна.
И далее по чудесному тексту Булгакова, не смущаясь своим незнанием апокрифов и биографии прокуратора Понтия Пилата.
Булгаков совершил назначенное: «дописать прежде, чем умереть». Дописать, «чтобы прочитали».
Прочитали мы с вами.
Черный, страшный камень неизвестного происхождения, но с собственным именем Голгофа, служил основанием для креста на могиле Гоголя. После того, как Гоголя перезахоронили с Даниловского на Новодевичий и на новой могиле установили помпезный и нелепый памятник «от Советского Правительства», Голгофа несколько лет пролежала, никем не востребованная, во дворе гранильной мастерской.
Ждала Булгакова.
И нерукотворным памятником легла на его могилу.
Мандельштам Осип Эмильевич
Он родился в «трудной и запутанной» еврейской семье, «хаосе иудейском».
Синагога и Пятикнижие были чужды Мандельштаму с детства: «Крепкий румяный русский год катился по календарю с крашенными яйцами, елками, стальными финскими коньками… А тут же путался призрак – новый год в сентябре и невеселые страшные праздники, терзающие слух дикими именами: Рош-Гашана и Иом-кипур».
Отбросив клочки черно-желтого ритуала, он хотел стать европейцем: «я лютеран люблю богослуженье»; написал блестящее эссе о Чаадаеве, которого чтил как единственного русского, до кончиков ногтей проникшегося духом Европы.
В 1933 году, в голодном Старом Крыму он напишет:
- В Европе холодно. В Италии темно.
- Власть отвратительна, как руки брадобрея.
Он уже чувствовал холодные липкие пальцы власти на своей шее, знал: «мне на плечи кидается век-волкодав», но поэт не мог не написать самоубийственное (слабое, прямолинейное):
- Мы живем, под собою не чуя страны,
- Наши речи за десять шагов не слышны,
- А где хватит на полразговорца,
- Там припомнят кремлевского горца.
- Его толстые пальцы, как черви жирны…
Последнее особенно оскорбило Сталина.
Поэт написал, а человек, как только на горло легли стальные пальцы Лубянки, поименно назвал всех, кому читал запретное – никого не забыл.
Из мира иллюзий:
- И только и свету —
- что в звездной колючей неправде,
- А жизнь промелькнет
- театрального капора пеной…
- ……………………………………………………..
- И меня только равный убьет, –
(если бы). Он навсегда ушел в безумие, в ГУЛАГ, в яму.
У Петрарки написано: дни счастья промчались, как быстрые лани, счастье превратилось в дым.
Мандельштам переводит:
- Промчались дни мои, как бы оленей косящий бег.
- Срок счастья был короче, чем взмах ресницы,
- Из последней мочи я в горсть зажал лишь пепел
- Наслаждений…
«Косящий бег» и «пепел наслаждений» делают Петрарку Мандельштамом.
А если же совсем кратко о Мандельштаме, то вот так:
- Играй же, на разрыв аорты,
- С кошачьей головой во рту,
- Три черта было – ты четвертый:
- Последний чудный черт в цвету!
Что это? О чем? Это – поэзией о поэзии.
Цветаева Марина Ивановна
Бытие оправдывается только в слове.
Мартин Хайдеггер.
Она прожила две полновесных жизни (еще одну жизнь, самую любимую – во сне), две жизни, которые с раннего детства постоянно соприкасались, переплетались, но никогда не сливались в одну и кончились в разное время.
Она была вынуждена постоянно покидать ту, подлинную, исполненную божественной полноты, гармонии познания и страдания, где ее окружали «вороха сонного пуха, водопад, пены холмы», где она ощущала в потоке горящего флогистона «полета вольного упорство»; ей приходилось оставлять пребывание в Слове ради «нищей и тесной жизни: жизнь, как она есть», спускаться на землю, по которой она и передвигаться толком не умела, вечно натыкаясь на препятствия, по большей части ею самой и созданные.
Она не хотела признавать никаких пут и условностей, часто вела себя вызывающе глупо («от романтизма и высокомерия, которые руководят моей жизнью»). Ее эгоизм был беспределен, ее желания – высшим законом; она знала о себе, что ей можно все, что она – по ту сторону добра и зла.
Надежда Яковлевна Мандельштам говаривала, что в последние годы жизни Ахматовой отношение к ней ее почитательниц превратилось в один большой сюсюк.
Случай Цветаевой – это уже гранд-сюсюк, вид религиозного поклонения, и всякий, не желающий сливаться в сюсюкании – ересиарх, глумящийся над «благоуханной легендой».
Заключенные в магический круг «благоухающей легенды» глухи и слепы, но Цветаева многое о себе понимает очень хорошо: ««Не могу» – естественные границы человеческой души («не должна!» – для нее вовсе не существует – авт.). Снимите их – душа сольется с хаосом, следовательно, перестанет быть. Я на этой дороге».
Цветаева очень рано осознала, куда ведет этот путь (самоубийство или сумасшествие – «я кончу как Шуман»), но сойти с него не могла: «В том-то и дело, что я ни в чем не раскаиваюсь. Это – моя родная тьма».
Марина Ивановна в мифе, который она творила всю жизнь, всегда «бредет с кошелкою базарной»; весь день – хлопоты: рынок, стряпня, уборка, на ночь глядя – шитье и штопка, пишет урывками при лунном свете, на уголке кухонного стола.
Послушаем Ариадну, вязавшую шапочки, дабы кормить семью: «Как она писала… Отметая все дела, все неотложности, на пустой поджарый живот».
И так с утра и до глубокой ночи. И все письма в двух, а то и в трех экземплярах. И все в сшитых тетрадях, чтобы ни один листок не затерялся.
После рождения Мура мать превратила Ариадну в няньку, домработницу, надомницу и писала о ней подруге: «наступила в кошелку с кошачьим песком и, рассыпав, две недели подряд так и не подмела, топча этот песок ежеминутно, ибо был у входной двери».
А взять совок и веник? За две недели в голову не пришло.
Дьявол прячется в деталях.
«Я в жизни своей отсутствую» – это сказано безо всякого сожаления.
В ноябре 1825 года, в письме Вяземскому из Михайловского, Пушкин позволил себе неосторожное высказывание: «Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому, что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он, мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок – не так как вы, – иначе».
Но уже через два года, одумавшись, Пушкин предпочитает низкую истину возвышающему обману:
- Пока не требует поэта
- К священной жертве Аполлон,
- В забвенье суетного света
- Он малодушно погружен;
- Молчит его святая лира,
- Душа вкушает хладный сон,
- И меж детей ничтожных мира,
- Быть может, всех ничтожней он.
Как близко можно подходить к поэту, дабы пристальное всматривание в его жизнь не начало бы разрушать обаяние его поэзии?
Случай Пушкина утверждает: сколь угодно, так как Пушкин прожил свои строки – его нравственные представления, эстетические предпочтения не разошлись в пространстве и времени с идеалами его поэзии.
Случай Цветаевой убеждает в обратном. Иппокрена, источник на горе Геликон, дарующий поэтам вдохновение, был выбит копытом Пегаса. А Пегас родился из капель крови чудовища, Медузы Горгоны. «Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз» – вот образный ряд, непроизвольно встающий в воображении при имени Марины Ивановны. Неустанно создавая миф о себе, Цветаева постоянно встает в позу, а поза плоха хотя бы тем, что она – ложь.
Но факт, как говаривал Воланд, упрямая вещь.
Скандальный роман Марины Ивановны и Софьи Парнок сломал жизнь Сергею Эфрону (поза: Сережа – единственный); от позора он бежал в армию, попал в чуждую ему офицерскую среду, подчинился ей – «сел не в тот поезд», – по его словам. Поезд привез его в эмиграцию, где он пересел на встречный экспресс, а тот без замедления доставил его на конечную станцию «Чекистский застенок».
Нравственная гибель Сергея Яковлевича происходила на глазах Цветаевой; он стал бригадиром палачей НКВД: Эфрон и его подручные должны были убить не только Людвига Порецкого (Игнатия Рейсса), порвавшего с чекистами, но и отравить его жену и ребенка. Но Сергей Яковлевич ничего до конца доводить не научился: Рейсса убили, труп спрятать не сумели, до жены, ребенка и бумаг покойного не добрались и бежали в СССР.
Когда безработный Эфрон оказался при деньгах, Марина Ивановна сделала вид, что не заметила этого (а ведь источник мог быть только один – поганый, отравленный). У нее в это время один любовный ураган сменялся другим.
Когда Эфрон бежал, и Цветаева оказалась в полицейском участке, она, по обыкновению встала в позу, страницами декламировала Корнеля, Расина и других патетических авторов, а о муже сказала: «Он самый честный, самый благородный… Его доверие могло быть обмануто. Мое – к нему – никогда».
Сотрудники Сюрте, люди практические, были ошарашены, послушав «двойною рифмой оперенный стих», оценили горячность Марины Ивановны: «Она безумна» и отпустили ее с миром.
Пока единственно любимый муж бился на Дону за белое дело, Марина Ивановна сгорала в одновременном огне многих любовных романов и пыталась понять смысл страсти нежной:
«Я, робко:
– Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем, мыслью?
Антокольский, еще более робко:
– Это вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром».
Дочери, Ариадна и Ирина, мешали божественным посиделкам, и мать отдала их в приют – чтобы спасти от голода!
Младшая, двухлетняя Ирина, не была, в отличие от Ариадны, выставочным ребенком – она отставала в развитии, болела, часто плакала, Марина Ивановна запирала ее в чулан.
Ни в чем не верила Цветаева большевикам, а вот что в приюте в Кунцеве детей будут кормить американскими продуктами – поверила сразу и безоговорочно.
В приюте воровали (кто бы мог подумать!), дети голодали, умоляли мать забрать их домой, но она лишь перестала их посещать. Случайно она узнала о смерти Ирины, но хоронить дочь не пошла.
Оказавшись с Ариадной за границей, Цветаева не спешит воссоединяться с мужем – у нее «ураганы». Не по летам взрослая дочь смотрит на «ураганы» широко открытыми глазами.
Долго и многое терпевший любимый муж писал: «отдаваться с головой своему урагану стало для нее необходимостью, воздухом ее жизни… Всегда все строится на самообмане. Если ничтожество возбудителя урагана обнаруживается скоро, Марина предается ураганному же отчаянию. Сегодня отчаяние, завтра восторг и через день снова отчаяние.
Громадная печь, для разогрева которой нужны дрова, дрова, дрова…»
Неудавшийся гипнотизер и вполне состоявшийся психопат доктор Фрейд пришел бы в буйный восторг, если бы прочитал подобное описание интимной жизни женщины.
Сергей Яковлевич не знал, что Марина Ивановна еще в 23 году написала «возбудителю» очередного урагана, дезертировавшему с любовного фронта, как только он понял, с кем связался: «Ведь я не для жизни. У меня все – пожар! Я могу вести десять отношений (хороши «отношения»!)[9], сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он – единственный. А малейшего поворота головы от себя – не терплю. Мне БОЛЬНО. Все, не как у людей. Могу жить только во сне…»
Простой, здравый смысл не вмещает: как это так – «все пожар» и «совместная нелепая жизнь, напитанной ложью, неумелой конспирацией и прочими ядами» (Сергей Эфрон).
Тут уж – либо пожар, либо ложь и неумелая конспирация.
Ну, представьте себе на минуту конспирацию при пожаре. Это все поза – про пожар, а проще – адюльтер вульгарный, еще проще, по-русски – блуд обыкновенный.
Вот и «благоухающая легенда». Что в сухом остатке? Печь в грязной кухне (Марина Ивановна, где бы ни жила, буквально зарастала грязью), дрова никудышные – все осина да валежник, непризнанные гении, будущие самоубийцы, агенты ГПУ; пламя гудит в ненасытной печи, на плите прыгает медный чайник поэзии и писает кипятком.
Дров не стало, стихи не пишутся, печь остыла, жить незачем.
- Остолбеневши, как бревно,
- Оставшееся от аллеи,
- Мне все – равны, мне все – равно,
- И, может быть, всего ровнее —
- Роднее бывшего – всего.
- Все признаки с меня, все меты,
- Все даты – как рукой смело:
- Душа, родившаяся – где-то.
- Так край меня не уберег
- Мой, что и самый зоркий сыщик
- Вдоль всей души, всей – поперек!
- Родимого пятна не сыщет!
- Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
- И все – равно, и все – едино.
- Но если по дороге куст
- Встает – особенно рябина…
Вот и стихи! Ах, какие стихи! Ай да, Цветаева! Ай да, сукина дочь!
Мускулистый, энергичный – тут к каждой строчке надо подходить с опаской: гляди – лягнет!
А «куст, особенно рябина…» – это же – как вольтову дугу в руках подержать.
От таких слов кровь закипает и сворачивается, какие уж там рассадинские мурашки. Эти стихи хрустят, как белые грузди, трещат и лопаются от своей полноты и крепости, это – то самое толстовское: «от поэзии, как от родниковой воды, должно зубы ломить!»
Не новаторство, подлинное или мнимое, как дешевое штукарство Маяковского, это уникальность, неповторимость, невоспроизводимость. К Цветаевой некого подверстать, затопчет, как конь; она вне школ, в стороне от направлений, она самой собой стояла, «одна – против всех»!
Анемичная европейская поэзия – на ее небосклон шведские академики в телескопы глаза просмотрели: кого бы увенчать Нобелевской премией? И это – во время взрыва сверхновой звезды! Да, двойные стандарты не вчера родились… А впрочем, как такое перевести на иностранный:
- Как живется вам – хлопочется —
- Ежится? Встается как?
- С пошлиной бессмертной пошлости
- Как справляетесь, бедняк?
- ………………………………………..
- Свойственнее и съедобней —
- Снедь? Приестся – не пеняй…
- Как живется вам с подобием —
- Вам, поправшему Синай!
- Как живется вам с чужою,
- Здешнею? Ребром – люба?
- Стыд Зевесовой вожжою
- Не охлестывает лба?
- Как живется вам – здоровится —
- Можется? Поется – как?
- С язвою бессмертной совести
- Как справляетесь, бедняк?
Ай да, Цветаева! Ай да… Впрочем, это мы уже говорили…
- Поэт – издалека заводит речь.
- Поэта – далеко заводит речь.
И завела, через девять лет:
- Ни к городу и не к селу —
- Езжай, мой сын, в свою страну, —
- В край – всем краям наоборот! –
- Куда назад идти – вперед
- Идти…
- ……………………………………
- Наша совесть – не ваша совесть!
- Полно! – Вольно! – О всем забыв,
- Дети, сами пишите повесть
- Дней своих и страстей своих.
Гром этих стихов да еще «Челюскинцев» заставил вздрогнуть эмиграцию, от нее дружно отвернулись все[10]; после бегства Сергея ни стихами, ни переводами она с Муром прокормиться уже не могла. Выживать в Париже судомойкой не позволяла гордость, оставался жестокий выбор: какая-нибудь Аргентина, где никто ее не знает, или Россия, СССР.
Молчало усталое сердце или вещало беду – аз не вем того.
Она хотела родить сына по переписке Борису Пастернаку. А родила от «одновременно единственного» резидента ОГПУ Константина Родзевича.
С несостоявшимся отцом Мура она встретится на писательском конгрессе в Париже в 35 году.
«Какая невстреча!»
Еще бы! Пастернак повел Цветаеву в магазин, чтобы она примерила платье, которое он хотел купить своей жене.
«И я, дура была, что любила тебя столько лет напролом».
Она, к счастью, так и не узнала, что Пастернак сказал о «невстрече»: «В Марине был концентрат женских истерик».
Родзевич поматросил и женился на Марии Булгаковой, он, которому были написаны две поэмы: «Поэма горы» и «Поэма конца», которая заканчивалась словами: «я не вижу тебя совместно ни с одной…» Но это – поэзия и поза, а в жизни прекрасно дружили семьями.
И тут же новый ураган, Анатолий Штейгер, молодой поэт, чахотка. Конечно же, он гений, брошены все, она летит в санаторий (и деньги всегда находились на море, на санаторий), пишет лихорадочные строки: «Вы мой захват и улов, как сегодняшний остаток римского виадука, с бьющей сквозь него зарею…»
Штейгер быть руиной виадука не пожелал, вечерней зарей – Цветаева ему в матери годилась, не прельстился и бежал.
«Горько. Глупо. Жалко», – подвела итог Цветаева. И все эти афронты, убеги от нее, унижения – как с гуся вода.
Ариадна уличила мать во лжи, получила пощечину и ушла из дома; в марте 1937 года она уехала в СССР.
Борис Пастернак предупреждал: «Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк». Яснее, определеннее он сказать не мог, но кто лучше Цветаевой понимал птичий язык ее многолетнего эпистолярного урагана.
В эмиграции ее называли «царь-дура», все связи были порваны, работы никакой.
Она пишет ослепительные, невыносимые «Стихи к Чехии».
После прочтения этих строк любой человек с живым сердцем на какое-то время умирает, потому что эту боль невозможно превозмочь.
«Отказываюсь быть», – петушиное слово произнесено, судьба решена, это – не конец главы, это – конец книги, конец жизни, в которой слагались стихи. Но жить жизнью нищей и тесной, жизнью, как она есть, она обязана, потому что существует Мур.
«Мой сын будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я его себе заказала», – писала Марина Ивановна Пастернаку.
Не буди лихо, пока оно тихо.
Мур родился одаренным мальчиком и едва научившись говорить, он сказал матери: «Мама, вы в маленьком совсем не эгоист: все отдаете, всех жалеете. Но зато в большом вы страшный эгоист и совсем даже не христианин».
Подросши, он на все увещевания матери монотонно отвечал: «Мама, вы – дура».
В Елабуге он сказал: «Кого-то из нас вынесут из этого дома вперед ногами», а мать уже знала кого, она еще в 40-м году писала: «Ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть. С этим (поэзией) кончено. Все уродливо и страшно».
Но жить в России зрячему всегда страшно. Это большое мужество и терпение надо иметь – жить в России, а страдать – это уж само собой.
Марина Ивановна повесилась на веревке, которую Пастернак принес для сборов в московскую квартиру, чтобы перевязать чемодан.
Мур сказал: «Моя мать повесилась. И правильно сделала», и на похороны не пошел. Круг замкнулся.
Вот несколько строк из ее дневников и писем:
Ничего на свете не любила, кроме собственной души.
Любовь – это оттуда, из «мира тел».
Любовь – соединение душ, но не тел.
– здесь некоторое противоречие, и далее:
Любви я не люблю и не чту. (к Рильке)
Я не живу на своих устах, и тот, кто меня целует, минует меня.
Не хочу писать любовные стихи, ибо за земную любовь и гроша не дам, – а писала всю жизнь только о любви.
Личная жизнь не удалась. Причин несколько. Главная в том, что я – я.
Пошлину «бессмертной пошлости» она заплатила сполна.
«Лицом повернутая к Богу, ты тянешься к нему с земли…» (Пастернак) – ханжество и «благоухающая легенда», если под Богом (конечно же!) подразумевается Христос. К христианству она относилась насмешливо и свысока.
Лицом повернутая к Слову?
«Но если есть Страшный суд слова – на нем я чиста».
И это – единственная правда в ее жизни, сквозь все позы, все «ураганы», всех «единственных» и близких, единственная страшная правда – перед своим богом, Словом, она чиста.
Могилу ее не нашли, и крест стоит над пустой матерой глиной.
- О слезы на глазах!
- Плач гнева и любви…
Плачу и рыдаю.
Маяковский Владимир Владимирович
«Я – величайший Дон Кихот», – громогласно аттестовал себя поэт. («Весь я в чем-то испанском…»)
Напялил желтую кофту и «штаны из бархата голоса», украденные у какого-то француза и громогласно (только так!) поведал читателю о рыцарских подвигах:
«Я люблю смотреть, как умирают дети», «отца …. обольем керосином и в улицы пустим – для иллюминаций», «любую красивую, юную, души не растрачу, изнасилую и в сердце плюну ей!» – может быть, конечно, это все очень талантливо, особенно плевок в сердце, гармония, так сказать, благородного намерения и изысканной топорности формы, но смердит невыносимо.
Правда, одни говорят, что это – поэтическое озорство, другие зрят здесь удаль молодецкую.
Вот уж воистину, для красного словца не пожалеешь и отца.
И все это – чтобы привлечь внимание публики, чтобы старички негодовали, критики рвали и метали, барышни шептались, падали в обморок и мечтали об изнасиловании, а юноши бледные кромсали мамашины юбки на блузы.
В почитательницах недостатка не было – патологическая харизма Маяковского, и то обстоятельство, что часть человечества, прежде всего – женщины, рождаются исключительно для того, чтобы благоговеть и творить себе кумира, срабатывали без осечки.
Футуризм – искусство площадное, вульгарное, крикливое, и это лучше и глубже всех угадал Северянин. И королем поэтов был выбран он, а не Маяковский, хотя именно Владимир Владимирович сбрасывал с парохода современности Пушкина вместе с русской орфографией.
Северянину и Бурлюку футуризм был впору, Маяковскому – не по росту, мощное поэтическое дарование Владимира Владимировича было шире любой школы и направления, его нельзя было обрамить, его можно было реализовать или уничтожить, что Маяковский и проделал с присущим ему блеском.
Революция была им воспринята как футуристическая феерия; он стал чернорабочим революции, и волочил на себе поденщину «Окон Роста», стал «штабс-маляром в Моссельпроме» и накропал бездарные «150 миллионов». «Комфуты» послали вирши Ленину, тот был краток: «Это хулиганский коммунизм. Вздор, махровая глупость и претенциозность».






