Русские тексты Гаврилов Юрий
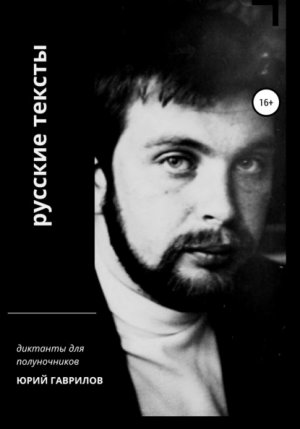
Он купил поместье, Мария Павловна собирала и пускала в дело собственный, не покупной крыжовник, а Антон Павлович пил чай с ароматным вареньем. Он написал «Ионыча», а Гончаров – «Обыкновенную историю», кому какой талант Бог послал; но «Ионыч» – не рассказ, а в своем роде «Обыкновенная история» – такой себе роман на 18 страниц.
Сколько он написал удивительных романов—рассказов в 90–е годы: «О любви», «Душечка», Дама с собачкой», а еще раньше «Попрыгунью» и «Скучную историю».
Л. Н. Толстой о рассказе Л. Андреева «О семи повешенных» отозвался кратко: «Он пугает, а мне не страшно». Где тот смельчак, который может сказать такое о «Скучной истории» и «Ионыче»? А ведь Чехов никого не пугал, для этого он был слишком деликатен, статный великан с ясными глазами.
Помощник капитана каботажного пароходика, доставившего Чехова из Севастополя в Ялту, хам, драчун и самодур, на него решительно не было управы, придравшись к какой-то ерунде, стал избивать чеховского носильщика-татарина. И вдруг татарин бросил вещи на палубу, начал бить себя в грудь руками, таращить глаза и, наступая на помощника капитана, кричать на всю пристань: «Что! Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты вот кого ударил!» – и показал на Чехова. Помощника как ветром сдуло. И не про татарина и помощника это – про Чехова.
Свои предсмертные слова он произнес по-немецки – почему?
Горький Максим
(Алексей Максимович Пешков)
Горький многолик, как боги индуизма; он выдумал себе детство, себя в людях, свои университеты; это хорошие книги, но как автобиография они гроша ломаного не стоят; правдивы в них – только свинцовые мерзости жизни.
Кем он только не был (не в том смысле, что посудомоем на пароходе и т. д.): ницшеанцем «Челкаша» и Сатина, революционным романтиком песен о птицах, утешителем Лукой из собственной пьесы «На дне», суровым реалистом, социал-демократом, богоискателем и богостроителем, лениноборцем и автором апологетического очерка «Ленин», хлебосольным хозяином виллы на Капри и приживалом при Сталине.
Он проштудировал столько книг, сколько не прочли два любых вместе взятых русских классика на выбор; несметное количество раз был женат и с бывшими женами не расставался: они при нем составляли общество «небольшое, смешанное и бесхитростное», – как сказал бы Воланд.
Он начал писать свою «Войну и мир», свою «Сагу о Форсайтах» – «Жизнь Клима Самгина», но, вернувшись из-за безденежья в Москву из Италии, стал лукавить, петлять, довел действие до февраля 17 года и испугался продолжения.
Его «Мещане» – одна из лучших пьес русского репертуара; он был слаб на слезу – поэтические восторги и сантименты заставляли его привычно и беззвучно плакать; он многим помог в жизни и многим спас жизнь.
Во время поездки на Соловки заключенный мальчик поведал ему страшную тайну первого советского концлагеря и сказал, что его расстреляют за разговор с Горьким один на один. Горький погладил мальчика по голове, заплакал и молча вышел из барака, но этой детской кровью Горький себя не уберег.
Римляне были убеждены: никому не повредит то, что он не сказал, но это не про нас писано.
А ещё он сказал о палаче Ежове: «Чудесный несгибаемый большевик».
С волками жить – по-волчьи выть…
Бунин Иван Алексеевич
Ему было пятьдесят, когда за кормой парохода навсегда осталась родина, amata nobis quantum amabitur nulla[5].
Никто не знал и не мог знать: он покидает Россию, чтобы стать великим русским писателем, первым нашим Нобелевским лауреатом.
В конце жизни он писал о себе: «Я происхожу из старого дворянского рода (чуждый сословного чванства, «старинным родом» Бунин отвечал разливанному морю революционного хамства окаянных дней).
Род наш дал России немало видных деятелей… в области литературной известны Анна Бунина… и Василий Жуковский…
Известности более или менее широкой я не имел долго, ибо не принадлежал ни к одной литературной школе…
Популярность моя началась с того времени, когда я напечатал свою «Деревню». Это было начало целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где по причине незнания народа, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения мои вызвали страстные враждебные отклики».
Уже после «Деревни» энциклопедия Брокгауза и Эфрона утверждала: «У Бунина небольшое, но очень изящное дарование».
Видимо автор статьи воспринимал Бунина, как и Набоков, прежде всего в качестве поэта.
Советская «Литературная энциклопедия» еще до Нобелевской премии: «Место Бунина в истории русской литературы очень значительно». Но отчего же столь значительную историческую фигуру в СССР не издавали и за пределами энциклопедий не упоминали вовсе?
«Деревня» – не лучшее произведение Бунина, но в «Деревне» есть ощущение того, что колеблется земная твердь и может треснуть, и хлынут потоки огненной лавы, и небеса прольются дождями горючей серы.
И темный, завистливый и склонный к самоистреблению мужик затопит все и вся, смоет остатки дворянства, и без того тронутого разложением; уничтожит ненавистную ему барскую и чуждую городскую культуру. На земле устроится почвенное мужицкое царство, Беловодье, где все будут пахать, никто не будет знать грамоты, не будет ни барина, ни стражника, ни чиновника, а только оратай да царь в смрадных сапогах.
В «Жизни Арсеньева» Бунин рассказывает нам о становлении характера героя, о рождении писателя.
Ходасевичу показалось, что «Жизнь Арсеньева» – это биография вымышленного лица», это – не Бунин.
Еще как Бунин!
Два обстоятельства оказались решающими в судьбе Нобелевского лауреата: «очень русское было все то, среди чего я жил в мои отроческие годы».
И это «очень русское», так претившее многим тогда и поныне, насмерть проросло в юную душу и позволило Бунину, находясь во Франции, жить в России.
«Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого опять-таки никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому истреблению».
Эта страсть, по Бунину, присуща всем сословиям в России.
Может быть, поэтому возобладал «русский бунтовщик, революционер, всегда до нелепости отрешенный от действительности и ее презирающий, ни в малейшей мере не хотящий подчиниться рассудку, расчету».
Главный Бунина (и мой) вопрос: «И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно короткий срок?»
Молчит Русь, не дает ответа.
И у нас нет ответа, и у Бунина его не было. Именно поэтому он не написал ни своего «Солнца мертвых», ни своего «Тихого Дона».
«Я кладу на себя медленное крестное знамение, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной».
Безошибочно найденные, безупречно расставленные слова…
Стиль!
Такой и весь Бунин.
«Теперь я уже … хотел быть любимым и любить, оставаясь свободным и во всем первенствующим».
Подобные намерения плюс желчность, предвзятость и острый ядовитый язык…
Писательница Наталья Теффи призывала «создать еще одну эмигрантскую организацию – «Объединение людей, обиженных Иваном Буниным».
Единственным человеком, сумевшим разделить и облегчить мучительное одиночество Ивана Алексеевича была его вторая жена, Вера Николаевна Муромцева, но и ее он обрек на унизительное существование под одной крышей со своей «ученицей» Галиной Кузнецовой.
Бунин часто повторял любимую поговорку своего отца: «Я – не червонец, чтобы всем нравиться».
После Нобелевской премии (а ее в 20–30 годы по справедливости заслуживали, кроме Бунина, Горький, Куприн, Мережковский, Шмелев, Цветаева – но у Европы для России «один ответ – отказ») Иван Алексеевич, слывший человеком прижимистым, больше сто тысяч франков пожертвовал на нуждающихся русских писателей.
Нобелевский лауреат, 1933, разумеется, попал в поле внимания товарища Сталина и его секретных служб.
Начинается операция «Уловление»…
Еще в 1931 году Бунина неожиданно навестила молодая супружеская пара из Ленинграда, люди «оттуда» запели песнь о сладкой жизни «Алешки», Алексея Николаевича Толстого.
В 1936 году произошла «случайная» встреча в Париже с самим Алешкой, жгучий интерес к которому сохранялся у Бунина до последних дней жизни.
«Третий Толстой» поведал Ивану Алексеевичу самое дорогое, задушевное, то, что было у него левее сердца: «Поместье, три автомобиля, английские трубки, каких у самого английского короля нету…»
Бунин отозвался нейтрально: «Я поспешил переменить разговор» – все-таки питал слабость к коллекционеру курительных принадлежностей.
После войны в качестве зазывалы выступил советский посол в Париже Богомолов, но успеха не снискал.
Тогда Сталин направил в столицу Франции специальный самолет, на борту которого был черный хлеб, зернистая икра, «Московская водка» и Константин Симонов.
Пир был дан на квартире писателя Пантелеймонова. На заверения Симонова, что суровые времена прошли, Бунин сурово вопрошал: «Где Бабель? Где Пильняк? Где Мейерхольд?» Симонов тупо ел Ивана Алексеевича глазами и по-солдатски отвечал: «Не могу знать!», для убедительности мотая головой.
Жена Симонова, актриса Валентина Серова, улучив минутку, шепнула Бунину: «Не верьте им… Они вас обманут…»
Бунин в советскую Россию не вернулся, а его книги пришли к нам после смерти Сталина.
«Темные аллеи» – книга о любви, прекрасной, трагической, безнадежной.
Даже взаимная любовь в «Темных аллеях» заканчивается тем, что «в комнатах у нас запахло креозотом, а весною я схоронил ее».
В любви нельзя оставаться «свободным и во всем первенствующим»…
И все же: Руся, Антигона, Таня, Галя Ганская.
- Их было много… Что я знаю?
- Я только странно повторяю
- Их золотые имена.
- Их было много. Но одною
- Чертой объединил их я,
- Одной безумной красотою,
- Чье имя: страсть и жизнь моя…
- («И я любил. И я изведал…»)
Эти женщины живут и поныне благодаря солнечному удару, который испытал от их близости, подлинной или воображаемой, писатель Иван Бунин.
«Его болезненно занимали текучесть времени, старость, смерть». Это все, что сумел увидеть в Бунине Набоков. Еще бы, его самого занимала куда более значительная жгучая тайна педофилии…
Еще один специалист по Бунину, его ученик, просто неотразим в «Траве забвения»: «Я понял: Бунин променял две самые драгоценные вещи – Родину и Революцию – на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости».
О, Господи!
А теперь о Бунине скажу я.
Читаю: «Недавно я шел вверх по Болховской…» и вспоминаю – давненько, полвека эдак назад, спускался я Рождественским бульваром и увидел над Петровским монастырем – «Закат, морозит, расчищается закатное небо, и оттуда, из этого зеленого прозрачного и холодного неба озаряет весь город светлый вечерний свет, непонятную тоску которого невозможно выразить».
И от восторга перед чудом этого зеленого прозрачного неба и от непостижимости этой неземной тоски мне захотелось немедленно умереть.
Но я выжил, потому что должен был прочитать Ивана Бунина.
Блок Александр Александрович
И опять ледяной влажный ветер с Невы, тревожный огонь, мерцающий за камышами пролива, ветер, ветер на всем Божьем свете, предчувствие бури, возмездия, Блок.
- Блок ждал этой бури и встряски,
- Ее огневые штрихи
- Боязнью и жаждой развязки
- Легли в его жизнь и стихи.
На перекрестке дорог, там, где хоронили самоубийц, Блок перевенчал Россию с ветром и стал трагическим тенором эпохи. Тенором потому, что были еще и «Снежная маска», и «Арфы и скрипки», «Незнакомка» и «Кармен», и поезд, летящий цыганскою песней сквозь брызги золотого, как небо Аи.
Блок – вечная загадка:
- Что счастие? Вечерние прохлады
- В темнеющем саду, в лесной глуши?
- Иль мрачные, порочные услады
- Вина, страстей, погибели души?
Блок выбрал погибель… Вечный Веничка русской словесности, как все пропойцы-интеллигенты, тайно и безнадежно влюбленный в Блока, в железнодорожной поэме «Москва – Петушки» (помните: «Тоска дорожная, железная свистела, сердце разрывая…») вплотную подошел к разгадке неотвратимо убийственного воздействия поэмы «Соловьиный сад» на каждого пьющего русского человека…
«Не стучал я, сама отворила неприступные двери она…» А Блоку нельзя было не отворить: перед ним распахивались дали, к нему с высоты слетал ветер, в его объятия падали Прекрасные Дамы и Карменситы, его пеленала метель и целовала вьюга.
И голова шла кругом, горела огнем:
- И в зареве его – твоя безумна младость…
- Всё – музыка и свет: нет счастья, нет измен…
- Мелодией одной звучат печаль и радость…
- Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.
Но трезвый Блок знал и горечь измен, и позор паденья. Временно оглохнув от выстрела «Авроры», Блок призвал всех, всех, всех слушать музыку революции и полюбить мировой пожар в крови. Почувствовав на себе надвигающееся удушье, он, уходя, восславил тайную свободу, ту, которую у нас никто и никогда отнять не сможет. И одно из имен сокровенных ее – Блок.
Толстой Алексей Николаевич (Бостром)
Он родился в эпицентре любовного урагана.
Действующие лица и исполнители этой драмы: благородный отец – граф Николай Александрович Толстой, человек нрава буйного, особенно во хмелю (если верить жене); мать – Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, упряма, эмансипе, любительница чтения и театров, писательница. С мужем ей было боязно и скучно, и она бежала от двух сыновей и супруга к мещанину Алексею Аполлоновичу Бострому, мелкому землевладельцу, но крупному либералу самых что ни на есть прогрессивных взглядов.
Граф настиг любовников, стрелял в Бострома в купе поезда, ранил его в ногу, пленил беглянку, вернул ее в лоно семьи и в ту же ночь изнасиловал (по поздней версии Александры Леонтьевны).
Суд, графиня на кресте поклялась, что младенец, ею рожденный – сын Бострома; старших детей оставили отцу, а младшего – отдали матери, и Алексея Николаевича воспитал отчим.
Впрочем, когда в 1900 году благородный отец скончался, эмансипе стала с той же пылкостью клясться, что Алексей – сын графа.
На кону стоял титул и доля малая наследства.
Тут-то юный Бостром показал, что ни от чего материального и не материального, что можно бы было заполучить, он отказаться просто не в силах.
Он вырвал свои 30000, титул, а русская литература обрела третьего Толстого; в литературных кругах его прозвали «Алешкой».
Он был не очень хорош собой (в лице присутствовало нечто бабье), но это не мешало успеху у женщин; большой бонвиван, он больше всего в жизни ценил деньги и порождаемые ими удобства и удовольствия.
Еще больше он любил французские вина и русские горькие настойки под буженину и окорок; еще больше…
Впрочем, из этих перечислений получился бы претолстый том.
«Петр принял заскорузлыми пальцами стакан, медленно выпил водку и стал грызть огурец. Это был его завтрак.
…Голову Петра пригнуло к плечу, глаз перекосило… сорвавшись со стола, огромный царский кулак ударил ему [Меньшикову] в рот, разбил губы, и из сладких глаз светлейшего брызнувшие слезы смешались с кровью. Он дрожал, не вытираясь. И у всех отлегло от сердца…
Так начинался обычный, будничный, питербурхский денек».
Ну а дальше дела, пыточный застенок, пьянство и блуд «ассамблеи»[6] и, на сон грядущий, опять застенок.
Таков «День Петра», написанный Толстым в 1918. Толстой не принял октябрьского переворота и большевистской диктатуры, а «Петр – первый русский большевик» (Макс Волошин). Нисколько не изменил своего отношения к петровскому излому Алексей Толстой и в 1928, написав пьесу «На дыбе», где в центре внимания оказались одиночество тирана и обреченность его дела.
Осталось лишь перечитать «Петра I» и мы увидим ряд волшебных изменений… Что за диво?
А между тем, ничего сверхъестественного тут нет.
«Я циник, мне на все наплевать! Я простой смертный, который хочет жить, и все тут. Мое литературное творчество? Мне и на него наплевать! Я написал Петра I и попал в западню.
Пока я писал, «отец народов» пересмотрел историю России…
Я переписал заново, в согласии с открытиями партии, а теперь я готовлю третью, и, надеюсь, последнюю вариацию этой вещи, т. к. вторая вариация тоже не удовлетворила нашего Иосифа…
Приходится, действительно, быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Эренбург – все они акробаты. Но они – не графы. А я – граф, черт подери…
Моя доля очень трудна».
Вот за эту долю горемычную, за холуйский «хлеб», за грязную фальшивку, «Дневники Вырубовой», за подпись под Катынским лживым протоколом,[7] он и получил поместье в Царском Селе, которым бесстыдно хвастался Бунину.
Так он рассчитался с детством, отрочеством и юностью. Издеваться он любил, в том числе и над собой, над своим огромным талантом.
Его ранняя проза посвящена теме оскудения и вырождения усадебного дворянства. С самой неприглядной стороны изображен быт дворянина-помещика, разорившегося, опустившегося, потерявшего вкус к культурной жизни…
Обломки прошлого, вырождающиеся самодуры, бездельники, беспредметные мечтатели…
В противоположность Бунину, Б. Зайцеву и другим эпигонам дворянской литературы, Толстой, безжалостно разрушая поэтическую легенду «дворянских гнезд», реалистически обнажал застойный и пошлый быт усадебной России начала века… разоблачал белую эмиграцию и послевоенную Европу.
«Толстой издевается над всеми реликвиями и верованиями былой русской аристократии» (СЛЭ).
Есть две прекрасные картины, рисующие духовный мир Алексея Николаевича: булгаковский Измаил Александрович Бондаревский и знаменитый портрет ветчины на фоне писателя работы Петра Кончаловского.
«Чист, бел, свеж, ясен, весел, прост был Измаил Александрович» облаченный в «добротнейший материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм».
А далее, конечно же «потекла вспухшая лакированная кулебяка»; и «про Париж» – про Кондрюкова, которого вырвало на министра, про прохвоста Катькина, плюнувшего в морду другому прохвосту; про фрак, шапокляк и штаны за 1000 франков; про шляпку – 3000 франков; про шиш в Гранд-Опера – ну что еще мог увидеть в Париже интеллигентный человек!
Советская жизнь графа – это история посильнее «Фауста» Гете. Это история о том, как человек обменяет не душу, души у него никогда не было, но высокий Божий дар на яичницу с грудинкой и штоф «Ерофеича».
Почти все, что он написал после возвращения, либо талантливо (Петр I), но лживо, либо бездарно, лживо и мертво.
А «Золотой ключик» жив.
Sic transit…
Хлебников Велимир
«Русь, ты вся поцелуй на морозе!..» – звонко расцеловал Родину Велимир (Виктор) Владимирович Хлебников, родоначальник русского футуризма, будетлянин, реформатор языка, Председатель Земного Шара, человек не от мира сего.
Первое условие постижения Хлебникова – принять его правила игры. Видимо, самой правдоподобной автобиографией поэта будет та, где он сообщает о себе следующее: «Вступил в брачные узы со Смертью и, таким образом, женат. Перейдя перешеек, соединяющий водоемы Волги и Лены, заставил несколько пригоршней воды проплыть вместо Каспийского моря в Ледовитое… Дал людям способы предвидеть будущее, нашел закон поколений, через законы быта сюда прорубил окно в звезды… В 1913 году был назван великим гением современности, каковое звание храню и по сие время».
Уже при жизни запутанный с головы до ног в рубище легенды, судьболов, знакомый всем и неизвестный никому, очарованный странник, всю жизнь бродивший вдоль великих рек и поперек времени, он подарил нам чтение, ни с чем не сравнимое. Вязнешь в зауми, задыхаешься и вдруг, очень просто:
- Гонимый – кем, почем я знаю?
- Вопросом: поцелуев в жизни сколько?
И сразу понимаешь, как можно жить «сквозь птичий гам»; и что «свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы»; и по-другому быть не может, потому что уже «прилетели, улетели стая легких времерей»; а «У колодца расколоться так хотела бы вода, чтоб в болотце с позолотцей отразились повода». Кто только из русских поэтов не испил этой живой водицы: Маяковский, Заболоцкий, Пастернак, Сельвинский, Кирсанов, Луговской, Вознесенский, – всех не перечислишь.
- Сегодня снова я пойду
- Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
- И войско песен поведу
- С прибоем рынка в поединок!
Но, видимо, победа оставалась за рынком, все свое движимое и недвижимое имущество Председатель Земного Шара носил с собой в старой наволочке. На потертых листочках полууставом были начертаны стихи, например такие:
- Годы, люди и народы
- Убегают навсегда,
- Как текучая вода.
- В гибком зеркале природы
- Звезды, небо, рыбы – мы,
- Боги – призраки у тьмы.
Это и есть окно в звезды, через него смотрел на жизнь Хлебников, «мирооси данник звездный»; гений, как будто впервые увидевший мир.
- Эй, молодчики-купчики,
- Ветерок в голове!
- В пугачевском тулупчике
- Я иду по Москве.
Гумилев Николай Степанович
Гимназию юноша, плохо учившийся, но рано начавший писать стихи, заканчивал в Царском Селе. Директором гимназии был замечательный поэт И. Ф. Анненский. Он оказал большое влияние на Гумилева, а Анна Ахматова называла Иннокентия Федоровича своим главным учителем.
В конце 1903 года Гумилев познакомился с четырнадцатилетней гимназисткой Анной Горенко, своей будущей женой и великой русской поэтессой Анной Ахматовой. Любовь к Анне Горенко во многом определила романтические и рыцарские мотивы, возвышенный строй женских образов первого сборника стихов Гумилева «Путь конквистадора».
Образ испанца XVI века – завоевателя Америки, стал фокусом условной книжной романтики, тяготения к чужим небесам, которые долго не позволяли современникам разглядеть подлинного Гумилева, человека и поэта.
В 1910 году Гумилев стал лидером нового литературного течения – акмеизма, женился на Анне Горенко, в 1911 году начались заседания «Цеха поэтов», творческого объединения, созданного Николаем Степановичем. В 1912 году у них с Ахматовой родился сын, Лев, в судьбе которого отразился ХХ век: блестящий юноша, сталинский зек, парадоксальный ученый, историк и этнограф.
«ХХ век начался в 1914 году» – писала Анна Ахматова. Гумилев добровольцем пошел на германский фронт.
К этому времени окончательно определились три измерения судьбы Гумилева: поэт, убежденный, что «Слово – это Бог»; воин – два солдатских Георгия; Абиссиния – все твердили про экзотику «изысканных жирафов», но африканская коллекция Гумилева, как выяснилось, по научному значению уступает лишь собранию Миклухо-Маклая.
В 1921 году в свет выходит последняя и лучшая книга стихов Гумилева «Огненный столп».
Блестящее стихотворение «Мои читатели» – самооценка Гумилевым своей поэзии и портрет тех, кому она предназначена: «много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне…»
Все, Киплинг, подлинный и отчасти картонный, исчерпан, и быть бы Гумилеву рыцарем подлинным и отчасти картонным, русского серебряного века…
Но «Шестое чувство», «Слово» – это стихи, обращенные к иным читателям, это другой Гумилев, это – «колдовской ребенок, словом останавливавший дождь». Будто шаровые молнии взошли эти стихи на раскаленном небосводе русской поэзии грозно и навсегда.
Вокруг гибели Гумилева возникли многие домыслы и легенды: о его участии в мифической антисоветской «боевой организации» Таганцева, о заступничестве Горького, о том, что Ленин хотел помочь, но как всегда не успел…
Теперь мы знаем, Гумилева чекисты расстреляли только за то, что он не донес на своего фронтового товарища, всего лишь не донес, потому что слова «дворянская честь», «офицерская честь» были для него не звук пустой. Его убили за неспособность предать в тот самый миг, когда у поэта прорезался новый голос, мощный, необычайный…
Ходасевич Владислав Фелицианович
Одной капли крови Ходасевича, попавшей в водопровод, достаточно, чтобы отравить целый город, уж больно желчный человек – думали многие современники. И ошибались. Ходасевич был поэт с ободранной кожей, все нервы наружу.
- Мне невозможно быть собой,
- Мне хочется сойти с ума
– его ответ на чужое бессмысленное страдание.
Поэт, прозаик, переводчик, пушкинист, он события революции увидел под своим собственным углом: он убедился в беспомощности культуры перед варварством; он понял, насколько уязвима высокая гармония поэзии перед простым требованием хлеба насущного. Очевидец братоубийственной бойни в Москве осенью 1917 года, он описал с бесстрастьем летописца как «семь дней и семь ночей Москва металась в огне, бреду. Но грубый лекарь щедро пускал ей кровь…» Но какое же спасенье возможно «среди Москвы, страдающей, растерзанной и падшей»? Письменный стол, – сказала бы Цветаева.
- И сел работать. Но впервые в жизни
- Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
- В тот день моей не утолили жажды.
«Тяжелая лира» Ходасевича не просто тяжелая, она неподъемная, и он прикован к ней, как каторжник к ядру. «Я падаю в себя», – провозглашает поэт, выдавая желаемое за действительное. Россия и революция, поэзия и русская речь – вот что составляет обнаженный нерв творчества Ходасевича.
Воспринимая революцию как смерть души, страны и народа, он знал:
- Так и душа моя идет путем зерна:
- Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.
- И ты, моя страна, и ты, ее народ,
- Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
- Затем, что мудрость нам единая дана:
- Всему живущему идти путем зерна.
Ходасевич эмигрировал: Германия, Франция, Италия – словом «Европейская ночь». «Все каменное, в каменный пролет уходит ночь» – гадость…
Он, и как спасение, вспоминает свою кормилицу:
- Там, где на сердце, съеденном червями,
- Любовь ко мне нетленно затая…
В этом «сердце, съеденном червями» – весь Ходасевич.
- И вот, Россия, «громкая держава»,
- Ее сосцы губами теребя,
- Я высосал мучительное право
- Тебя любить и проклинать тебя.
И млечное родство с языком, без которого не бывает полноценной личности, обостренное у Ходасевича до растворения в языковой стихии:
- Люблю из рода в род мне данный
- Мой человеческий язык:
- Его суровую свободу,
- Его извилистый закон…
- О, если б мой предсмертный стон
- Облечь в отчётливую оду!
Ахматова Анна Андреевна
- Я Гумилеву отдавал визит,
- Когда он жил с Ахматовою в Царском.
- Ахматова устала у стола,
- Томима постоянною печалью,
- Окутана невидимой вуалью
- Ветшающего Царского Села…
Это – enfant terrible Серебряного века, Игорь Северянин, из безмятежной в 24 году Эстонии.
Здесь весь джентльменский набор дореволюционных представлений об Ахматовой – томная, печальная, утомленная; тут же (куда же без нее) вуаль и Царское Село. Этакая акварель не то Бакста, не то Сомова, а, может быть и Бенуа.
Не знал эгофутурист, что той, прежней Ахматовой, нет более; что уже написаны программные «Мне голос был» и «Не с теми я, кто бросил землю…», в которых была угадана дальнейшая жизнь и судьба.
Утешный голос в 17 году обещал:
- Я кровь от рук твоих отмою,
- Из сердца выну черный стыд,
- Я новым именем покрою
- Боль поражений и обид.
- Но равнодушно и спокойно
- Руками я замкнула слух,
- Чтоб этой речью недостойной
- Не осквернился скорбный дух.
Дух поэта, преисполненный скорби и суетные соблазны несовместимы, как гений и злодейство. Те, кому это было адресовано, не поверили Ахматовой: «царскосельская веселая грешница» и вдруг…
Через пять лет она высказалась еще более жестко и определенно:
- А здесь, в глухом чаду пожара
- Остаток юности губя,
- Мы не единого удара
- Не отклонили от себя.
- И знаем, что в оценке поздней
- Оправдан будет каждый час…
- Но в мире нет людей бесслезней,
- Надменнее и проще нас.
Не «крылатую свободу» она выбрала, а невыносимую, лютую родину, и обрела надменность Данте, своими ногами попиравшего ад.
Вещая природа гения подсказала ей, что все, оставшееся за чертой, надо от себя отрезать, беспощадно, безвозвратно, себя от себя отрезать, стать другой. И не единого удара не отклонять, быть с той землей, в которую ляжешь, быть со своим народом, все пережить, все запомнить, выстоять, стать голосом времени – великим поэтом.
В неистовую ярость приводили Ахматову те западные исследователи ее поэзии, которые утверждали, что главная часть ее творчества состоялась до 17 года, что после революции она писала мало и не о том, о чем должна была бы писать.
Ее хотели запереть в тесной каморке полумонашенки, полублудницы; она, наверное, ненавидела хрестоматийную перчатку, надетую не на ту руку, как Фаина Раневская, ненавидела свое знаменитое: «Муля, не нервируй меня!»
Но ее описывали, словно музейный экспонат, не желая замечать то, что она говорила так внятно:
- Флобер, бессонница и поздняя сирень
- Тебя – красавицу тринадцатого года —
- И твой безоблачный и равнодушный день
- Напомнили. А мне такого рода
- Воспоминанья не к лицу…
Почувствуйте надменность, оцените бесслезность.
Коко Шанель, ее сестра в другой жизни, такая же худая, смуглая, угловатая, в такой вот парижской шляпке, под темной вуалью, в облаке знаменитого аромата… Все это не к лицу, вовсе не от недоступности, а просто – не нужно, не к лицу.
Оставлена была шаль – классика вне моды.
Самое суровое, что написала Ахматова – «Северные элегии». «Реквием» – это крик боли, «Северные элегии» – это беспощадные размышления о времени, о своем месте во времени:
- Так вот когда мы вздумали родиться…
И точка зрения выбрана Ахматовой так, чтобы ни иллюзий, ни смещений, ни сантиментов – чтобы ничего не мешало:
- И вот когда горчайшее приходит:
- Мы сознаем, что не могли б вместить
- То прошлое в границы нашей жизни,
- И нам оно почти так же чуждо,
- Как нашему соседу по квартире,
- Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
- А те, с кем нам разлуку Бог послал,
- Прекрасно обошлись без нас – и даже
- Все к лучшему…
Попробуйте с этой точки зрения посмотреть на «Поэму без героя» – всплеск памяти такой силы, что Ахматова не смогла сдержать его, дала прорваться наружу, лечь на бумагу.
«Поэма без героя», наполненная загадками, умолчаниями, намеками, аллюзиями, возможно, спасла Анну Андреевну в то время, когда «безумие крылом души накрыло половину».
Щадить себя Ахматовой было не свойственно:
- Я гибель накликала милым
- И гибли один за другим.
- Я званье то приобрела
- За сотни преступлений,
- Живым изменницей была
- И верной – только тени.
И жалеть себя не позволяла, она лишь фиксировала обстоятельства собственной судьбы:
- Мир не ведал такой нищеты
- Существа он не ведал бесправней…
- Из-под каких развалин говорю,
- Из-под какого я кричу обвала,
- Как в негашеной извести горю
- Под сводами вонючего подвала.
- Я пью за разоренный дом,
- За злую жизнь мою,
- За одиночество вдвоем
- И за тебя я пью, —
- За ложь меня предавших уст,
- За мертвый холод глаз,
- За то, что мир жесток и пуст,
- За то что Бог не спас.
- А я иду – за мной беда,
- Не прямо и не косо,
- А в никуда и в никогда,
- Как поезда с откоса.
Кошмар? Да, но через тернии к звездам, другого пути нет.
И в «Северных элегиях» она подведет черту под размышлениями о том, что сделало ее поэтом, голос которого все равно услышат и которому все равно поверят:
- Меня, как реку,
- Жестокая эпоха повернула.
- Мне подменили жизнь, в другое русло,
- Мимо другого потекла она.
- И я своих не знаю берегов.
- О! как я много зрелищ пропустила.
- И занавес вздымался без меня
- И так же падал. Сколько я друзей
- Своих ни разу в жизни не встречала.
- О, сколько очертаний городов
- Из глаз моих могли бы вызвать слезы,
- А я один на свете город знаю
- И ощупью его во сне найду.
- О, сколько я стихов не написала,
- И тайный хор их бродит вкруг меня
- И, может быть, еще когда-нибудь
- Меня задушит…
- Мне ведомы начала и концы,
- И жизнь после конца, и что-то,
- О чем теперь я лучше промолчу.
- И женщина какая-то мое
- Единственное место заняла,
- Мое законнейшее имя носит,
- Оставивши мне кличку, из которой
- Я сделала, пожалуй, все, что можно.
- Я не в свою, увы, могилу, лягу.
- Но иногда весенний шалый ветер,
- Иль сочетанье слов в случайной книге,
- Или улыбка чья-то вдруг потянут
- Меня в несостоявшуюся жизнь.
- В таком году произошло бы то-то,
- А в этом – это: ездить, видеть, думать,
- И вспоминать, и в новую любовь
- Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем
- Измены и еще вчера не бывшей
- Морщинкой…
- ……………………………………………
- Но если бы оттуда посмотрела
- Я на свою теперешнюю жизнь,
- Я б умерла от зависти.
Вот где солнечное сплетение этой судьбы – зависть к самой себе, накануне позорного ждановского гонения, бесстыдства «кровавой куклы палача», вынужденных, вымученных стихов о Сталине и борьбе за мир; зависть «капризной избалованной девочки», которой ей суждено было бы остаться, если бы история не сорвала с ее плеч парижские тряпки, не обрядила бы в рубище, накинув на плечи, для насмешки, ложноклассическую шаль, короновав «Анной всея Руси».
Она боялась переходить улицы, она боялась ездить в трамвае; она была обречена на бездомное и безбытное существование. Она не дождалась свободы, но дожила до признания, и Политбюро махнуло рукой на ее величавую славу и уже не интересовалось: «кто организовал вставание?»
Вокруг нее кружил «волшебный хор» молодых поэтов; роскошь человеческого общения, атмосфера влюбленности, «благодатная осень» – она дожила до сбора урожая.
Трусливая, лишенная чувства великого власть лавочников так и не поставила ей памятник напротив Крестов, как она завещала[8].
Неопалимая купина, она не сгорела «в скорбях, страстях», не сломилась под «нестерпимым гнетом», а пламя лишь закалило ее поэзию, благородный сплав невыносимой боли, неистовой любви, чистой красоты и неукротимой совести.
- Ржавеет золото и истлевает сталь,
- Крошится мрамор, к смерти все готово…
- Всего прочнее на земле печаль
- И долговечней – царственное слово.
Вот только куда надменность наша подевалась?
Анна Андреевна Ахматова была слаба на передок (ее лексика), лжива, тщеславна и высокомерна. Она оставалась равнодушна к лагерным мукам сына; оклеветала Наталью Васильевну Варбанец, обвинив ее в доносительстве только потому, что не хотела ее в невестки.
Все это и не только это – правда, но все это остается за пределами данного текста.
Жизнь Марины Цветаевой рассматривали в цейсовский артиллерийский бинокль, жизнь Ахматовой – в перевернутый театральный.
Отчего так? Не знаю.
Пастернак Борис Леонидович
Сталин позвонил Пастернаку – статуя Командора заговорила; Сталин спросил Пастернака об арестованном Мандельштаме, Пастернак отвечал со свойственным ему поэтическим косноязычием (Заболоцкий: когда Пастернак мне что-нибудь говорил, я ждал, пока он закончит, а потом просил повторить понятно и по порядку). Пастернак сказал Сталину, что хочет с ним поговорить о жизни и смерти – это было дерзко и нелепо, как ода «Вольность» Пушкина.
Сталин повесил трубку, а Пастернак написал роман.
Фабула «Доктора Живаго» проста, как фабула Библии: человек и время, свеча поэзии и ураган революции; сюжет романа поворачивается подчас на искусственных шарнирах, что едва ли было важно автору; проза романа насыщена поэзией, как грозовая туча электричеством, не мудрено, что в конце концов вспыхивает ослепительная молния и гремит оглушительный гром – стихи Юрия Живаго о Боге, любви, страданиях, о нестерпимой красоте Божьего мира, о жизни и смерти.
Из-за бесконечных проволочек и запретов на родине роман вышел в свет в Италии (1957), был мгновенно переведен на все существующие языки, Пастернак был удостоен Нобелевской премии (1958) – первый русский писатель после белоэмигранта Бунина.
И понеслось! Взыграли сталинские дрожжи – как смел: а) оболгать революцию, б) опубликовать клевету за границей. А зависть!? Травля была обставлена по всем правилам: «Я Пастернака не читал, но осуждаю», – простые советские люди; «гадит, где ест» – партия и комсомол; «не достоин быть советским писателем» – братья по перу; угроза высылки из СССР – Хрущев. Последнее сломило Пастернака, он отказался от премии: «Я мечтал поехать на Запад как на праздник, но на празднике этом повседневно существовать ни за что бы не смог. Пусть будут родные будни, родные березы, привычные неприятности и даже – привычные гонения».
- Я пропал, как зверь в загоне.
- Где-то люди, воля, свет.
- А за мною шум погони,
- Мне на волю хода нет.
- ………………………………
- Что же сделал я за пакость,
- Я убийца и злодей?
- Я весь мир заставил плакать
- Над красой земли моей.
Пастернак родился косноязычным, и говорить правильно и внятно так и не научился.
Он это знал: «Я всегда говорю неудачно, с перескоками, без видимой связи и не кончая фраз».
Здесь главное – «без видимой связи»: значит, невидимая, то есть очевидная самому поэту, связь была.
Так случается, когда мысль обгоняет слова, как молния – гром. Слушателям Пастернака доставался лишь звуковой лом мгновенно блеснувшей ослепительной вспышки.
Сложность его раннего стихотворчества – это не нарочитое эпатажное выламывание Маяковского; не вдохновенное, не от мира сего, бормотание Хлебникова, а неумение Пастернака просто сказать о любви, творчестве, природе и Боге.
Еще труднее для него было сложное сказать доходчиво.
Поэтому Пастернак всегда легко соглашался с упреками в непонятности своих стихов: «Да, это так, это я виноват».
«Как визоньера дивиация» неизбежно требовало комментария. Сказать «пророчество предсказателя» он почему-то не мог, «визоньер» казался ему точнее.
Но в нем самом зрело предвиденье:
- Есть в опыте больших поэтов
- Черты естественности той,
- Что невозможно, их изведав,
- Не кончить полной немотой.
- В родстве со всем, что есть, уверясь,
- И знаясь с будущим в быту,
- Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
- В неслыханную простоту.
Фазиль Искандер как-то заметил: «Общение с поэзией раннего Пастернака напоминает разговор с очень пьяным и очень интересным собеседником. Изумительные откровения прерываются невнятным бормотанием, и в процессе беседы мы догадываемся, что не надо пытаться расшифровывать невнятицу, а надо просто слушать и наслаждаться понятным».
А Пастернак прилагал огромные усилия, дабы «прочистить горло», потому что человек до крайности эгоцентричный (не эгоистичный, Боже упаси) он чувствовал кровную связь с Россией, и преклонение перед ее народом и ее историей.
- Сквозь прошлого перипетии
- И годы войн и нищеты
- Я молча узнавал России
- Неповторимые черты
- Превозмогая обожанье,
- Я наблюдал, боготворя…
«Обожанье» и «боготворя» – именно в данном случае – не фигура речи, а суть поэта и человека Бориса Пастернака.
Такой вот парадокс, подаривший нам великого стихотворца.
Война, почва и «Доктор Живаго» позволили поэту прорваться к «неслыханной простоте».






