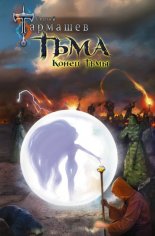Список заветных желаний Спилман Лори

– Ты, наверное, удивляешься, что я пришла через столько лет, – шепчу я, глядя на папино надгробие. – Ты думаешь, я такая же, как мама? Не умею ненавидеть?
Я смахиваю с мраморной плиты сухие листья и присаживаюсь на краешек. Роюсь в сумочке, извлекаю из кошелька фотографию, притаившуюся между пластиковыми картами. Фотография изрядно истрепалась и выцвела, но она единственная, где мы изображены вдвоем с папой. Мама сделала этот снимок в рождественское утро, мне было тогда шесть лет. Одетая в красную фланелевую пижаму, я примостилась на колене отца, руки мои молитвенно сложены, словно, находя свое положение до крайности ненадежным, я молю Бога уберечь меня от опасности. Бледная рука отца лежит у меня на плече, вторая вяло свисает вдоль тела. На губах играет неуверенная улыбка, но глаза при этом пустые.
– Я была не такой, как тебе хотелось бы, да, папа? Почему ты никогда не улыбался, глядя на меня? Почему тебе так трудно было меня обнять?
Слезы жгут мне глаза. Я поднимаю взор к небесам, надеясь ощутить прилив блаженного умиротворения. Наверное, именно такого результата ожидала мама, настаивая на выполнении этого пункта. Но все, что я ощущаю, – это ласковое прикосновение солнечных лучей к лицу. Рана в сердце по-прежнему невыносимо саднит. Слезы падают на фотографию, испуганные глаза изображенной там девочки становятся огромными. Я смахиваю капли рукавом блузки.
– Знаешь, папа, что меня особенно мучило? Мысль о том, что я никогда не стану такой дочерью, которая нужна тебе. Почему ты никогда не сказал мне, что я хорошая, умная, красивая? Ни разу, даже когда я была маленькой девочкой? – Я прикусываю нижнюю губу так сильно, что ощущаю во рту солоноватый вкус крови. – Я из кожи вон лезла, чтобы ты полюбил меня, папа. Я так старалась, так старалась… – Слезы ручьями текут у меня по щекам. Я поднимаюсь с плиты и смотрю на могильный камень так, словно это лицо отца. – Знаешь, это все мама придумала. Это она хотела, чтобы я наладила отношения с тобой. Сама-то я забыла о подобных глупых мечтах много лет назад. – Я касаюсь пальцами надписи «Чарльз Джейкоб Болингер». – Покойся с миром, папа.
Я резко поворачиваюсь и покидаю кладбище чуть ли не бегом.
Пять часов вечера. Я на станции Аргайл, и меня все еще трясет. Черт побери, отец ухитрился достать меня даже через много лет после своей смерти! Вагон набит до отказа, и я ощущаю себя куском ветчины в сэндвиче. С одной стороны меня теснит девочка-подросток в наушниках, из которых доносится какая-то лирическая композиция, состоящая исключительно из непечатных выражений. С другой стороны – парень в бейсболке с надписью «Godhearsu.com». Меня подмывает спросить, каким компьютером пользуется Бог, но я догадываюсь, что шутка не пройдет. Встречаюсь взглядом с высоким темноволосым мужчиной в плаще цвета хаки от «Барберри». Глаза его смеются, а лицо кажется мне знакомым. Мы возвышаемся, как башни, над двумя зажатыми между нами девчонками. Мужчина наклоняется ко мне:
– Современные технологии разрушают все границы, да?
– Да уж. – Я смеюсь в ответ. – Исповедальни скоро останутся в прошлом.
Он улыбается. Я перевожу взгляд с его карих глаз, в которых пляшут золотистые искорки, на мягко очерченный, чувственный рот. Замечаю черную нитку на его плаще, и тут меня пронзает догадка. Кажется, я знаю, где его видела. Несколько раз я наблюдала из окна нашего дома, как ровно в семь вечера он входит в подъезд. Мысленно я окрестила его мистером Барберри, потому что на нем всегда был один и тот же плащ – именно тот, что и сейчас. Хотя мы с ним никогда не встречались, пару месяцев я тайно по нему вздыхала, пока он не исчез.
Я уже собираюсь представиться, но тут звонит телефон. На экране высвечивается служебный номер Брэда.
– Бретт, привет, – слышу я в трубке. – Это Клэри Коул. Я получила ваше сообщение. Мистер Мидар может встретиться с вами двадцать седьмого октября…
– Двадцать седьмого октября? Но это же через три недели. А мне нужно… – Я осекаюсь, не договорив.
«Мне нужно его увидеть» прозвучит чересчур пылко. Но сегодняшний визит на кладбище затянул меня в эмоциональный водоворот. Знаю, Брэд поможет мне выбраться.
– Я бы хотела встретиться с ним раньше. Например, завтра.
– Очень жаль, но на следующей неделе он очень занят, а потом уезжает в отпуск. Мистер Мидар сможет принять вас двадцать седьмого октября, – повторяет Клэри.
– Что ж, делать нечего, – тяжело вздыхаю я. – Но если в ближайшее время у него появится окно, пожалуйста, свяжитесь со мной. Очень вас прошу.
И тут я слышу название своей станции, засовываю телефон в карман и начинаю пробираться к выходу.
– Удачного дня, – говорит мистер Барберри, когда я протискиваюсь мимо него.
– И вам того же.
Я выхожу из вагона, и волна меланхолии накрывает меня с головой. Брэд Мидар уезжает в отпуск, и мне это вовсе не нравится. Интересно, куда он собирается? Один или с девушкой? За все время нашего знакомства у меня не было возможности узнать, в каком состоянии его сердечные дела. Сам он никогда об этом не заговаривал. Да и с какой стати? Я всего лишь его клиентка, одна из многих. Но Брэд – единственная ниточка, связывающая меня с мамой. Ее посланник, исполнитель ее последней воли. Неудивительно, что я так нуждаюсь в нем. Как потерявшийся щенок, я увязалась за первым встречным человеком с добрым лицом.
Глава 8
Когда мама была жива и здорова, по четвергам мы устраивали семейные вечера. Вся семья собиралась за столом в мамином доме, и беседа лилась так же непринужденно, как и вино «Совиньон блан». Мама сидела во главе стола и умело направляла нить разговора: то на политические события, то на наши повседневные дела, то на личные проблемы каждого. Сегодня, впервые после смерти мамы, Джоад и Кэтрин предприняли отважную попытку возродить чудесную атмосферу тех вечеров.
Джоад встречает меня и целует в щеку:
– Спасибо, что приехала!
Он еще не успел снять полосатый фартук, повязанный поверх замшевого пиджака.
Я сбрасываю туфли. Ноги мои утопают в пушистом белом ковре. Джоад в отношении дизайна интерьеров придерживается классических традиций, а Кэтрин больше привлекает современность. Результатом подобного сочетания вкусов явилась их безупречная квартира, выдержанная в белых и бежевых тонах, украшенная оригинальными живописными полотнами и образчиками современной скульптуры. Честно говоря, эта просторная стерильная квартира кажется мне удручающе холодной и совсем не уютной.
– Вкусно пахнет, – замечаю я.
– Это запеченное седло ягненка, – сообщает Джоад. – Скоро будет готово. Что-то ты задержалась. Джей и Шелли уже принялись за второй стакан пино.
Как и следовало ожидать, мамино отсутствие ощущается, словно зияющая дыра, в которую тянет сквозняком. Мы пятеро сидим в прекрасно обставленной столовой, из окон которой открывается вид на реку Чикаго, и делаем вид, что не замечаем этого сквозняка. Опасаясь тягостного молчания, болтаем без умолку. После двадцатиминутного доклада Кэтрин, посвященного доходам «Болингер косметик» и планам расширения компании, главным предметом разговора становится моя персона. Кэтрин осведомляется, почему со мной не приехал Эндрю. Джей хочет узнать, не устроилась ли я уже работать учительницей. Каждый из этих вопросов заставляет меня внутренне содрогнуться, как очередной толчок землетрясения. Чувствую, мне необходима передышка. Когда Джоад встает, чтобы покрыть карамелью свой знаменитый кулинарный шедевр – крем-брюле, я, извинившись, отправляюсь в туалет.
Пересекая холл, я бросаю взгляд в направлении логова Джоада. В небольшую, обшитую панелями красного дерева комнату, кабинет и святилище брата, я никогда не захожу без приглашения. Знаю, в запертых ящиках шкафов у него хранятся коллекционные бутылки шотландского виски и хумидоры с кубинскими сигарами. Не знаю, зачем они ему, ведь курить в доме Кэтрин все равно запрещает. Проходя мимо открытых дверей кабинета, я замечаю на столе нечто, привлекающее мое внимание, и замираю на месте, вглядываясь в полумрак.
Нет, никакой ошибки быть не может. На письменном столе лежит записная книжка в красном кожаном переплете. Мамина записная книжка, которую я так долго и безуспешно искала.
Что за черт?! Я вхожу в кабинет. Разыскивая пропавшую книжку, я спрашивала о ней у всех, включая Джоада. И он заверил меня, что в глаза не видел никакого красного блокнота. Я хватаю находку и, не в силах терпеть ни секунды, начинаю ее листать. Вижу мамин почерк, и в груди у меня теплеет. Первая запись в дневнике датирована летом 1978 года. Лето накануне моего рождения… Да, этот дневник поистине бесценен. Неудивительно, что Джоад захотел его заполучить. Но зачем понадобилось похищать его у меня? Неужели он думал, я буду владеть таким сокровищем одна, не поделившись с ним и Джеем?
Но не успеваю я прочесть хотя бы строчку, как из холла доносятся шаги. Это Джоад! Я впадаю в оцепенение, подбирая слова, чтобы рассказать ему, как обнаружила дневник. Но внезапно внутренний голос приказывает мне молчать. Если Джоад скрыл от меня, что нашел дневник, это может означать лишь одно: он не хотел, чтобы я прочла его. Джоад проходит мимо, не заглянув в открытую дверь. Я испускаю вздох облегчения, прячу красную книжку под джемпер и выскальзываю из кабинета так же бесшумно, как туда проникла.
Надев пальто и застегнув его на все пуговицы, я вхожу в столовую:
– Прости, Кэтрин, но мне придется вас покинуть. Я себя неважно чувствую.
– Давай мы тебя отвезем, – предлагает Шелли.
– В этом нет необходимости, – качаю я головой. – Возьму такси. Извинитесь за меня перед Джоадом.
Я покидаю квартиру, пока брат не успел узнать о моем бегстве.
Когда за мной захлопывается дверь лифта, я облегченно вздыхаю. Помоги мне, Боже, я, кажется, стала воровкой! Правда, украла я то, что принадлежит мне по праву. Я вытаскиваю обретенное сокровище из-под джемпера и прижимаю к груди, словно это мамина рука. О, как я тоскую по ней в эту минуту! Она всегда чувствовала, когда мне нужна помощь.
Лифт, вздрогнув, ползет вниз. Голос разума советует мне приняться за чтение дома, уютно устроившись на кровати и включив настольную лампу, но я не могу совладать с охватившим меня нетерпением.
К тому моменту, как двери лифта раскрываются, я разбита, раздавлена, уничтожена. Доковыляв до стула в углу вестибюля, я бессильно падаю на него. Загадка, которая мучила меня всю жизнь, наконец разрешена.
Возможно, прошло несколько минут. Возможно, несколько часов. Короче говоря, я понятия не имею, как долго просидела в оцепенении, прежде чем услышала голос брата.
– Бретт! Прошу тебя, не открывай этот блокнот! – приглушенным голосом молит Джоад, приближаясь ко мне.
Я не отвечаю. Я лишилась дара речи. И не могу двинуть ни рукой, ни ногой.
– Господи боже! – Он опускается передо мной на корточки и хватает красную книжечку, лежащую на моих коленях. – Я так надеялся догнать тебя, пока ты это не прочла.
– Почему? – Собственный голос доносится до меня, как из тумана. – Почему вы решили, что от меня надо это скрывать?
– И правильно решили. – Он отводит с моего лица прядь волос, влажную от слез. – Стоит лишь посмотреть на тебя сейчас. Ты только что потеряла маму. Новое потрясение тебе совершенно ни к чему.
– Черт побери, я имела право знать!
Голос мой словно отскакивает от мраморных плит пола. Джоад оглядывается по сторонам и смущенно кивает сидящему за столом консьержу.
– Давай поднимемся наверх!
– Нет, – цежу я сквозь плотно сжатые зубы. – Ты должен был мне все рассказать! Хотя на самом деле это должна была сделать мама! Я всю жизнь не могла понять, почему он так паршиво ко мне относится. А она не придумала ничего лучше, чем сообщить мне об этом… таким вот способом.
– Послушай, Бретт, но ведь точно неизвестно, как там было на самом деле, – говорит Джоад. – В дневнике нет ничего определенного. Возможно, ты все же дочь Чарльза Болингера.
Я угрожающе наставляю на него указательный палец:
– Нет, я не дочь этого подлеца! И он это знал. Поэтому и не мог меня полюбить. А мама всю жизнь боялась сказать мне об этом.
– Хорошо-хорошо. Но может быть, этот Джонни Мэннс – подлец еще почище. И мама не хотела, чтобы ты пыталась его искать.
– Глупости! Это же ясно как день. Мама оставила мне этот дневник. И не вычеркнула девятнадцатый пункт из этого идиотского списка, хотя Чарльз Болингер давным-давно умер. Она хотела, чтобы я нашла своего настоящего отца. При жизни она не решалась открыть мне правду. Но, по крайней мере, у нее хватило смелости сделать это после смерти. – Я буравлю Джоада взглядом. – А ты, ты хотел оставить меня в неведении. Кстати, ты давно уже об этом знаешь?
Джоад озирается и растерянно трет рукой свой бритый череп. Садится на стул рядом со мной и таращится на книжечку в красном переплете:
– Я нашел это много лет назад. Мы тогда как раз переезжали на Астор-стрит, и я помогал маме собирать вещи. Когда прочел, чуть с ума не сошел. Но маме и словом ни обмолвился. Увидеть этот дневник в день похорон для меня было настоящим шоком.
– Говоришь, чуть с ума не сошел? А ты не почувствовал, как она была счастлива, когда писала эти строки? – Я раскрываю дневник и читаю первую запись: – «Третье мая. После двадцати семи лет дремы пришла любовь и пробудила меня ото сна. Женщина, которой я была прежде, сказала бы, что так поступать нельзя, что это безнравственно. Но женщина, которой я стала теперь, чувствует – то, что происходит, сильнее меня. Впервые в жизни мое сердце обрело истинный ритм».
Джоад умоляюще вскидывает руку, словно не может больше слушать. Я немного смягчаюсь. Бесспорно, это удар – узнать, что у твоей матери был любовник.
– Кто еще знает, кроме тебя? – спрашиваю я.
– Только Кэтрин. Но, может, в данную минуту она рассказывает об этом Джею. И Шелли.
Мой брат поступил так, как считал нужным. Он заботился обо мне. Оберегал меня.
– Джоад, я справлюсь с этим, – говорю я и промокаю глаза рукавом пальто. – Жаль, что мама не рассказала мне раньше. Хорошо, что она все же это сделала. Теперь я непременно найду своего отца.
– Я знал, что ты вобьешь это себе в голову, – кивает Джоад. – Понимаю, что отговаривать тебя бессмысленно.
– Ты всегда был понятливым, – улыбаюсь я. – Ты ведь отдашь мне дневник, верно?
– Конечно отдам. – Джоад гладит меня по голове. – Но мы должны решить, какой линии придерживаться.
– Ты о чем?
– О том, что эту историю совершенно ни к чему выносить на публику. Мама была брендом нашей компании. И если ее безупречная репутация окажется запятнанной, это может нанести урон деловым интересам.
У меня перехватывает дыхание. Выясняется, что причины, которыми руководствовался мой брат, не так уж благородны. Для него я – досадное пятно на репутации, оскверняющее сияние бренда «Болингер».
Ночью, пока Эндрю спит, я тихонько выскальзываю из кровати, хватаю халат и ноутбук, спускаюсь в гостиную и устраиваюсь на диване. Хочу набрать в поисковике имя Джонни Мэннса и тут обнаруживаю в «Фейсбуке» сообщение от Кэрри Ньюсом. Долго разглядываю фотографию женщины довольно простецкого вида, которая когда-то была моей лучшей подругой.
Бретт Болингер? Моя подруга из Роджерс-Парка, с которой мы расстались много лет назад? Поверить не могу, что ты до сих пор меня помнишь, не говоря уж о том, чтобы отыскать меня в «Фейсбуке»!
У меня столько приятных воспоминаний, связанных с тобой. Это невероятно, но через месяц я собираюсь приехать в Чикаго. 14 ноября Национальная ассоциация социальных работников будет проводить конференцию в отеле «Маккормик». Может, выберешь время пообедать со мной? Или, еще лучше, поужинать? Ох, Бретель, как я рада, что ты меня нашла! Я так по тебе скучала!
Бретель. Так она меня называла, когда мы были детьми. Однажды ей надоело слушать мои жалобы на горькую участь девчонки с мальчишеским именем, и она представила мне на выбор целый список имен:
– Хочешь, буду звать тебе Бретчен? Бретта? Бретани?
В конце концов мы сошлись на Бретель. Это имя вызывало в воображении пряничные домики и очаровательных находчивых детишек. С тех пор так и повелось. Для всех я носила мужское имя Бретт, а моя самая любимая подруга называла меня Бретель.
Как-то раз солнечным осенним утром Кэрри сообщила, что ее мама получила приглашение преподавать в университете Висконсина. В своих форменных клетчатых юбках и белых блузках мы брели по аллее, ведущей в Академию Лойолы, школу, где мы обе учились. Кажется, я до сих пор слышу, как шуршали сухие листья у нас под ногами, вижу золотисто-красный балдахин ветвей над нашими головами. До сих пор чувствую боль, которая пронзила меня, когда я узнала, что скоро расстанусь с Кэрри. Даже теперь, столько лет спустя, отзвуки этой боли заставляют ныть сердце.
– Сегодня вечером я ужинаю с папой, – сообщила я.
– Здорово! – воскликнула Кэрри, неизменно переживавшая мои проблемы, как свои. – Наверняка он по тебе соскучился.
– Может быть, – пожала я плечами и разворошила ногой кучу опавших листьев.
Некоторое время мы шли в молчании. Потом Кэрри повернулась ко мне: