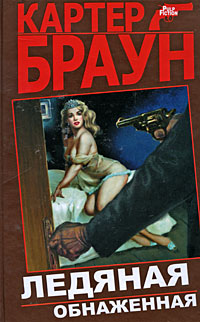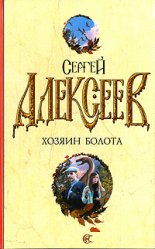Крамола. Доля Алексеев Сергей
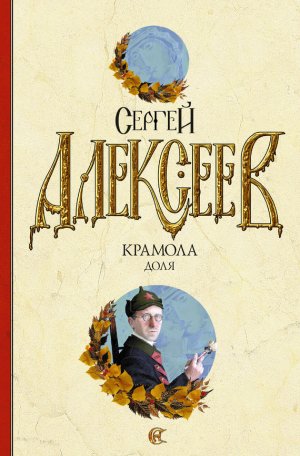
1. В год 1931…
После долгого, безрадостного ненастья ночью вызвездило, и утром Вербного воскресенья над холодной землей воссияло солнце. А уже к полудню над синей далью забрезжило зыбкое, жаркое марево и жирная влажно-черная почва в запущенном огороде бывшей архиерейской усадьбы окурилась теплым ладанным паром. Птицы, залетая в конюшню, теребили с линяющих лошадей шерсть, безбоязненно сновали возле человеческих рук, лезли в кормушки за овсом, клевали его у самых копыт и, вконец одурев от тепла и весенней суеты, не могли найти выхода и бились об оконные стекла.
Никодим ворчал на птиц, выпуская их на волю, и, не скрываясь, громко ругал нынешних постояльцев усадьбы. Пол в конюшне прогнил, иструхлявел и теперь смешивался с навозом. Никодим менял половицы, однако сытые выездные кони к весне и день и ночь копытили обветшалый пол, пробивая новые дыры. При случае старый конюх жаловался своему новому хозяину – начальнику уездного ГПУ Марону, просил сделать ремонт, но тот лишь вглядывался в лицо Никодима, будто силился вспомнить, кто это перед ним, и хмурил широкие, разлапистые брови. Изредка, мимоходом, бросал: дескать, мы в этом помещении временно, потерпишь и ты, и кони переждут. Кучера же, лихие, крутые парни, вовсе не хотели слушать старика. Говорили: сначала социализм построим, потом и до конюшен черед дойдет. Им только б кони накормлены были да ко времени заложены. Взяться самому перестелить полы уже не было сил и здоровья, поэтому Никодим кое-как забучивал дыры кирпичным крошевом, забивал досками – только бы лошади ног не ломали. Докармливать старика оказалось некому, и он держался за свое место при бывшем архиерейском дворе, за каморку в каретном сарае, где ему позволили жить, и молился, чтоб умереть на ногах, в одночасье.
Никодим выметал навоз из конюшен, полюбовался на ведреный, тихий денек и, перекрестившись на пустые маковки домашней церкви, пошел к бывшим архиерейским погребам. Это место на усадьбе огородили новым высоким забором, а старый заплот из лиственничного половья остался внутри и теперь годился разве что на починку полов в денниках. Ходить сюда запрещалось: у калитки стоял часовой с наганом, однако старика пускали без слов, зная его нужду.
Оказавшись за калиткой, Никодим ушел за погреба и начал вынимать пластины из заплота. Столбы подгнили, перекосились, и колотые пополам бревна закусывало в пазах. Он огляделся, подыскивая стяжок, и услышал тихую молитву. Приглушенный женский голос нашептывал псалмы, и Никодиму сначала почудилось, будто пение идет из погребов. Он перекрестился, озираясь, но когда приблизился к новому забору, понял, что поют за ним. Прильнув к щели, старик увидел женщину в монашеском одеянии и худосочного, с птичьей шеей, старичка с букетом желтеющей вербы. Лиц он не рассмотрел, да и фигуры-то людей видел всего мгновение, однако каким-то чутьем узнал обоих, а узнав, заторопился. Прихватив первую попавшуюся доску, он потрусил мимо часового к конюшне и там, прислонив ношу к стене, отдышался. «Неужто живые еще? – радовался и сомневался старик. – Ведь и думать не думал…» Никодим вышел за ворота и тут же увидел мать Мелитину. Привстав на каменное основание забора, она пыталась вставить веточку вербы в железную трубку над воротами, прибитую здесь, чтобы по праздникам вывешивать красный флаг. Прошка Грех, от старости ставший совсем маленьким, мальчиковатым, подсоблял ей, придерживая за длинный подол.
– Матушка, – позвал Никодим и, сам того не ожидая, заплакал. – Неужто жива, матушка…
Мать Мелитина вставила-таки вербу и, оглянувшись на старика, медленно спустилась на землю.
– Ой, Никодим… – выдохнула она и враз ослабла. – Благодарю Тя, Господи… Не чаяла, а вот и дом стоит, и ты живой. Чудилось, и вовсе конец света, ан нет, до срока думала, грешница. Есть ныне и свет Божий, и праздник Вербный.
– Пошли-ка, дочка, – тоненько позвал Прошка Грех и потянул за подол. – Далеко нам идти…
– Тятенька, ты Никодима-то не узнал? – тихо засмеялась мать Мелитина. – Помнишь, кучером-то был у архиерея, у отца Даниила?
Прошка открыл беззубый рот, поморгал слезящимися глазами.
– Кучеров-то у нас было – упомнишь ли? – вздохнул он. – Однех карет трое запрягали…
– Что ж мы эдак-то, у ворот? – спохватился Никодим. – В избу заходите. Поди, с дороги приустали.
– А ты все здесь живешь? – тихо вздохнула мать Мелитина. – Одного тебя с места не стронули…
– Хотели, да что с меня проку? – Старик утер глаза шершавой рукой. – Я ведь конями всю жизнь правил. Нынче и коней не дают… Ну, айдате, гостеньки дорогие, пока часовой-то не видит, пробежим. Воскресенье, так нет никого. Не то ругают, чтоб посторонние не шлялись. Учреждение как-никак…
Он провел гостей на задний двор и впустил в каморку, отгороженную в каретном сарае. Засуетился, усаживая куда получше и освобождая место от чиненых хомутов и седелок. Потом взялся за самовар.
– Нынче в хоромах-то ГПУ помещается, – пояснил он на ходу. – Меня конюхом оставили. Я в юности конюшил, и вот в старости… При конях ниже чина и не бывает. Да что говорить? Теперь всех людей в чине понизили. А кого нельзя ниже, и вовсе… под ликвидацию… Откуда вы-то идете? Где жили столько лет?
Мать Мелитина осмотрелась, взяла из рук Прошки три ветки вербы и подоткнула к божничке, помолилась.
– Издалека идем, с самой зимы пробираемся, – сказала она. – Тятенька вот совсем обезножел. Где подвезут, где как… А жили мы под городом Туруханском. Как срок нам вышел, так и тронулись в путь. Общиной шли, в шестнадцать душ. Иных по пути Господь прибрал, иные по домам вернулись, иные далее пошли, аж в саму Россию. Вот и мы добрались. Жительство нам под Барабинском определили, да куда же мы из родных мест пойдем?
– Не пойдем, – подтвердил Прошка Грех и, отщипнув губами вербную почку, стал валять ее во рту. Мать Мелитина отобрала у него ветки, а Прошка спрятал почку в кулачок и затих.
– Не встречал ли моих, Никодим? – вдруг спросила она и боязливо умолкла.
– Разве у тебя оставался кто? – насторожился старик. – Будто все вышли…
– Сын! Сыночек мой оставался!
Никодим поправил самоварную трубу, ощупал свои руки – время тянул, не хотел говорить. А видно – знал, знал что-то об Андрее!
– Барабинская – плохое место, – горестно сообщил старик. – Голо там, степь, волками покрещенная, и более ничего. Сколь бы ни ехал – все буран, буран… Может, дома останетесь? Я завтра похлопотать могу, попросить за вас. Прокопий эвон какой стал, не дойдешь с ним, матушка. Может, начальник-то, Марон, войдет в положение, оставит. Бывает, оставляют… Завтра он будет в ходок садиться, я и попрошу. Вот бы только с жительством определиться. Пока-то на постой ко мне, а там видно будет…
Мать Мелитина терпеливо ждала, не сводя глаз с сутулой стариковской спины. Когда Никодим замолчал, то стало слышно, как за стеной пугливо фыркают кони.
– Благодарствуйте, – проронила она. – Не будет мне ни места, ни житья, пока сыночка своего не найду. Тятеньку бы вот только устроить да подлечить, на родные могилки взглянуть…
– Искать пойдешь? – вдруг спросил старик.
– Кто же его поищет, если не я? – изумилась мать Мелитина. – Кому он еще нужен так, как мне?
Никодим оглядел чиненую-перечиненую рясу, из-под которой торчали носки разбитых яловых сапог, и опустился на лавку рядом с монахиней.
– А нужна ли ты ему? – Он глядел в пол. – Давно я ничего не слыхал про твоего сына. Раньше говорили, большим человеком в Красноярске был. Коль нынче ничего не слыхать, верно, еще большим сделался. В столице где-нито живет, поди-ко…
– Коль большой начальник и живет хорошо, так слух бы был, – не согласилась мать Мелитина. – Народ бы сказывал…
– Эх, матушка, – пожалел старик. – При нынешней власти всякие начальники есть. Мелконьких-то сразу видать. Эвон ходят, револьверишками трясут – строжатся. Насмотрелся я тут всякого, повидал уж… А большие начальники, они мягонькие, встренешь на улице и не подумаешь. Да они и по улицам-то не ходят. Пронесутся эдак – токо и видел. Народ стоит гадает: кто проехал?.. А есть, матушка, совсем чудные, навроде тайных советников. Раньше тайный советник грудь колесом ходил, у народа на глазах, и за версту было видно, какой он тайный. Нынешний, будто кошка ночью, шмыгнет мимо – и нет его. Шепотком одно словечко скажет – эти, что народ мордуют, аж трясутся со страху. И такие дела творят…
– Что же он, тайный теперь? – горестно спросила мать Мелитина.
Никодим ссутулился еще больше и, раздумывая, теребил клочковатую пегую бороду.
– Они ведь меня в расчет не берут, – наконец сказал он с хитрецой в голосе. – Думают, старик, из ума выжил… А я все примечаю.
– Где же его искать, если скрытно живет?
– Ты, матушка, не бери в голову, что я болтаю, – неожиданно заявил старик. – Может, он вовсе и не тайный, а просто знаться не желает с тобой. Может, он отрекся от родителей? Нынче ведь так пошло: не по совести живут – по выгоде. Иначе-то бы похлопотал за мать, из ссылки выручил. Коли большой начальник, дак что ему стоит?
– Не давала драть, когда поперек лавки лежал, – вмешался Прошка Грех. – Я бы скоро ума вставил. Дак нет, в музыку с ними играла, песни пела. Потому на старости лет и ходим-мыкаемся.
– Не сердись, тятенька, – ласково попросила мать Мелитина. – Кто же знал, что дома нашего не будет? Не наша на то воля.
– Да уж не наша, – согласился Никодим, оживляясь. – Не слушай меня, ищи своего сына. Я вот один, так и искать некого… Ну, вы располагайтесь, сапоги-то хоть снимите, посушить надо. Я сей же час печку подтоплю…
– Не хлопочи, Никодим, – остановила его мать Мелитина. – Мы в обитель свою пойдем. Там где и притулимся. Много ли надо…
– Что ты, матушка! – замахал руками старик. – К обители теперь и близко не подпускают. И не думай даже. Там нынче тоже учреждение.
– Как же? – испугалась она. – А слыхала – пусто там и окна повыбиты…
– Было пусто, да заселили, – сообщил Никодим. – Уж скоро год как.
– А могилки?.. Ведь сыночек мой там, Сашенька! И деверь мой, отец Даниил… Как же они-то?
– Про могилки не знаю, матушка, – загоревал старик. – Давно не был. Теперь вовсе не пускают, не поглядишь. А кого пускают, у того уже не спросишь.
– Думала, хоть Сашеньку искать не придется, – сокрушенно вздохнула мать Мелитина. – Но и его могилки не увидеть… Кто же там нынче живет, Никодим? Раз не пускают?
– Люди, матушка, люди…
– Жива ли Богородица-то? – всполошилась мать Мелитина. – Над воротами? Икона-то?..
– Жива, – обрадовал Никодим. – Видел издалека…
Они оба замолкли, и расходившийся самовар засопел, засвистел милицейской трелью. Но в каморке стало совсем тягостно, и Никодим, взбодряя себя, заговорил, забалагурил:
– Вот и чай поспел! Угощать нечем, да и Пост Великий, дак хоть чаю вволюшку напьемся! Как бывало у покойничка-владыки…
– Не время нынче чаи распивать, – вдруг решительно и строго сказала мать Мелитина. – Пойду сыновей искать. Пойду. Страстную неделю поживу, помолюсь у ворот обители, да и тронусь… Есть ли у тебя шайка или лохань какая?
– Да есть, – засуетился расстроенный Никодим и достал из-под лавки шайку. – Конешно, у меня вам не житье… И мне тут самому какое житье? Да я привык. Человека отучить трудно, а приучить-то…
Мать Мелитина налила из самовара в шайку кипятка, разбавила его холодной водой и, стащив с Прошки Греха большеватые солдатские ботинки, стала мыть ему ноги. Иссохшие, костлявые ступни отливали смертной синевой, и, похоже, мозоли уже не набивались на этих ногах, хотя кожа была тонкой и почти прозрачной. Прошка блаженно прикрыл глаза и вдруг сказал радостно, с какой-то детской хвастливостью:
– Я к Боженьке пойду! Мне к Боженьке надо!
Над черными коваными воротами монастыря, в лепном золоченом киоте сияла в вечерних лучах икона Умиления Богоматери. Все было здесь как прежде: вишневый камень стен, белый храм на фоне корабельных желтых сосен и сизый отблеск полой воды в излучине Повоя. Казалось, минет вечность, а в этом покойном месте ничего не произойдет и не изменится, пока встает над землей солнце и пока Матерь Божия держит Сына на руках. Но чем ближе подходила мать Мелитина к своей бывшей обители, тем сильнее заходилось сердце от печали и тяжелел взятый на закорки, почти невесомый отец, Прошка Грех. И нельзя было поднять руки для крестного знамения…
По гребню стен, над аркой ворот и над киотом тянулась колючая проволока, а за нею проглядывали темные окна длинных бараков. По лику Богоматери, по ее рукам и одеждам струились черные потеки.
У ворот, пиная камешки, ходил стрелок с винтовкой.
Мать Мелитина спустила Прошку на землю, дала ему в руки палку, и он остался стоять, подрагивая, словно только что вылупившийся цыпленок. Часовой рассматривал пришедших с любопытством и поддергивал на носу очки в железной оправе. Великоватая буденовка висела на ушах, придавая ему какой-то пришибленный и нелепый вид. Будь он парнишкой – все бы ничего, не привык к казенной одежде, не приносилось еще военное, а этому наверняка под тридцать. Значит, из интеллигентской семьи и служит без году неделя. Стороннему человеку всегда кажется, что солдаты, монахи и каторжники на одно лицо. А они же такие разные! И душа каждого кричит: нет! Я не такой, как все! И если не видеть и не слышать этого – навряд ли пережить бы туруханскую ссылку…
Она приблизилась к часовому и, поклонившись иконе, тихо поздоровалась. Стрелок тотчас ответил ей. И лишь мгновение спустя спохватился, подбросил винтовку на плечо.
– Назад, – неуверенно сказал он. – Подходить к воротам запрещено!
– Не к воротам я пришла, батюшка, – ласково отозвалась мать Мелитина. – К иконе. Ведь праздник сегодня. Неужто и икона Богородицы под твоей охраной?
Стрелок покосился вверх, пожал плечами:
– Про икону не приказывали…
– Так уж пусти к иконе, – попросилась она. – В праздник не пустить – грех великий.
Часовой смутился, поддернул очки.
– Разговаривать на посту нельзя.
– А ты молчи, – утешила его мать Мелитина. – И помоги-ка мне вербушку положить. Сама не достану, высоко…
Стрелок окончательно растерялся, и по его тонкому, чувственному лицу скользнула едва заметная гримаса досады. Он словно говорил про себя: «Почему именно в мое дежурство принесла их нелегкая? Теперь придется что-то делать». Мать же Мелитина уже не сомневалась, что стрелок не откажет. Он служил недолго и был еще совестливым, и люди перед его глазами еще не были на одно лицо. Она протянула часовому веточку, и тот взял. А до киота было высоко, пришлось бы взбираться по воротам под свод арки, однако стрелок вдруг скинул с плеча винтовку, примкнул штык и поднял на нем вербу к самой иконе. Пристроив там веточку, он обернулся к матери Мелитине уже радостный от своей догадливости и сноровки.
– Храни тебя Господь. – Она перекрестила стрелка, и тот, сняв буденовку, поклонился. – Скажи мне, сынок, цел ли погост у храма?
– Могилы? – Он оглянулся назад, на ворота. – Могилы есть, да… только кресты сняли. В окна вставили, в бараки…
– В окна? – испуганно переспросила мать Мелитина. – Господи, зачем же в окна?
– А вместо решеток, – объяснил стрелок и втянул голову в плечи. – Не все сняли, только железные, кованые, с узором.
Прошка Грех приковылял ближе к воротам и встал, прислушиваясь. Белесые глаза его оживились, открылся вваленный рот.
– Пускают? Али не пускают? – прошамкал он. – Спроси-ка толком-то, дочка.
Мать Мелитина спохватилась, попросила ласково:
– Пусти нас, сынок. Мы только на могилки глянем да вербочки положим.
– Не могу я, матушка, – почти взмолился стрелок. – Никак нельзя!
– Да ведь мы на минутку. И уйдем. Столько верст прошли…
– Пожалейте меня, ей-богу! Накажут строго, не могу. Начкар – человек суровый…
– Ну, Бог с тобой, – согласилась мать Мелитина. – Тогда вот вербушки возьми да положи сам. Кресты каменные, должны стоять…
Стрелок взял вербу и с облегчением, будто вынырнув из воды, хватил воздуха, сунул ветки под шинель.
– Положу, матушка, – начал он, однако низкий и звучный скрип железной калитки ударил по ушам. Часовой вытянулся, и очки поползли на кончик носа. Дрожащей рукой он спрятал вербные сережки за пазуху и вздрогнул от низкого сильного голоса:
– Деревнин! Что за базар на посту?!
Из калиточного проема выступил человек в военном, заложил руки за спину, оглядывая посторонних, перевел взгляд на стрелка:
– Взятки брать? – Он выхватил из-под шинели стрелка вербу, повертел в руке, постучал букетом по хромовому сапогу. – Та-ак… В чем дело?
Прошка Грех вдруг поднял палку, замахнулся на военного.
– Нехристь, так твою мать! – заругался он. – Ныне везде вход позволен! Ныне и в Иерусалим пускают!
Стрелок слегка успокоился и стоял, опустив глаза. Мать Мелитина взяла у военного вербу и оттеснила Прошку. Военный усмехнулся, мотнул головой:
– Погляди на них! Вражьи недобитки… К кому пришла?!
– К сыну, – сказала мать Мелитина. – И к деверю.
– За что сидят?
– Ни за что.
– Все вы ни за что!
– Они в могилах, – несмело вставил часовой и тут же поправился: – Давно похоронены. На погосте.
Военный стрельнул прищуренным глазом в его сторону, сказал, добрея и теряя интерес:
– Тут не музей и не проходной двор. Учреждение… Идите-ка домой.
Мать Мелитина подняла глаза к иконе, перекрестившись, попросила:
– Прости его, Господи…
Военный машинально проследил за ее взглядом, качнулся на носках – скрипнули ухоженные сапоги.
– А вербу дай, – вдруг сказал он. – Так и быть, положу… Кому только? Фамилии?
– Нет у них фамилий, – сказала мать Мелитина. – Только имена. Александр и Даниил. Рядом лежат.
– Ладно… – Он помедлил. – А твоя как фамилия?
– И у меня ее нет, – проронила мать Мелитина. – Без нужды нам фамилия.
– Документы-то есть? Ну-ка предъяви! – посуровел военный.
Мать Мелитина неторопливо достала выданную в Туруханске бумагу, где говорилось об отбытии ссылки и направлении на жительство под Барабинск. Военный кашлянул и усмехнулся:
– Говоришь – нету… Березина твоя фамилия, Любовь Прокопьевна. Или отвыкла от своей фамилии в монастырях-то?
Он уже совсем подобрел, ему хотелось шутить и, может быть, как-то развеселиться, коротая воскресное дежурство.
– Отвыкла, – призналась мать Мелитина.
– А теперь привыкай, хватит. Женщина ты еще не старая, можно и замуж пойти. Чего ходить в божьих невестах-то, когда эвон сколь мужиков кругом!
Она стерпела. Прошка Грех теребил ее за полу, шептал, бормотал:
– Пускают? Али нет? Али мне его палкой, палкой…
– Березина? – неожиданно повторил стрелок и вытянул шею. – Товарищ Голев! А?..
Военный не услышал его. Стрелок, часто поправляя очки, таращился на мать Мелитину и хотел что-то спросить.
– Дозвольте икону вымыть, – попросила мать Мелитина. – Или обтереть бы. Вспомните матерей своих. И Божью уважьте.
Военный глянул вверх и чуть не сронил фуражку с головы.
– Высоко… Загремишь еще оттуда. Ты иди, тебе еще далеко топать, в Барабинск-то. А за икону не волнуйся. Я вот стрелка заставлю, он и вымоет. И то верно, в порядке надо содержать. Иди, Любовь Прокопьевна.
Он никак не хотел замечать Прошку Греха, словно его не существовало уже на этом свете. Мать Мелитина подхватила отца на руки, поклонилась иконе и пошла не оглядываясь. Военные у монастырских ворот смотрели ей в спину, и было в их взглядах нечто высокое и всесильное.
А Прошка Грех сердился и щипал твердыми пальцами дочернее плечо:
– Плохо сказывала, вот и не пустили. Мягкая ты у меня, кисель, а не девка. С ними круто надобно бы…
Она терпела, пока монастырь вместе с холмом и рекой не скрылся за лесом. Потом руки ее ослабли. Опустив Прошку на землю, мать Мелитина села подле него и собралась в комок.
– Что же мне делать, тятенька? – тихо спросила она, и голос наполнился отчаянием. – Что делать мне, коль человек последним на земле родился? Последним! После зверей, после птиц… И даже после травы… Что же спросить с него?! Ведь он же, как дитя, не ведает, что творит…
Проводив очередных паломников, начкар Голев встал перед воротами и долго смотрел вверх, на икону. Фуражку он предусмотрительно снял; бритая по-модному голова, крупные, породистые черты лица и благородная осанка делали начкара похожим на римского патриция. Часовой как умел держал стойку «смирно» и ждал выговора, однако Голев медлил, хотя по всему было видно, что действиями стрелка он недоволен.
Обгаженная вороньем надвратная икона притягивала взгляд, приковывала воображение. Начкар Голев надел фуражку, оглядел стрелка и похлопал букетом вербы по голенищу сапога.
– Та-ак… Ты сколько служишь, Деревнин?
– Девять месяцев, – отчеканил стрелок, предчувствуя наказание.
– За такой срок баба зачать успевает и родить! – наставительно сказал начкар. – Человека произвести!.. А я из тебя стрелка не могу сделать. Сторожа у ворот. Как ты считаешь – почему?
– Не знаю, товарищ начкар…
– А я знаю. – Голев улыбнулся и заложил руки за спину. – Потому что не наказываю. Все стараюсь через сознание, через соображение воспитать. А вы на четырнадцатом году Советской власти никак того не можете уразуметь. И добротой моей пользуетесь.
– Исправлюсь, Сидор Филиппыч! – заверил Деревнин.
Однако тот махнул рукой:
– Горбатого могила исправит… Кто это вербу туда затащил?
Стрелок глянул на икону и тут же признался:
– Я, товарищ начкар. По недоразумению! Убрать?
– Ладно, пускай торчит. – Голев вздохнул и не спеша скрылся за калиткой.
Деревнин перевел дух и расслабленно обвис, оперевшись на винтовку. Он побаивался начальника караула, как, впрочем, и другие стрелки охраны, но боязнь эта была особой, замешенной на уважении и какой-то таинственной непредсказуемости характера начкара. В Есаульске Голев появился всего год назад, когда организовался лагерь. Видно было, что он старый служака, много повидавший и везде побывавший; через месяц он уже поселился на квартире у Зинаиды Солоповой, молодой и веселой женщины, овдовевшей в гражданскую, а спустя еще месяц уже гулял с ней под ручку по деревянным тротуарам. Однако никто, в том числе и Зинаида, не знал, откуда он явился и надолго ли. Присматриваясь к своему начальнику, Деревнин угадывал за ним тайну, тщательно скрываемую даже от начальника лагеря. Скорее всего Голев когда-то занимал высокие должности, даже выше, чем начлаг, но тут служил в караулке, командовал двумя десятками стрелков и, кажется, был очень доволен. Создавалось ощущение, будто он прибыл в Есаульск на отдых от каких-то своих трудных дел и служба ему тут в радость и развлечение. Отдохнет, погуляет с вдовушкой и скоро уедет на свою главную и тяжкую службу, знать о которой никому не положено. Деревнину самому приходилось кое-что скрывать из своей биографии и своих взглядов, поэтому он чувствовал скрытность других и непроизвольно защищался от них: если видит он, значит, видят и другие… А Голев наверняка предугадывал, подозревал Деревнина, поэтому частенько прощупывал его оброненными невзначай вопросами о прошлой жизни, и приходилось бдеть ежесекундно, чтобы не взяли врасплох.
Через несколько минут начкар вернулся с лестницей, неторопливо приставил ее к карнизу ворот, проверил, хорошо ли стоит, для надежности подпер камнями.
– Икону мыть? – с готовностью спросил Деревнин.
– Лезь! – приказал Голев. – Ведро принесу.
Стрелок прислонил винтовку к стене, но, спохватившись, закинул оружие за спину, полез вверх. Коснувшись иконы, он воровато перекрестился и стал поджидать начкара. По монастырскому двору, построившись в затылок друг другу, бродили заключенные. Они ходили по кругу возле бараков набитой и побелевшей на солнце тропой, щурились на меркнущий закат, тоскливо озирались по сторонам и казались похожими, как братья. Заглядевшись на этот хоровод, Деревнин не заметил, как под лестницей оказался Голев с ведром и кистью. В ведре белела густая, будто сметана, известь.
– Забеливай! – велел начкар. – Да аккуратней смотри, на ворота не брызгай.
– Кого забеливать? – невпопад спросил стрелок, хотя уже понял, о чем речь.
– Мать Богородицу.
Дрожащей рукой он принял ведро, окунул кисть, но рука не поднялась. Лестница слегка качнулась под ногами.
– Что, стрелок, боязно? – без злорадства поинтересовался Голев и отступил от ворот, чтобы брызги извести не попали на него.
– Боязно, – признался Деревнин и поймал себя на мысли, что ему хочется опрокинуть ведро на голову начкара, а самому бежать потом куда глаза глядят.
– Человек должен преодолевать себя, – сказал начкар. – Бороться со своей слабостью. Понял?
– Понял… – выдавил стрелок. Богородица смотрела ему в глаза и тоже будто спрашивала – понял или нет? А глаза маленького Христа показались печальными и стыдливыми.
– Так трудись над собой, – посоветовал Голев. – И ничего не бойся. Бога нет, поверь мне. Я проверил это на себе. Видишь – жив.
Деревнин глянул вниз. Начкар стоял прямой, ладный и независимый. И если говорил, значит, проверял. Его не разразило громом, не согнуло дурной болезнью, не изъязвила проказа.
Стрелок еще раз обмакнул кисть и, не поднимая взгляда, наугад, мазнул Богородицу по глазам. И ничего не случилось. Только во дворе послышался неясный шум и пронзительный крик женщины. Начкар заспешил в калитку, а Деревнин осторожно выглянул из-за кисти.
Молодая женщина, вцепившись в гимнастерку охранника, неумело била его по щекам, а он пятился и отталкивал ее обеими руками. Остальные лагерницы, сбившись в кучу, стояли подле и безучастно глядели на дерущихся. Охранник наконец изловчился и сбил женщину на землю. Однако та проворно вскочила и с еще большей яростью бросилась на него, расцарапывая ему лицо. В этот момент неподалеку оказался начкар с револьвером в руке, а от караулки бежали стрелки с винтовками наперевес.
– Ложись! – зычно крикнул Голев и выстрелил вверх. – Всем лежать!
Женщины неуклюже повалились на землю, и только та, распаленная гневом, ничего не слышала и не видела. Подоспевший стрелок из караулки схватил ее за волосы и рывком опрокинул навзничь. Женщина вырывалась, крутилась по земле, безумствовала, но стрелок хладнокровно оттащил ее к лагерницам и выпустил косу.
– В карцер! – распорядился начкар, и двое стрелков подхватили женщину под руки, повели в глубь двора. Ноги ее заплетались, моталась по сторонам опущенная голова, и коса доставала земли.
Деревнин перевел дух и взглянул на икону. Известь оплыла, и сквозь молочную пленку глядели на него скорбные глаза Божией Матери. Тогда он мазнул по иконе еще раз, еще, однако густая известка не приставала к фреске, скатывалась и текла под лестницу. Деревнин спустился на перекладину пониже, пристроил ведро и, макая кисть, стал втирать известь, осыпая на землю брызги и вороний помет. Дело пошло. Через минуту на месте иконы белело овальное пятно. Деревнин несколько успокоился и, уже не торопясь, стал перебеливать. На сей раз известка ложилась ровно и даже красиво. Теперь бы и никому в голову не пришло, что здесь когда-то была фреска с изображением Богоматери.
Закончив работу, Деревнин спустился на землю и очутился перед Голевым. Подбоченившись, тот оглядел стрелка и покачал головой:
– Погляди на себя!.. И ворота уделал! Ну и стрелков набрали! Ни украсть, ни покараулить… Летягин?! – вдруг крикнул он, сунувшись в калитку. – Долго мне ждать?
Со двора вышел стрелок с расцарапанным лицом, понуро встал у ворот. На поясе болталась пустая кобура.
– Простите меня, товарищ Голев, – без всякой надежды попросил Летягин. – Я в следующий раз такого не допущу. Ей-богу!
– Все, отдыхай! – резанул начкар и с громом затворил за собой калитку. – Ну, охраннички социализма, мать вашу…
Летягин тяжело вздохнул и, достав кисет, присел на корточки возле стены. Руки его еще подрагивали, табак просыпался на колени. Он часто промокал рукавом гимнастерки сукровичные царапины и болезненно морщился…
– С караула снял? – спросил Деревнин, кивнув на ворота.
– Ну… Рапорт напишет начлагу. – Летягин затянулся самокруткой и, чувствуя соучастие товарища, добавил обреченно: – Вышибут из стрелков – куда мне?.. В колхоз?
Деревнин стал отряхивать известковые пятна с брюк и гимнастерки, но лишь размазывал их и пачкался еще больше. Придется стирать либо ждать, когда высохнет, и тогда обшоркать. Скорей бы уж смена, и не дай бог начкара понесет проверять посты. Увидит еще раз в таком виде – тоже снимет и отправит домой.
Летягина уже тянуло на откровенность.
– Ну что я с ней сделаю? Что? Если б чужая была – шарахнул бы так, что навек запомнила… А мы с ней через улицу жили… Отпусти, говорит, домой… Как я отпущу? Ну как?! – Он тоскливо огляделся и втянул голову. – Слышь, Деревнин? Что б такое сделать, а? Чтоб не выгнали?
Деревнин молча и сосредоточенно оттирал известку. Сейчас принесет нелегкая Голева, и можно угодить под горячую руку…
– Домой иди, – посоветовал он. – Тут пост все-таки…
– А вот хрен! Не пойду! – вдруг заявил Летягин и плотнее уселся к стене. – До утра просижу. Ничего, он мужик отходчивый. Отойдет – прощенья попрошу. Пустит.
Деревнину было неудобно прогонять товарища, но и терпеть его тут вовсе ни к чему. Явится начкар и закричит – почему посторонние на посту?! Он занервничал, заходил взад-вперед, подбирая слова и решая, как бы это необидно и определенно сказать Летягину, чтоб ушел и не мозолил глаза. Под руки попала лестница, прислоненная к карнизу. Деревнин схватил ее, поднял, чтобы унести к стене, но в тот же миг выронил и чуть не зацепил Летягина.
Сквозь высохшую известку ясно и как-то празднично светилась икона Богоматери с младенцем на руках…
2. В год 1920…
Первые два дня после освобождения и назначения в ревтрибунал Андрей прожил как-то механически, не осознавая до конца, что с ним происходит. А происходило невероятное, с точки зрения человека обреченного, «отпетого»; казалось, какая-то неподвластная сила, равная всевышней воле, управляет теперь всей его жизнью, и свое собственное желание, своя воля существуют лишь для забавы, как погремушка для ребенка. По сути, он ощущал то же самое, что в тюремной камере, – строгий распорядок быта и бытия, с одной лишь разницей, что вокруг не было стен, решеток, волчка в двери и охраны. Впрочем, охрана была. Вместе с одеждой и амуницией, с мандатом и отдельным двухкомнатным номером в гостинице Андрей получил личную охрану – неказистого с виду, но энергичного человека лет тридцати пяти по фамилии Тауринс. Когда Андрею представили его, в душе ворохнулось легкое сопротивление: зачем ему охрана? Однако по тюремной привычке он тут же отмел все сомнения: жизнь следовало принимать такой, какая она есть. Бессмысленно же возмущаться и протестовать против стен, решеток и запоров, когда сидишь под стражей. Тем более что латышский стрелок Яков Тауринс плохо говорил по-русски и, видимо, стесняясь этого, говорил мало, а, живя рядом, жил незаметно, как полагается телохранителю.
Андрей полежал еще немного под солдатским одеялом с белой простыней и сел, щурясь на солнечное окно.
Он надел френч и, взявшись за ремень, вдруг отложил его. В этот миг он словно вспомнил, что у него нет оружия, нет той тяжести, упакованной в кожу, которая всегда была на ремне. Оказывается, он получил все, кроме оружия! И мысль эта в первую минуту обескуражила его. Конечно, можно и без револьвера, если за тобой по пятам теперь ходит телохранитель, да еще бывший конвоир, ныне ставший чем-то вроде денщика. Но в том, что, предусмотрев все, ему не дали оружия, крылось недоверие. Именно недоверие! Иначе бы хоть какой-нибудь револьверишко да сунули. Что за солдат, если в войну ему не положено оружия?
«Погоди, а может, в ревтрибунале не полагается? – попробовал успокоить себя Андрей. – К чему? Зачем судье оружие?»
И все-таки в душе возникла щербинка, язвочка, ноющая не больно, однако настойчиво, чтобы вовсе не помнить о ней. Андрей затянул ремень, посмотрелся в зеркало и стал умываться под жестяным рукомойником в углу.
– Доброе утро! – в приоткрытой двери стоял Тарас Бутенин и улыбался. – Как ночевали?
– Спасибо, – буркнул Андрей.
Бутенин отчего-то перешел на вы, причем умышленно, поскольку никогда не ошибался, даже если они оставались вдвоем. Это походило на подхалимаж, но Андрей терпел.
– Из Сибири вестей нет? – спросил он, утираясь солдатским полотенцем.
– Молчат! – засмеялся Бутенин. – Новость пережевывают!
Два дня назад Бутенин телеграфировал в штаб о назначении Андрея, и теперь они оба ждали ответа. При одном воспоминании о красноярской тюрьме или о комиссаре Лобытове Андрей загорался мстительным чувством. И чем дольше не было вестей из штаба, чем дольше там соображали, что же произошло с Березиным в Москве, тем чувство это становилось ярче и порой, особенно перед сном, захватывало воображение. Он даже пытался представить себе, как вернется в Красноярск, где его уже «отпели», и видел почему-то себя строгим и хмурым человеком. Да и слова-то приходили какие-то незнакомые, дерзко-мстительные. «Ну что? – спросит он Лобытова. – Хотел меня в землю? С дерьмом смешать? Ноги об меня вытереть?.. Видишь, а я жив и назначен председателем ревтрибунала. Судить буду». И ничего не скажет в ответ Лобытов, только позеленеет от злости. С этими мыслями и словами он засыпал, однако утром отчего-то вспоминалась одиночка в Бутырской тюрьме, и вместо удовлетворения Андрей чувствовал раздражение и не находил себе места.
– До чего же стыдно, стыдно, – бормотал он, если был один. – Мне же так нельзя жить. С какими глазами возвращаться?.. Обласкали, назначили, но зачем мне… зачем мне вся эта суета?! Какой же из меня судья? И кого судить? За что?..
Оборвав себя на полуслове, он заглядывал в смежную комнату – не слышал ли кто? не громко ли он говорил? – и, чуть усмирив отчаяние, продолжал бормотать – тише, с опаской:
– Ничего не хочу… Я ничего не хочу! Все против воли моей, все противно. Чувствую же, как мне противно! Мерзость кругом, не хочу больше. Наелся я человечины… Господи, зачем мне все это?!
Когда на глаза наворачивались слезы, он отряхивался от навязчивых покаянных слов и бежал к рукомойнику. Вода смывала все, освежала лицо, и если долго бездумно плескаться, то и душу. «Ничего, ничего, – убеждал он себя, словно возвращался с похорон близкого человека. – Надо жить. Живым надо жить…»
Андрей повесил полотенце и еще раз глянул в зеркало. Обезображивающий лицо шрам надежно прятал чувства. Никому и в голову не придет, что он мгновение назад плакал…
Тарас Бутенин все еще торчал в дверях и улыбался.
– Пускай, пускай подумают, – добавил он, имея в виду штаб в Красноярске. – Торопить не станем… Зато вам пакет принесли. Да я не стал будить, в шесть утра еще…
Андрей молча забрал пакет, открыл его и достал узкую полоску бумаги. «Дорогой тов. Березин! – прочитал он. – Жду Вас в 12 ч. 30 м. на ул. Басманной, дом 21, третий эт. Встречу сам. Шиловский».
Он прочитал еще раз и засунул пакет в накладной карман. С Шиловским они не встречались с того самого момента, как тот после аудиенции у Троцкого выписал пропуск и отпустил из Реввоенсовета. И теперь Андрей подумал, что было бы нехорошо уехать из Москвы, даже не попрощавшись с ним. Все-таки с того света достал, сам воскрес, его воскресил… Можно и простить ему безвинно повешенного парня по фамилии Крайнов. Кто теперь рассудит, кто найдет правых и виноватых? Кто из них кто? Шиловский, не признавшийся, что он комиссар Шиловский, или Крайнов, позарившийся на чужие часы?.. Забывать не следует, но простить можно. Блажен, кто прощает…
– Завтракать-то сюда принести? – спросил Бутенин. – Я сало купил, картошки нажарил…
«Холуйская же натура у тебя, – подумал Андрей. – Какой же из тебя генерал будет?.. Впрочем, будет…»
Еще вчера ему было безразлично отношение Бутенина, но сегодня стало мерзко. К тому же Тарас вошел в комнату, плотно прикрыл дверь и, держась на расстоянии от уха, зашептал:
– Я понял, Андрей Николаич! Вам не телохранителя дали, а шпиона. Тауринс все записывает, сам видал! Осведомителя приставили! Отказывайтесь от него!
Андрей выслушал и, засунув руки в карманы брюк, отошел к окну. Тарас тенью последовал за ним. Он невзлюбил Тауринса с момента его появления, какое-то время был растерян и подавлен. Выходило, что Бутенин будто бы отработал свое и теперь не нужен, а на его место уже взяли другого человека. В первый же вечер они поругались, точнее – Тарас взъелся на телохранителя по какому-то пустяку, и так, слово за слово, разгорелась ссора. Бутенин, распалясь, отчаянно матерился и даже пытался вытолкнуть Тауринса из номера; тот же отвечал ему хоть и резко, но сдержанно. Они, как сводные дети, не могли жить в мире, потому что один все равно был роднее отцу.