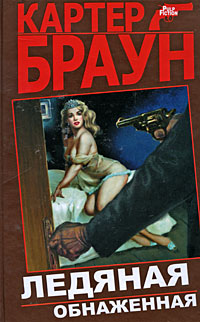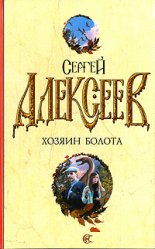Крамола. Доля Алексеев Сергей
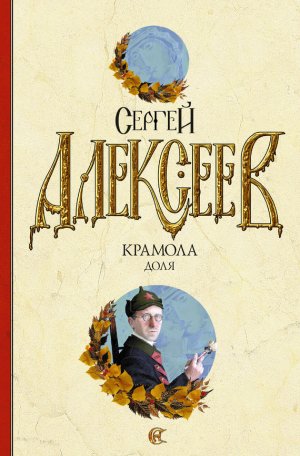
– Не верю! – сквозь зубы выдавила хозяйка. – Никому не верю! Меня никто не любит: ни мать, ни секретарь… И ты не любишь. Все вы только выгоду ищете. Мать хотела, чтоб я за секретаря пошла, а тому лишь бы переспать со мной… А ты из-за теплого угла!
Мать Мелитина тихонько встала, взяла на руки спящего Прошку Греха и под тяжелое молчание хозяйки пошла на улицу, к костру, коротать остаток ночи.
И всю эту ночь над Есаульском дул черный ветер.
Рано утром в Доме колхозника поднялась суматоха. На крыльцо выползла горбатая нищенка, закричала, заплакала:
– Матушка!.. Ой, люди добрые!.. Благодетельница-то наша задавилась!
Бородатый странник хладнокровно вынул хозяйку из петли, прямую, негнущуюся, положил на скамейку.
– Чего было злобу-то сеять, коль повеситься думала? – спросил он неизвестно кого. – По-доброму бы, дак хоть поминали добрым словом.
Нищие, убогие и колхозники, те, что по справкам жили в доме, сбежались в комнату хозяйки, говорили вполголоса, таращили заспанные глаза. Мать Мелитина сложила руки покойной на груди, связала их тесемкой, веки закрыла. Горбатая нищенка скакала вокруг, причитала:
– Как же ты решилась на эдакое? Да кто ж тебя в веревочку эту сунул? Какое печаль-горе жизню твою задушило-о?..
Бородатому страннику надоело слушать нытье, и он цыкнул:
– Замолчь, бабка! Не велика и потеря…
– Да как же не велика-то? – еще пуще заголосила горбатая. – Ить человек был! Челове-ек…
– Токо жила и делала по-скотски, – не сдался странник. – Нас и за людей не считала.
– Не держи уж зла, чего ты? – плача, заметила нищенка. – Вот ведь ночевать пустила. Знамо, была душа, ежели откликнулась…
Лицо висельницы становилось покойным, гримаса страдания разглаживалась, расходилась, словно круги по воде. Черный ветер улегся на рассвете и перестал звенеть стеклами в окнах. Постоялый народ незаметно разбегался, поскольку вызванная милиция стала составлять протокол и допрашивать свидетелей. Опять гуртились возле костра и пекли картошку. Безногий инвалид тяжело подтащил свой обрубыш поближе к матери Мелитине, достал что-то из мешка.
– Вот, глянь-ко… На столе нашел.
Мать Мелитина развернула клок бумаги. Химическим карандашом было нацарапано: «В смерти моей виноват комсомольский секретарь Яков Боровиков, в чем и подписываюсь».
– Он теперь у меня вот где! – Калека потряс могучим кулаком. – Я из него теперь всю кровь высосу!
– Дай мне, – шепотом попросила мать Мелитина. – А я как-нибудь распоряжусь.
– Не-ет, – засмеялся инвалид. – Ты не сумеешь!.. Он меня на руках носить станет. Я на него верхом сяду. И погонять буду!
Мать Мелитина кинула бумажку в костер, огонь как-то нехотя лизнул ее – не хотело гореть обвинительное слово! – покуражился вокруг и все-таки проглотил. Осталась лишь скукоженная черная тень от записки, на которой еще проступали пепельные каракули. Мать Мелитина размешала палкой этот бумажный остов, и все пропало.
Инвалид молча вытерпел, потом тихо спросил:
– Неужто и его спасти хочешь?.. Ее-то ты не спасла.
– Тебя хочу спасти, – вымолвила она.
– Что меня… – глупо сказал тот. – Богу-то и отдать нечего. Располовинили душу на земле.
Работник ГПУ стал пытать убогих, спрашивать, кто с ней говорил последний, кто и что видел. Матери Мелитине пришлось назвать свое мирское имя. И заметила она, как встрепенулся вдруг бородатый странник, глянул черно из-под нависших бровей, но промолчал. А потом уже и глаз с нее не спускал, всюду по пятам ходил – видно, узнать что-то намеревался. Когда следователи ушли – начали сбегаться соседи, и скоро в Дом колхозника привели мать покойной. Перед крыльцом ударилась она о землю, заголосила:
– Ой-ёй, дочушка! Да что же ты наделала с собо-ой!..
Пришла она не одна – в сопровождении угреватого, коротконогого парня в кожаной тужурке. Глянула мать Мелитина – да сразу и признала, кто явился.
– Успокойтесь, мамаша, – скорбно-высоким голосом сказал парень. – Это дело вражьих рук. Она была честной комсомолкой. Мы выдвинули ее на руководящую работу. И мы похороним ее со всеми почестями!
– Спасибо тебе, Яков Назарыч, – причитала мать покойной. – Уж ты меня не бросай в тяжелую минуту.
Комсомольский секретарь зашел в комнату, постоял возле тела с опущенной головой и, выйдя на крыльцо, начал говорить речь:
– Враги народа и социализма оборвали жизнь прекрасной девушки-комсомолки. В ответ на это мы сплотимся теснее, сомкнем наши ряды и поднимем бдительность на высшую точку!
Его слушали колхозники-постояльцы, нищие, убогие и насмерть перепуганные соседи. Слова звучали так торжественно и скорбно, что многие заплакали, а кто-то из колхозников хмуро одобрил:
– Верно говоришь. Всю сволочь – к пролетарско-крестьянскому ногтю!
Инвалид-обрубыш, торча в толпе, как гнилой зуб, лишь мычал и мотал тяжелой головой.
Мать Мелитина усадила Прошку Греха на ящик возле костра, дала ему хлебную корку и поднялась на крыльцо к оратору.
– Прежде чем ее схоронишь да почести воздашь, – прошептала она, склонившись к самому уху, – не забудь ребеночка прикопать. В назьме он лежит, возле бани. Похорони его, твой ведь ребеночек. А я никому не скажу, не бойся. И помолюсь за тебя. И ее отпою.
Он выслушал спокойно, с прежним траурным задором на лице, затем надел кепку и по локти опустил руки в карманы большеватой тужурки.
– Прошу религиозной пропаганды не проводить, – отчеканил он. – Почему рясу не сняла? Кто позволил? И чтоб никаких отпеваний! Комсомольцев не отпоете!
– Отпою, – снова зашептала мать Мелитина. – Хоть и нельзя, коль руки на себя наложила, но все равно отпою. Не по своей воле она погибла. А ты схорони ребеночка. Его и отпевать не надо. Не оставляй в назьме.
Секретарь не стал больше говорить перед народом и пошел давать распоряжения своим активистам, чтобы смастерили гроб и украсили его кумачом. Инвалид не выдержал, подскакал поближе и метнул в секретаря деревянный подручник. Но от волнения промахнулся и попал в активиста. Тогда он швырнул второй подручник – и тоже мимо. Застонал, замычал от бессилия и, повалившись боком, ударил кулаками в землю:
– Господи! Услышь меня! Покарай, покарай!
Все – горожане и приезжие, нищие и убогие – примолкли от его крика и, стоя у огня, смотрели, как горит веревочная петля.
Покойную увезли из Дома колхозника в родительский, а вместе с нею увели и мать Мелитину – совершить отпевальный чин. Мучили ее сомнения – можно ли отпевать висельницу? Но, поразмыслив, все-таки решилась. Как ни говори, хоть и шла к смерти неосознанно, да ведь исповедалась, покаялась в грехе. Да и жизнь-то ведь пошла такая, что по старым канонам – все во грех.
По дороге она видела, что следом за ней, на расстоянии, идет и бородатый странник. Потом, когда комсомольцы ушли и мать Мелитина приступила к обряду, странник тихонько прокрался в дом и устроился в углу. Он мешал сосредоточиться на молитве, искушал на мысли о земном: отчего-то думалось, что есть у него известие о сыне. Ведь не было же интереса, пока она мирское имя не назвала. Спросить бы… Да творя дело духовное, можно ли о сыне думать? Нельзя…
То была еще одна бессонная ночь, а какая по счету – и не упомнить. Далеко за полночь, читая Псалтирь у изголовья покойной, почувствовала мать Мелитина, как поплыли перед глазами строки и задвоилась свеча. Старушки, что помогали ей – подтягивали молитвы, – давно уморились и теперь спали сидя; их восковые лица, облегченные сном, разгладились и засветились изнутри. Мать усопшей, склонившись над гробом, замерла каменным истуканом, и в ее немигающем взгляде отразилась неуемная материнская тоска. И только странник в углу не дремал и все таращился на мать Мелитину, ломая в раздумье крутую бровь.
Лишь когда ей почудилось, будто задышала покойная, пришлось отложить чтение и выйти освежиться на холодок, который обычно бывает по ночам Страстной недели ранней Пасхи. Во дворе она отыскала кадку с водой, разбила рукой легкое стеклышко льда и, умывая лицо, услышала где-то на огороде неясную возню и отрывистое человеческое дыхание. Неподалеку от бани, возле навозной кучи металась черная тень. Можно было подойти ближе и удостовериться, но мать Мелитина побоялась вспугнуть человека, делающего в своей жизни первый шаг. Вспугни – упадет и больше не встанет.
– Возлюби его, Господи, – попросила она. – Меня ослепи – ему глаза открой.
И только сказала так – ослепла на миг, качнулась, ища руками опору. Почудилось ей, будто в это время высоко над головой всхлопнули легкие птичьи крылышки и унеслись в бездонное небо. Когда же прозрела она, то увидела, как черный человек бежит прочь с огорода, и сквозь шорох подошв и хруст ледка услышала неумелый, сдавленный плач.
– Благодарю Тебя, Всемилостивый! – трижды до земли поклонилась мать Мелитина, засмеялась и пошла в дом, словно там свадьбу играли, а не мертвец лежал.
Она попроведала Прошку Греха – тот спал в горнице, на хозяйской перине, – и встала трудиться. Бородатый странник лежал в своем углу, свернувшись в клубок, однако стоило матери Мелитине произнести слово из Псалтири, как тотчас же он встрепенулся и больше не смыкал глаз. Иногда лицо его становилось задумчивым, будто он мучительно силился что-то вспомнить, но никак не мог, и тогда он мрачнел и словно бы отрешался от всего, пока неведомая, терзавшая его мысль вновь не подкатывала, как ночная изжога.
К рассвету мать Мелитина закончила отпевание, помолилась на хозяйские иконы и хотела уж было Прошку будить да идти своей дорогой, но тут приблизился к ней странник, разлепил ссохшиеся губы и попросил смиренно:
– Отпой и меня, матушка.
– Да как же отпою, коль ты живой еще? – спросила мать Мелитина.
– А живых не отпевают? – Лицо его стало жалобным и несчастным.
– Неужто ты не знаешь, батюшка?
– Не знаю, – задумчиво проронил он. – Не помню…
Она бы и еще поговорила с ним, может, и о сыне бы расспросила, однако тут подружки хозяйкины увели ее завтракать в соседний дом. А там затараторили, заголосили и в ноги повалились:
– Матушка! Горе нам, горе! Внуки некрещеными остаются, как басурмане живут. Не откажи, окрести внучат-то! Уж мы тебе и мануфактуры на новую рясу дадим – эта вон как поизносилась! – и ботинки новые справим. И тятеньке твоему справим… Не откажи!
Прошка послушал-послушал старушечий ор и велел крестить ребятишек.
– Чего, чего ломаешься? – напирал он. – Раз ботинки сулят – трудись. А то в чем я к Боженьке пойду? Боженька далеко, не одну пару износишь!
Бородатый странник, пришедший за матерью Мелитиной, тоже был усажен за стол и теперь позыркивал на нее с каким-то недовольством и угрюмостью. Старухи же внуков и внучек своих на руки к ней пихают, просить заставляют. Дети спросонья и не поймут ничего: кто заревел, кто глазенки припухшие вытаращил, кто засмеялся от щекотки. Заныло сердце у матери Мелитины. Да укрепилась она и послала бабок добыть купель у Никодима – тайно вынести ее с бывшего архиерейского двора. Пока отдыхала она, купель добыли и ребятишек со всей округи собрали. Хорошо, дом большой, с зимником и поветью, – все кое-как уместились. Говорят шепотом, с оглядкой, а у ворот старушку поставили, приглядывать, кто по улице идет. Бабки, деды и матери наказывают ребятишкам:
– Смотри, где был – не сказывай. И что крестили тебя – молчи. Не то в ГПУ заберут и в монастырь посадят.
Построила мать Мелитина притихших детей на повети в хоровод, вместо мирры – ладаном помазала и повела к купели, затем – на крестный ход.
– Господу Христу молитеся, Господу Христу молитеся…
И только закончила обряд да проводила новокрещенных с миром, как бородатый странник, молча взиравший на действо, вдруг склонил голову перед матерью Мелитиной, словно виноватый ребенок, и тихо попросил:
– Окрести и меня, матушка. Отпеваешь ты хорошо, а крестишь еще лучше.
– Неужто ты не крещен? – удивилась она.
– Не помню я…
– Родители-то у тебя есть? – вглядываясь в лицо странника, спросила мать Мелитина. – Помнишь родителей-то?
Что-то знакомое было в этом лице, но дремучая русая борода прятала подлинный образ, к тому же гримасы страдания искажали нормальное выражение – похоже, человека мучила глубокая внутренняя боль.
– Если я есть, то и родители были, – молвил он. – Не знаю. Памяти нисколько не осталось. Кто я?
– Имя-то свое помнишь? – с надеждой спросила мать Мелитина.
– Не помню. – Он горестно помотал головой. – И фамилии не помню. Меня хоть как называй… Я даже в ГПУ не мог вспомнить. Там всяко со мной пробовали – так и не пришло на ум. Подержали да отпустили. – Он сглотнул накопившуюся слюну и добавил сокрушенно: – Я и Бога забыл!..
Мать Мелитина перекрестилась. Странник сунул руку под одежину и достал узелок, развязал.
– Вот что осталось. – Он показал облупленную матрешку. – Я сначала думал – это Бог. Откроешь одну – там другая, в другой – третья. Как Господь… Надо мной смеяться стали, икону показали, и я Бога вспомнил! А крещен ли – не помню… И кто дал матрешку – тоже не помню.
– Что же с тобой случилось, батюшка? – пугаясь его глаз, спросила мать Мелитина. – Откуда ты пришел?
– Не знаю, – признался странник. – Откуда, зачем – ничего не помню. Но бывает, просветлится ум и как во сне вижу – люди кругом больные, много людей. А бывает, что они все безумные, и я заразиться боюсь. Слово такое помню – эпидемия. Как люди заразные – эпидемия. Животные – эпизоотия. А зачем, к чему эти слова – не помню. И откуда слышал их – не помню.
– Может, ты болел? – с состраданием спросила мать Мелитина. – Может, голова болела, потому и забылся?
– В ГПУ тоже спрашивали. – Взгляд его остановился на четках, что были в руках у матери Мелитины. – Но я вроде сам никогда не болел. Сразу откуда-то такой взялся: руки вот эти, ноги и борода… Я в лесу опомнился. Лежу на земле, руки в крови… Меня здесь убогим называют. – Он дотянулся до четок и боязливо тронул костяшки. – А когда в ГПУ стали бить по голове, я вспомнил еще, что… будто ребенка убил.
Мать Мелитина прикрыла ладонью рот, прочитала про себя молитву.
– Что ты говоришь-то?!
– Да, убил. – Он сделал страшные глаза. – Мальчика, парнишку. Я им признался, а они не поверили.
И она бы не поверила, но сердцем чувствовала, что это правда. Странник не походил на умалишенного. Скорее, он напрочь лишился памяти. Когда он говорил, в глазах его, в прикрытом бородой лице светилась детская непорочность. Но гримасы боли стирали ее, превращая довольно еще молодого человека в глубокого старика. В этой детскости угадывалось что-то знакомое, близкое.
– Крести меня, матушка! – Он взял ее за холодные руки. – Я вспомнил Бога! Все забыл, а Бога помню! Христос имя ему. И молитвы помню… «Отче наш, иже еси на небесех…»
– Не знаю, что и делать, – растерялась она. – Смутил ты меня, и совета спросить не у кого… Если молитву помнишь – значит, крещеный.
– Но ведь у меня имени нет! – едва не заплакал он. – Убогий я, матушка, но имя-то должно мне быть! Чувствую же – никто я. Никто. Будто нет меня вовсе! А окрестишь, так я, может, в память вернусь. Гляди вот: одну матрешку откроешь – в ней еще одна, а в той – еще. А во мне – ничего нет! Страшно… Крести! Крещение – начало, отпевание – конец. Что же меня – ни крестить, ни отпеть даже нельзя?!
«Висельницу я отпела, – холодея душой, подумала она. – Крестить убогого – велик ли грех? И его приму, и отвечу на Суде? Как же мне иначе-то поступить, Господи?!»
Окатила она убогого странника водой из купели, прочитала молитву, провела крестным ходом по повети.
– Господу Христу молитеся, Господу Христу молитеся…
Надела ему на шею самодельный медный крестик и вновь отметила знакомые черты.
– Ежели не грех совершила, то отныне ангел-хранитель тебе даден. А я тебе крестная мать.
Странник засмеялся, разглядывая крестик:
– Мать – слово знакомое, сладкое, а откуда знаю – не помню. Небо на мою голову обвалилось. И ангела моего убило…
Ей казалось, что он все еще смеется, по-детски счастливо и безмятежно, а он уже плакал и давился слезами.
Арестовали ее в Страстной четверг, поздно вечером, и привезли в бывший архиерейский дом. Впервые за долгие годы мать Мелитина снова перешагнула его порог.
До четверга же ее водили из конца в конец города, из дома в дом, крестить да отпевать. Знала она: запрещено это властью, но выше запрета был святой долг, принятый вместе с иноческим саном. Выследили ее, а может, кто и указал, в каком дворе монахиня ночует, приехали на коляске и говорят: отправляйся, мол, с нами, божья невеста, и тебе черед настал во грехах покаяться. Подсадили Прошку, отняли котомки у обоих и повезли.
Ввели ее в дом и сразу же закрыли в комнате, где у владыки церковная казна одно время хранилась. Прошку Греха разрешили возле себя держать.
Утром, только взошло солнце, мать Мелитина увидела через окно Никодима. Он выворачивал бревно из старого заплота, вдоль которого теперь тянулся новый, высокий забор. Выворачивал и озирался на окна дома. Вчера, когда ее привезли в бывший архиерейский двор, Никодим вышел, чтобы распрячь коляску, и наверняка заметил мать Мелитину на крыльце.
Прислонившись к стене у окна, она смотрела на улицу. Никодим, улучив минуту, с бревнышком на плече подошел и стал маячить через стекло. Она не понимала, отрицательно мотала головой. Никодим же, озираясь, снова подавал какие-то знаки, но мать Мелитина, так и не поняв, перекрестила его сквозь решетку и махнула рукой – иди, иди…
Около десяти часов за матерью Мелитиной пришли. Следователь привел ее на второй этаж в угловую комнату, где была гостевая спальня и где она сама много раз ночевала. Все было знакомо и незнакомо одновременно: стены те же, дух другой… Накурено после ночной работы. Какая-то баба, похоже, арестованная, домывала полы и делала это по-домашнему, аккуратно, с любовью.
Следователь усадил мать Мелитину на табурет, сам прошелся за ее спиной, поскрипывая сапогами, закурил. Она почувствовала, что следователь чем-то очень доволен, как бывает доволен человек по утрам, когда он хорошо выспался, вовремя и вкусно позавтракал и вот пришел на любимую работу; и в предвкушении своего приятного дела ходит и соображает, как бы лучше и красивее его сделать. Вот и покойный Николай никогда сразу не бежал на конюшню, даже если конюх с утра уже доложил, что кобыла ожеребилась и жеребенок соловой масти, вернее – пока рыжий, но по приметам будет соловый; вначале он ходил по двору, щурился на солнце, дышал полной грудью, брался поправлять клумбы – одним словом, всячески оттягивал приятный момент, приводя в равновесие разум и чувства, и лишь после этого входил в маточник. И там, без страсти и жадности, с крестьянским суеверием, глядел на жеребенка, трогал его боязливую спину, шею, плевал, чтоб не сглазить, чтоб и правда удался соловой мастью – маркой конезавода.
– Для начала скажите мне, – следователь затянулся, выпустил дым в потолок, – как вас лучше называть? Каким именем?
– Кого ты видишь перед собой, так и называй, – предложила мать Мелитина.
– Поскольку я человек неверующий, то матушкой звать вас не стану, – заключил следователь и сел наконец-таки за стол. – Итак, гражданка Березина, Любовь Прокопьевна?
– В миру – да.
– Знаете, меня очень интересует такое состояние человека, – признался он. – Будто бы две жизни… Да… То есть всегда имеется возможность закончить одну, мирскую, и начать некую новую, особенную, при этом оставаясь… по крайней мере натурально!.. оставаясь тем же человеком. Человеком, служащим только идее.
– Богу, – поправила его мать Мелитина. – И людям.
– С точки зрения материализма – идее, – не согласился следователь. – Любопытно… Причем всегда остается возможность вернуться к мирской жизни. Например, расстричься…
– Но это будет уже третья жизнь, – сказала мать Мелитина. – У расстриги жизнь всегда была особая. Его не принимал мир, но и обитель не владела его душой.
– Тем более! – восхитился он. – Три состояния за одну жизнь. Если хорошо подумать, можно найти и четвертое, пятое…
– Нельзя, – перебила его мать Мелитина. – Всего три. Больше не придумаешь. В этом и состоит триединство мира.
– Так просто?
– Если ты материалист, то для тебя все труднее. – Мать Мелитина достала четки, пробежала пальцами, словно проверяя, на месте ли бусины. – Ты видишь в человеке два проявленья – то, что пустым глазом заметишь: разум да тело. А третьего и признавать не желаешь.
Следователь заскрипел стулом, и мать Мелитина узнала этот стул – из гостиной. Только расшатался он, постарел, и обшивка стала как платье на нищем.
– И мир для тебя весь держится только на двух проявленьях. Ведь с таким умом где же слово-то Божье услышать?
– В каких же проявлениях мы понимаем мир? – спросил следователь.
– В жизни и смерти. То, что видно глазу и доступно животному чувству.
– А третье, надо понимать, дух?
– Третье – жизнь духа, – поправила она. – То, что соединяет жизнь и смерть.
Он встал, прошелся взад-вперед перед столом, глядя себе под ноги. Мать Мелитина почувствовала, что его удовлетворенность собой начинает постепенно исчезать, но было еще не совсем понятно, что приходило на смену.
– Почему вы говорите мне «ты»? – вдруг спросил он.
– Да мы ведь и Господу говорим «ты», – сказала простодушно мать Мелитина. – В детстве-то хоть молился ли? Помнишь?
– Это не важно, – стараясь быть мягким, заявил следователь.
– Как же не важно, батюшка? – подивилась она. – К старости-то все равно в церкву вернешься. А там спросят: когда на исповеди был да причащался? Ты уж не забывай, помни – когда. Душа-то ведь не вытерпит, покаяния попросит.
Следователь ходил у стола как заведенный, и ей подумалось, что он хоть и образованный человек, но никогда не сможет мыслить глубоко, поскольку совершенно не владеет состоянием покоя. Двигаться и метаться следом за своей мыслью – дело для мысли гиблое.
– Неужели и о моей душе вы позаботитесь? – с усмешкой спросил он.
– Мне доля такая выпала, – смиренно проговорила мать Мелитина. – И о твоей душе помолюсь, да в первую голову. Легко ли ей, когда ты пошел людей пытать да мучить? Тебе и не ведомо, как страдает твоя душа.
– Благодарю вас, – сказал он холодновато. – Вернемся к нашей беседе… Допустим, триединство. Но как вы докажете существование третьего? Я материалист, мне нужны не чувства, а доказательства. Хотя бы из природы.
– Сколько угодно, батюшка, – благосклонно сказала она. – Неужто сам не видишь? Есть земля, есть воздух над ней, и есть небо… по-вашему, космос. А дерево взять, так у него корни в земле, ствол в воздухе, крона же в небе. И любое вещество только в трех состояниях – твердое, жидкое и газообразное. И у человека же – да ты ведь испытывал! – мысль, чувство и третье – гармония их, согласие. Мы называем это благостью, блаженством.
Она медленно перебирала четки, замечая, как следователь неотрывно следит за ее руками.
– Какое же у вас образование? – вдруг поинтересовался он. – Вы же дочь крестьянина.
– Монастырь – мое образование, – спокойно сказала мать Мелитина. – А когда в ссылке была, так с учеными людьми восемь лет беседовала. Приятные были беседы, как у нас с тобой. Только там-то с профессорами, а они не нам чета. Один был профессор естествознания, другой – богословия… Туруханское образование, батюшка.
Следователь помотал головой, похмыкал, и в голосе его послышалось легкое раздражение.
– Так вы считаете, что мы, материалисты, стоим на неверном пути?
– На порочном пути, – поправила она. – Только не для вас порочный он, не для ваших апостолов. Вы-то новый путь придумаете, коль на этом заблудитесь. А вот люди за вами будут кидаться, будто скотина за пастырями. От вас народу порок.
– Вот даже как! – несколько деланно изумился он. – Почему же?
– Вы обманываете их. Что сами заблуждаетесь – полбеды… Более того, вы все чаще лжете, будто в мире есть только жизнь, и ничего больше. И помалкиваете о смерти. Или говорите о ней вскользь, как о чем-то неприятном, необязательном, хотя она закономерна. Вы подаете человеку мир плоским, состоящим только из жизни, причем не сегодняшней, а светлого будущего. Вы вводите его в искушение жить иллюзией. Если бы было так! – Она поняла еще и то, что следователь – самоуверенный человек и обид не прощает. – Но ложь раскрывается мгновенно, как только человек ступит на порог смерти. Вы стали проигрывать со смертью каждого человека и тогда придумали некое бессмертие. Но только для избранных – не для всех. Вы начали ставить идолов и поклоняться им, вы переименовываете города и улицы даже при жизни. И все лишь ради одного – увековечиться. Вам не хочется умирать вместе со смертью, природа берет свое…
Следователь долго ходил в задумчивости, и матери Мелитине на какой-то миг показалось, что он понимает и даже разделяет ее убеждения. Наверное, душа его требовала, просила не только земной жизни, но хотя бы обещания другой, непонятной пока и не познанной. Ей, душе, не хотелось умирать вместе с телом; она была мудрее ума… Но ум воспротивился. Между глаз прорезалась складка.
– Вы можете убрать эти четки? – раздраженно спросил он.
– Уберу, если перестанешь ходить взад-вперед, – дерзковато ответила мать Мелитина и вызвала тем еще больший гнев.
– В этом кабинете диктую я! – не сдержался он. И минутой позже пожалел, попытался перевести разговор на другое: – Мне не приходилось отбывать ссылку с профессорами… Да. В тюрьме я сидел с уголовниками! И сейчас приходится заниматься ими же! – Обида звучала в его голосе, и он не мог справиться с нею. – Но мы отвлеклись… Вы умная женщина и понимаете, что зря к нам не попадают… Послушайте! – Он досадливо поморщился и сел. – Мне доложили, что вы покорная… кроткая женщина. А ведете себя…
– Я покорна лишь Божьей воле, но не твоей, – смиренно сказала мать Мелитина.
– Ведете себя… не по-монашески, – нашелся он, продолжая свою мысль.
– Я сижу не в монастыре, и ты – не игуменья.
– В каком же таком вы сейчас образе? – язвительно спросил он. – В какой из трех ваших ипостасей?
– Православная христианка, принявшая иноческий сан, – спокойно ответила мать Мелитина. – И вынужденная защищать свою истинную веру от вашей сектантской ложной веры. Ты забыл: я – не послушница, я – монахиня.
– Представьте себе, гражданка Березина, у меня было другое представление о монашестве, – не скрывая раздражения, проговорил он.
– Такое же, как о мире? – немедленно спросила мать Мелитина.
Все-таки, наверное, в юности следователь получил какое-то воспитание. Был скорее всего сыном выслужившегося до дворянства человека на штатской службе, но рано порвавший с трудолюбивыми родителями. Он не мог орать и топать ногами, как комендант в Туруханске. Он хотел служить в учреждении и выделяться среди других только умом. И еще, как и его родитель, он хотел дворянства у новой власти.
– Простите, я не буду вести вашего дела, – холодно сказал он. – Мне очень жаль. Вы интересный собеседник, но это не мой профиль.
Встал, захлопнул тоненькую папку и вышел. И сразу же после него в кабинет вошла женщина, смерила узницу оценивающим взглядом, бросила коротко:
– Пошли за мной!
Женщина привела ее в комнату, где жили Сашенька и Андрюша, когда учились в есаульской гимназии. Теперь здесь стоял обшарпанный стол, шкаф, набитый бумагами, а на полу были свалены узлы с тряпьем.
– Раздевайся! – приказала женщина и закурила папиросу.
– Зачем? Нельзя мне раздеваться, голубушка. – Мать Мелитина просительно сложила руки. – Уважь мой чин, девонька, не бери грех на душу.
– Я тебя счас уважу! – басом сказала женщина. – Скидывай балахон! Обыск!
– На все воля Божья. – Мать Мелитина осенила себя крестом и стала раздеваться.
– Не Божья, а моя, – буркнула женщина. – Чтоб в чем мама родила!
– Нет твоей воли ни в чем, – сказала ей мать Мелитина. – Ты и в себе-то не вольна. Эко тебя зло корежит. А домой придешь, плачешь, поди, в подушку. Белугой ведь ревешь, не так ли?
– Заткнула б варежку-то! – огрызнулась та.
– Ой, доченька, да так ли родители учили тебя с людьми разговаривать! – загоревала мать Мелитина. – Они ж от стыда в гробу перевернутся.
– Чего это ты моих родителей хоронишь? – возмутилась женщина.
– Так им помереть-то в радость бы, чем терпеть эдакую дочь…
– Еще слово – и я тебя отмутызгаю! – пригрозила женщина. – По твоей постной роже.
– Не посмеешь, – уверенно сказала мать Мелитина. – Потому что я правду говорю. А ты, голубушка, дурь на себя нагнала, но душа болит и совесть мучает. Стыдно тебе, вот ты и прикрываешь стыд свой лохмотьями этими.
Лицо женщины отяжелело, проступила одутловатость щек и подбородка. Она обыскивала одежду, прощупывала швы, шарила под подкладом и посверкивала глазами. В тот момент мать Мелитина увидела свою котомку, вытряхнутую на пол, и все дорогое и сокровенное, что в ней находилось – крест, Евангелие и канонник, – все это валялось в непотребном и попранном виде. Она наклонилась, подняла свои символы веры, прижала к груди.
– Не ты ли посмела бросить, голубушка? – со страхом спросила мать Мелитина.
– Я! – с вызовом ответила женщина. – И видишь – руки не отсохли.
Она швырнула рясу в угол, в тряпье, а матери Мелитине кинула старые брюки и гимнастерку. Встала, подбоченилась:
– Напяливай!
Мать Мелитина не шевельнулась.
– Верни рясу.
– Хватит, пофорсила, – огрызнулась женщина. – Одевай, что дали!
Мать Мелитина опустилась на колени, подняла над головой крест, взмолилась:
– Господи! Нагая стою перед Тобой, аки на Суде страшном! Взываю к Тебе, Господи! Освободи душу женщины! Дай вздохнуть ей чистым воздухом, дай глянуть светлым глазом. Отними слепоту и глухоту ее! Изъязви тело мое, да очисти лик женщины этой. Радости дай и утешение в горе ее! Очаруй душу ее и прими недостойную молитву мою, ибо некому более молиться за нее!
– Ты чего? – шепотом спросила женщина, пытаясь поднять с колен мать Мелитину. – Ну-ка, перестань… Ты чего?
– Боже многомилостивый! Како ты возлюбил меня, возлюби ж и ее! Муки и страдания, на нее павшие по воле Твоей, возложи на душу мою, человеколюбец! Сердце мое Тебе отверсто: зри ж нужду мою и утоли жажду, о которой я и просить не умею. На святую волю Твою уповаю, Владыко, в бесстыдном образе стою пред Тобой и молю: обнови в ней зраки образа Твоего! Меня оставь, порази и низложи – ее исцели и подыми!
– Ненормальная, чокнутая… – забормотала женщина, пятясь к двери. – Блаженная какая-то…
Она вышла из комнаты, тихо притворив дверь. Мать Мелитина тяжело встала с колен и стала одеваться. Ее качало, словно после страдной работы. Застегивая черный плат, она уколола булавкой подбородок, и выступила кровь.
– Благодарю Тя, Господи, – радостно прошептала мать Мелитина.
И увидела на стене, возле которой когда-то стояла кровать, почти забеленные известью детские каракули, оставленные Сашенькиной рукой.
Ей так не хотелось уходить из этой комнаты, однако скоро пришел молодцеватый паренек в гимнастерке и отвел ее в бывший кабинет владыки Даниила. Здесь все осталось по-прежнему: мебель, портьеры и даже ковер на полу, правда, подвышарканный у входа. Разве что книги в шкафах были другие. Мать Мелитина и раньше всегда с легким трепетом входила к владычествующему деверю; и теперь, переступая порог, ощутила то же самое.
Но за огромным письменным столом восседал иной человек – начальник ГПУ товарищ Марон. Она сразу заметила, что начальник болен и мается какими-то внутренними, скрытыми хворями, и еще заметила, что он маленького роста и ноги не достают пола, поэтому возле кресла стоит деревянная подставка.
Марон велел сесть, а сам погрузился в чтение бумаг, небрежно перекидывая подшитые в папку листы. Овчинная безрукавка, надетая поверх строгого кителя, торчала над его согнутой тонкой шеей и, грубоватая, негнущаяся, напоминала черепаший панцирь.
– Итак, гражданка Березина, – начал Марон, – позабавила моих сотрудников, теперь ближе к делу. Расскажи, как ходила по селам и агитировала против колхозов. И кто тебя послал агитацию проводить. Мы все знаем о тебе.
– Господь с тобой, батюшка! – всплеснула руками мать Мелитина.
– Мой Господь со мной, – заверил начальник. – А вот какой бог или черт послал тебя коллективизацию порочить и колхозы разваливать – отвечай!
– Ничего я не порочила и не разваливала, – был ответ.
– Отказываешься?
– Вот тебе крест.
– Хорошо, – он усмехнулся, – пока оставим. Клятвы твои проверим.
– Перед властью безгрешна, – спокойно сказала мать Мелитина. – Тебя обманываю – значит, и Бога обманываю.
Марон соскочил с кресла, подошел к двери и кого-то кликнул, приказал:
– Заводи!
Через минуту в кабинет вошла баба, одетая по-крестьянски, с тяжелыми красными ладонями, за ней сотрудник с лихо закрученными усами. Баба вперилась в мать Мелитину, приоткрыла рот.
– Узнаешь? – спросил Марон.
– Чего же там… Конешно, узнаю, – подтвердила баба. – Она самая и есть.
– Значит, вот эта гражданка ходила по селам и агитировала? – уточнил Марон.
– Агитировала, – согласилась баба. – Паразитка…