Убийство Командора. Книга 1. Возникновение замысла Мураками Харуки
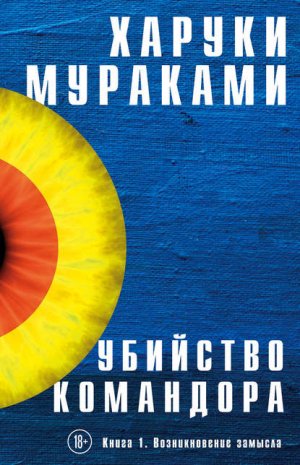
– Почему ты спрашиваешь?
– Ты редко звонишь мне в такое позднее время.
Она издала тихий гортанный звук. Будто хотела отдышаться.
– Я сейчас в машине. Одна. Звоню с мобильного.
– Что ты делаешь в машине одна?
– Просто хотела побыть в машине одна, потому вот и сижу в машине одна. У домохозяек порой такое бывает. Или нельзя?
– Почему нельзя? Я не против.
Она вздохнула. Таким сжатым вздохом, словно тот собрал разные вздохи в один. И сказала:
– Как я хочу, чтоб ты сейчас был рядом. Прильнул, вошел бы в меня сзади. Прелюдия особо не нужна – там и так все влажно. И хочу, чтобы делал со мной все, что захочешь. Решительно и дерзко.
– Звучит неплохо. Вот только «мини-купер» тесноват, чтобы делать в нем с тобой все, что я захочу, решительно и дерзко. Не находишь?
– Другого нет.
– Ладно, как-нибудь уместимся.
– Вот если б ты еще гладил левой рукой мою грудь, а правой возбуждал бы мой клитор…
– А что мне делать правой ногой? Надеюсь, получится настроить стереосистему. Кстати, ты не против Тони Беннетта?
– Это не шутка. Я вполне серьезно.
– Понятно. Прости. Давай серьезно, – сказал я. – Кстати, что сейчас на тебе?
– Хочешь узнать, что сейчас на мне? – повторила она, будто соблазняя.
– Да, хочу. От этого зависит порядок моих действий.
Она очень детально описала мне по телефону свою одежду. Я никогда не переставал удивляться, насколько богатые на разнообразие наряды носят зрелые женщины. Она словесно раздевалась, снимая все с себя по порядку, одно за другим.
– И что, отвердел?
– Как кувалда.
– Сможешь забить кол?
– Разумеется.
«В мире есть молоток, который должен забивать гвозди, и есть гвозди, которые должны быть забиты этим молотком». Чья это фраза? Ницше? Или Шопенгауэра? А может, этого никто прежде не говорил?
Казалось, телефонная линия связала наши тела по-настоящему. Прежде я никогда не занимался сексом по телефону: ни с той любовницей, ни с кем-либо еще. Однако ее словесные описания были такими подробными, так возбуждали, что этот воображаемый половой акт показался мне более чувственным, чем настоящее слияние плоти. Она говорила то напрямик, то намеками, эротично. Я продолжал ее слушать и в результате неожиданно для себя кончил. Она, как мне показалось, тоже.
Некоторое время мы молча приходили в себя, восстанавливая дыхание.
– Ну, тогда в субботу, после обеда, – вскоре сказала она, ободрившись. – Кое-что расскажу об этом твоем Мэнсики.
– Раздобыла свежую информацию?
– Да, у «Вестей из джунглей» появились новые сведения. Но поделюсь ими при встрече. Когда будем позволять себе непристойности.
– А сейчас? Вернешься домой?
– Конечно, – ответила она. – Уже пора.
– Будь осторожна за рулем.
– Да, нужно быть осторожной. Там у меня пульсирует до сих пор.
Я зашел в душевую, вымыл с мылом натруженный пенис, переоделся в пижаму, накинул поверх нее кардиган. Затем с бокалом дешевого белого вина вышел на террасу и посмотрел на дом Мэнсики. В его огромном белейшем доме на той стороне лощины все еще горел свет. Похоже, включили все лампочки, какие были в доме. Что он там делает – почти наверняка – в одиночестве, я, конечно же, не знал. Вероятно, сидит за компьютером в поисках количественной оценки интуиции.
– День прошел сравнительно неплохо, – сказал я сам себе.
Но так же это был и удивительный день. И я понятия не имел, каким станет день завтрашний. Затем я неожиданно для себя вспомнил про филина. Интересно, для него этот день тоже прошел хорошо? И поймал себя на мысли, что для филина день только начинается. Днем он спит в темном укромном месте, а с наступлением темноты улетает в лес за добычей. Спрашивать у филина, «хороший сегодня был день или нет», нужно ранним утром.
Я лег в постель, немного почитал перед сном, в половине одиннадцатого выключил свет и уснул. Поскольку я ни разу не проснулся до самого утра, погремушка среди ночи не звонила.
17
Почему мы упускали такое важное?
Не выходят у меня из головы слова жены, сказанные на прощанье, когда я покидал наш дом. Сказала она так: «Хоть мы и разойдемся, останемся же друзьями?» Тогда (как и долгое время после) я не мог осознать, что она хотела сказать? Чего добивалась? Она меня лишь озадачила – словно накормила безвкусной и пресной едой. Поэтому в ответ я только и смог промямлить: «Не знаю. Посмотрим». В итоге слова эти стали последним, что я сказал ей с глазу на глаз. Для последних слов – все-таки жалкая фраза.
Но и расставшись с нею, я продолжал ощущать, как мы – она и я – по-прежнему связаны единой живой артерией. Эта артерия-невидимка слабо, но все еще бьется, по-прежнему перегоняя между нашими душами нечто похожее на теплую кровь. По крайней мере, я все еще органически ощущал еле различимый пульс. Однако эту артерию вскоре перережут. И если этого не избежать, если это произойдет так или иначе, считаю, пусть она станет безжизненной поскорее. Жизнь покинет ее, артерия ссохнется подобно мумии, и тогда боль от пореза острым ножом окажется намного терпимей. Ради этого мне нужно поскорее забыть о Юдзу и обо всем, что ее окружало. Именно поэтому я старался ей не звонить. Кроме того одного раза, когда я ездил за своими вещами: там оставались мольберт и краски. То был единственный разговор после нашего расставания – и тот продлился очень недолго.
Я представить себе не мог, чтобы после официального развода мы остались друзьями. За шесть лет супружеской жизни мы многое пережили вместе: у нас было достаточно времени и эмоций, слов и безмолвия, сомнений и решений, обещаний и отказов, радости и скуки. Наверняка сохранялись какие-то личные секреты, которые мы скрывали друг от друга. Но даже ощущение, что мы прячем свои скелеты в шкафу, мы умудрялись делить между собой. В этом была весомость места, прививаемая лишь временем. Мы жили, сохраняя хрупкое равновесие, приспосабливая наши тела к такой вот силе тяготения. К тому же имелось несколько особых внутренних правил, только для нас. Как можно стать просто «хорошими друзьями», вычеркнув все, будто ничего и не было, без прежних внутренних ритуалов и равновесия сил притяжения?
Это было хорошо понятно и мне. Точнее, я приходил к такому выводу после одиноких раздумий в своих долгих скитаниях. Но как бы я ни размышлял, вывод всегда получался одним и тем же: лучше не видеться с Юдзу и не искать встречи с ней. Это было разумное, осмысленное решение. И я его выполнял.
Но, с другой стороны, и от Юдзу не было никаких вестей. Она мне ни разу не позвонила, не прислала ни одного письма. (Притом, что о дружбе обмолвилась именно она.) Этого я не ожидал, этим она задела меня за живое, причем намного сильнее, чем я мог бы себе представить. Хотя нет: если быть точным, задел себя за живое, признаться… я сам. Мои чувства в бесконечном молчании метались по огромной дуге из одной крайности в другую, подобно тяжелому маятнику – острому, как лезвие. И дуга этих чувств оставляла на моем теле бесчисленные свежие шрамы. Способ позабыть боль от них был, по сути, лишь один: конечно же, рисовать.
Через окно в мастерскую тихо струились лучи солнца. Иногда покачивал белые занавески легкий ветерок. В комнате витал запах осеннего утра. С тех пор, как поселился в горах, я стал очень чувствителен к сезонным переменам запахов. Ведь пока жил посреди города – даже не подозревал, что такие запахи вообще существуют.
Я сел на табурет прямо перед мольбертом и долго всматривался в начатый портрет Мэнсики. Я всегда вхожу в работу так: нужно повторно оценить свежим взглядом то, что делал накануне, после чего можно брать в руку кисти.
«Неплохо, – подумал я несколько позже, – неплохо». «Скелет» Мэнсики плотно окутывало несколько созданных мною оттенков. Его черный контур теперь спрятан за теми оттенками. Однако я мог его разобрать в глубине. Теперь мне необходимо еще раз дать ему всплыть на поверхность. Необходимо заменить намек на утверждение.
Я не обещал, что закончу эту картину. Хотя такой вариант тоже не исключен. Портрету пока чего-то не хватает. И то, что должно там быть, справедливо сетует на свое отсутствие. Оно стучится с той, обратной стороны стеклянного окна, отделяющего то, что в портрете уже есть, от того, чего пока еще нет. И я могу услышать тот безмолвный зов.
Пока я сосредоточенно рассматривал картину, у меня пересохло в горле, я сходил на кухню и выпил полный стакан апельсинового сока. Расслабил плечи и сразу же потянулся. Сделал глубокий вдох, затем выдох, после чего вернулся в мастерскую, опять уселся на табурет и, взбодрившись, принялся сосредоточенно рассматривать стоящую на мольберте картину. Однако сразу уловил какую-то перемену. Явно отличался угол, с которого я рассматривал картину в прошлый раз.
Я встал с табурета и заново проверил, где он стоит. Он немного сдвинулся с того места, где стоял, когда я выходил из мастерской на кухню. Табурет явно оказался чуть в стороне. Почему? Когда я вставал, он даже не шелохнулся. Я его не трогал – это точно. Я тихонько встал, чтобы не сдвинуть его, а когда вернулся, тихонько на него сел снова, нисколько при этом не пошевелив. Почему я запомнил эти мелочи? Я очень щепетилен, когда дело касается расположения табурета и угла, под которым я смотрю на картину. Они всегда определенные, и стоит хоть немного переместиться, я начинаю волноваться и не в силах ничего с собой поделать, – совсем как отбивающий в бейсболе, который до миллиметра выверяет свое место в «доме».
Однако табурет оказался примерно в полуметре оттуда, где я сидел до выхода на кухню, и угол обзора отличался примерно на столько же. Что можно предположить? Пока я пил апельсиновый сок и дышал полной грудью, кто-то передвинул табурет. Воспользовавшись моим отсутствием, кто-то незаметно пробрался в мастерскую, сел на него и смотрел на мою картину. И перед тем, как я вернулся, встал с табурета и, крадучись, покинул комнату. Тогда и сдвинул – нарочно или случайно. Однако я выходил из мастерской минут на пять или шесть. Кому и откуда, а главное – для чего понадобилось заниматься таким хлопотным делом? Или же табурет переместился по собственной воле?
Пожалуй, я просто запутался. Сам сдвинул табурет и совершенно об этом забыл. А как еще это все объяснить? Слишком много времени я провожу в одиночестве. Вот и случаются провалы в памяти.
Я оставил табурет в том же полуметре от прежнего места и немного развернутым. Присел, чтобы взглянуть на портрет Мэнсики с нового ракурса. И что я увидел? Там была уже пусть и немного, но другая картина. Нет, конечно же, картина – та же, вот только выглядела она чуть-чуть иначе. По-другому ложился свет, отличалась текстура красок. А сама картина оживала. Однако вместе с тем ей чего-то не хватало. Но характер этой нехватки мне показался несколько иным, нежели накануне.
В чем же разница? Я сосредоточился на картине. Это отличие наверняка к чему-то взывает. Мне требовалось разглядеть крывшуюся в нем подсказку, намек. Тогда я принес мелок, которым обвел на полу три ножки табурета, пометив буквой «А», затем вернул табурет на прежнюю (вбок на полметра) позицию, пометил буквой «Б» и обвел ножки. А дальше – перемещался между ними, изучая ту же картину с разных сторон.
В обеих «версиях» неизменно присутствовал Мэнсики, но я заметил, что он, как это ни удивительно, выглядел иначе. Будто внутри него сосуществуют две совершенно разные личности, притом каждой из них чего-то недостает. Этот общий недостаток объединял обе ипостаси Мэнсики – «А» и «Б». Мне нужно выяснить, что это за общий недостаток – триангуляцией точек «А», «Б» и себя. Еще бы знать какая она, эта отсутствующая общность? Она имеет форму или нет? Если предположить, что нет, то как ей тогда эту форму придать?
Кто-то сказал: «Поди непросто, а?»
Я отчетливо услышал этот голос. Совсем не громкий, но вполне внятный. Не вкрадчивый. Не высокий, но и не низкий. Он раздался прямо у меня над ухом.
Я опешил. Не вставая с табурета, медленно осмотрелся – но, конечно, вокруг никого не увидел. Яркий утренний свет заливал пол, словно лужей. Окно распахнуто настежь, издалека едва послышалась, подхваченная ветром, мелодия мусороуборочной машины. «Энни Лори» – для меня так и осталось загадкой, зачем мусороуборочным машинам города Одавара нужно ездить под шотландскую национальную мелодию. И больше никаких звуков.
Вероятно, ослышался, подумал я. Принял за него собственный голос – голос сердца, донесшийся из подсознания? Но манера речи показалась мне очень странной. «Поди непросто, а?» Даже неосознанно я никогда б так не сказал.
Сделав глубокий вдох, я опять уставился с высоты табурета на картину, которая сразу поглотила мое внимание. Конечно, я ослышался.
«Там же все ясно как днями», – опять сказал этот кто-то. И голос послышался над самым ухом.
Ясно как днями? – как бы переспросил я самого себя. Ясно что?
«Разве не достаточно подметить, что суть у Мэнсики, но при этом отсутствуют тут?» – продолжил кто-то. Все тем же отчетливым голосом. Без эха, будто голос записан в студии. Каждый отдельный отзвук – чистый, точно кристалл. Но почему-то без естественной интонации, точно у материализованной Идеи.
Я опять осмотрелся. Только теперь уже спустился с табурета и заглянул в гостиную. Затем проверил все остальные комнаты, но в доме никого не оказалось. Если кто и был – только филин на чердаке. Но филины, разумеется, не разговаривают. И входная дверь заперта на ключ.
Самовольно передвинули в мастерской мой табурет, а теперь этот непонятный странный голос? Глас божий? Или мой собственный? Или кого-то еще, безымянного? Как бы то ни было, с моей головой происходит что-то неладное. А что мне еще оставалось думать? С тех пор, как по ночам стал звонить бубенец, я начал сомневаться в ясности своего сознания. Хотя, если говорить о погремушке, Мэнсики находился рядом и тоже отчетливо слышал тот звук. Тем самым объективно подтвердилось, что звон погремушки не был галлюцинацией. С моим слухом все в порядке. Раз так, что это за странный голос?
Я снова сел на табурет и снова уставился на картину.
Достаточно подметить, что суть у Мэнсики, но при этом отсутствуют тут. Прямо головоломка какая-то. Будто заблудившемуся в дремучем лесу ребенку подсказывает дорогу мудрая птица. Подумай, что есть у Мэнсики, но отсутствует здесь.
Шло время. Часы тихо и равномерно отсчитывали секунды. Лужа света из небольшого окна, выходящего на восток, бесшумно сдвигалась. Прилетела стайка пестрых разноцветных птах и уселась на ветви ивы. Они изящно что-то поискали и, щебеча, упорхнули прочь. Выстроившись в цепочку, по небу тянулись белые облака, напоминавшие своей изогнутой формой каменную черепицу. К сверкающему морю летел серебристый самолет – четырехвинтовой, противолодочный, Сил самообороны. Неизменная задача его экипажа – следить и слушать, тем самым выявлять присутствие подлодок. Было слышно, как нарастает рокот моторов, а затем постепенно удаляется в вышине.
И тут я наконец сообразил. Факт буквально ясный как день. Как же я мог запамятовать? То, что есть у Мэнсики, но этого нет на его портрете. Его белые волосы. Белизной сродни едва выпавшему чистейшему снегу. Представить себе Мэнсики без седины невозможно. Почему я упустил такой важный элемент?
Я соскочил с табурета, выгреб из коробки тюбики с белилами, выбрал подходящую кисточку и, ни о чем не думая, смелыми свободными взмахами густо нанес краску на холст. Где работал мастихином, где пальцем. Минут через пятнадцать я прервался, отошел от полотна, сел на табурет и осмотрел готовую картину.
На ней был человек по имени Мэнсики. Он, вне сомнения, присутствовал внутри картины. Его личность – какой бы ни была она по своей сути – воплотилась в моей картине, представ как единое целое. До недавних пор я не имел никакого отношения к нему – человеку по имени Ватару Мэнсики. И совсем ничего о нем не знал. Но как художник, я сумел воспроизвести его на холсте как отдельный неделимый комплект, как синтезированный образ. На этой картине он дышит. И все так же загадочен и полон тайн.
Но вместе с тем, с какой стороны ни посмотри, картина эта не походила на типичный портрет. Мне показалось, что удалось художественно подать присутствие Мэнсики. Но я не ставил – нисколько не ставил – своей целью нарисовать его внешний вид, его облик. И в этом – большая разница. Это, по сути, картина, которую я написал для себя.
И я не мог предположить, признает ли картину собственным «портретом» Мэнсики, ее заказчик. Кто знает, может, портрет и начальное пожелание заказчика разделяют световые годы? В самом начале он говорил, что я могу рисовать не стесненно, как мне захочется, и что стиль мне заказывать он не станет. Однако вдруг на портрете окажется случайно вкрапленной какая-то неприятная деталь, которую Мэнсики не захочет в себе признавать. Хотя какая теперь разница, понравится ему эта картина или нет. Я больше ничего поделать не могу. Ведь что бы ни думал об этой картине я сам, она уже вне моих рук, вне моей воли.
Я просидел еще с полчаса, пристально всматриваясь в портрет, который хоть и был творением моих рук, вместе с тем выходил за пределы любой логики или понимания, какими я обладал. Причем я сам не мог припомнить, как вообще изловчился нарисовать такую вещь. Пока я пристально смотрел, картина то становилась мне до боли близка, то отстранялась, будто чужая. И все же, вне сомнения, ее палитра и сама форма были идеальны.
Я подумал: неужели я нащупываю выход? И, наконец, преодолею толстую стену на своем пути. Но даже если так, все только начинается. Я едва ухватил нечто похожее на ключ к разгадке. И впредь мне нужно быть очень осторожным. Сказав себе это, я неспешно промыл кисточки и мастихины. Вымыл с мылом и маслом руки. Затем пошел на кухню и выпил несколько стаканов воды. Мне почему-то очень захотелось пить.
И все же – кто сдвинул табурет в мастерской? (Его определенно сдвинули.) Кто говорил странным голосом мне прямо над ухом? (Я отчетливо слышал тот голос.) Кто подсказал мне, чего недостает на картине? (Эта подсказка оказалась верной.)
Пожалуй, я сам. Я неосознанно сдвинул табурет и дал себе подсказку, как поступить: странным окольным путем переплел свои сознание и подсознание… Другого объяснения я не находил. Хотя, конечно, это не так.
Когда в одиннадцать утра я, сев на стул в столовой, за кружкой горячего черного чая бессвязно размышлял, на своем серебристом «ягуаре» приехал Мэнсики. Я настолько увлекся работой, что совершенно забыл все, что ему обещал. А тут еще этот голос над ухом…
Мэнсики? Зачем он здесь?
«Мне хотелось бы еще раз осмотреть тот каменный склеп», – сказал мне он по телефону.
Слушая, как усмиряет свой рык восьмицилиндровый мотор «ягуара», я наконец-то вспомнил об этом.
18
Любопытство убивает не только кошку
Я встретил Мэнсики на пороге дома – впервые за время нашего знакомства, – но это совсем не значит, что я решил в тот день поступить так по какой-то особой причине. Просто захотелось размяться и подышать свежим воздухом.
По небу все еще плыли облака, похожие на гнутую черепицу. Где-то далеко в открытом море зарождались сонмы этих облаков, их подхватывал ветер с юго-запада и одно за другим медленно сносил к горам. Для меня оставалось загадкой, что такие красивые и почти идеально круглые облака возникают сами по себе друг за другом без какого-либо практического замысла. Возможно, для метеоролога они никакая не загадка, а для меня – самая что ни есть. С тех пор, как поселился на этой горе, я не переставал восхищаться самыми разными чудесами природы.
Мэнсики был в свитере с воротником – элегантном, тонком, кармазинного цвета. И в голубых джинсах такого бледного оттенка, будто цвет совершенно вытерся и вот-вот пропадет. Джинсы были прямого покроя, из мягкой ткани. Мне казалось (а может, это просто моя навязчивая мысль), что Мэнсики старался подбирать одежду таких цветов, что изящно подчеркивали бы его седину. И этот кармазинный свитер прекрасно оттенял белизну шевелюры – всегда аккуратно подстриженной, ни длиннее, ни короче, нежели полагается. Не знаю, как Мэнсики этого добивался, но сколько мы были с ним знакомы, я всегда замечал, что волосы у него одной и той же длины.
– Первым делом я хотел бы сходить к той яме и заглянуть внутрь. Вы не против? – спросил у меня Мэнсики. – Хочу проверить, все ли там, как и прежде.
– Конечно, не против, – ответил я. – Сам я туда не ходил и тоже проверил бы.
– Не могли бы вы захватить ту погремушку?
Я вернулся в дом и взял с полки в мастерской старый буддистский предмет. Мэнсики достал из багажника «ягуара» большой фонарик, повесил его ремешок на шею и зашагал к зарослям. Я с трудом поспевал за ним. Заросли показались мне гуще, чем прежде. В разгар осени горы меняют раскраску чуть ли не каждый день. Одни деревья желтеют, другие краснеют, а некоторые остаются вечнозелеными. Их сочетание радовало глаз. Однако Мэнсики это, похоже, совершенно не интересовало.
– Я попробовал навести справки об этом участке земли, – сообщил он на ходу. – Кто и как им владел до сих пор.
– Что-нибудь узнали?
Мэнсики покачал головой.
– Нет, практически ничего. Предполагал, что в прошлом это место было как-то связано с религией, но, судя по всему, и это не так. Не знаю, с чего бы здесь оказаться кумирне, каменному кургану? Изначально здесь не было ничего – только горы. Затем расчистили участок и построили дом. Томохико Амада купил этот участок с домом в 1955-м. До него какой-то политик устроил себе здесь горную дачу. Имя его вам вряд ли что-то скажет, хотя до войны он был министром. После ушел на покой и жил как простой пенсионер. Кто был владельцем до него, выяснить не удалось.
– Мне кажется несколько странным, что политик специально завел себе дачу в такой глухомани.
– В прошлом немало политиков держало дачи в этих местах. Через один или два отрога, насколько я знаю, была дача Фумимаро Коноэ[31]. Рядом дорога до Атами и Хаконэ, укромное местечко, чтобы собираться тесным кругом для тайных переговоров. Стоит важным персонам встретиться в Токио, это сразу бросается в глаза.
Мы сдвинули несколько толстых досок, закрывавших яму.
– Попробую спуститься, – сказал Мэнсики. – Подождете меня здесь?
Я сказал, что подожду.
Мэнсики спустился по металлической лестнице, любезно оставленной бригадиром. Каждая очередная ступенька слегка поскрипывала под его ногами. Я наблюдал за ним сверху. Ступив на дно, Мэнсики снял с шеи фонарь, включил его и неспешно осмотрел все вокруг себя. Он то проводил рукой по стене, то стучал по ней кулаком.
– Крепкая кладка, и подогнано все очень плотно, – задрав голову, сказал он. – Сдается мне, это не засыпанный колодец. Был бы колодец, вероятно, обошлись бы кладкой куда проще. Не стали бы выкладывать настолько старательно.
– Выходит, готовили для какой-то другой цели?
Мэнсики ничего не сказал и только покачал головой, как бы говоря, что не знает.
– Во всяком случае, стена сделана так, чтобы по ней нельзя было взобраться. Нет ни единой щели, где можно зацепиться ногой. Высотой она меньше трех метров, как видите, однако вскарабкаться по ней до самого верха, должно быть, очень сложно.
– Выходит, кладку делали так, чтобы из ямы нельзя было выбраться?
Мэнсики опять покачал головой: «Не знаю. Даже не представляю», – словно говорил он.
– У меня есть одна просьба, – произнес он вслух.
– Какая?
– Извините, если заставлю вас потрудиться. Но не могли бы вы поднять лестницу и закрыть крышку как можно плотнее, чтобы внутрь не проникал свет?
Я не знал, что на это сказать.
– Все будет хорошо. Не волнуйтесь, – сказал Мэнсики. – Просто я хочу ощутить на себе, каково оказаться запертым в одиночестве на дне этой мрачной ямы? Превращаться в мумию я пока не намерен.
– Как долго вы хотите оставаться внутри?
– Когда захочется наверх, я позвоню в погремушку. Послышится звон – тогда открывайте крышку и спускайте лестницу. Если час пройдет, а звон вы так и не услышите, открывайте крышку, не дожидаясь его. Находиться здесь дольше часа я не собираюсь. Только, пожалуйста, не забудьте, что я здесь. Если вы вдруг забудете обо мне, я превращусь в мумию.
– Ловец мумий сам становится мумией?
Мэнсики улыбнулся.
– Вот именно.
– Конечно же, не забуду. А вы уверены в себе, решаясь на такое?
– Мне просто любопытно. Я хочу недолго посидеть на дне ямы в кромешной темноте. Держите фонарь и дайте мне, пожалуйста, вместо него погремушку.
Поднявшись на несколько ступенек, он передал мне фонарь. Я в свою очередь протянул ему буддистский инструмент. Мэнсики, взяв погремушку, слегка ею потряс, и со дна отчетливо донесся звон.
Тогда я сказал Мэнсики, который уже стоял на полу ямы:
– Но если на меня накинется рой неистовых шершней и я потеряю сознание от укусов или даже умру, вы оттуда вряд ли выберетесь. Кто знает, что может случиться в следующую минуту?
– Любопытство обычно сопряжено с риском. Удовлетворить любопытство, ничем не рискуя, не получается. Как это говорится – любопытство убивает не только кошку.
– Я вернусь через час, – сказал я.
– Остерегайтесь шершней, – ответил мне Мэнсики.
– А вы будьте осторожней в темноте.
Мэнсики на это ничего не ответил – только, закинув голову, недолго посмотрел на меня. Словно пытался уловить какой-то смысл в выражении моего лица, обращенного вниз. Однако его взгляд отчего-то показался мне неясным, будто Мэнсики старался сосредоточиться на моем лице, но так и не смог. Совсем на него не похоже – взгляд у него будто затуманился. Словно передумав, Мэнсики сел наземь и прислонился спиной к вогнутой каменной стенке и слегка помахал мне рукой, давая понять, что готов. Я поднял лестницу, как можно плотнее закрыл яму толстыми досками и придавил их камнями. Даже если сквозь тонкие щели внутрь проникали полоски света, в яме все равно должно быть достаточно темно. Я хотел было что-нибудь сказать Мэнсики, который остался по ту сторону крышки, но передумал и не стал. Он сам добивался одиночества и тишины.
Вернувшись в дом, я вскипятил чайник, заварил себе черного чаю. Затем сел на диван и продолжил чтение отложенной книги. Вот только сосредоточиться на чтении я не мог – беспрерывно прислушивался, не звонит ли погремушка. Каждые пять минут смотрел на часы и мысленно представлял фигуру Мэнсики, который в одиночестве сидит на дне темной ямы. Странный человек, думал я. Нанял за свой счет ландшафтного дизайнера, сдвинул экскаватором гору камней, открыл непонятную яму. И теперь укрылся там в одиночку. Точнее, заперся по собственному желанию.
Ладно, чего уж там, подумал я. Какими бы ни были необходимость в этом или замысел (если, конечно, в этом присутствуют хоть какие-то необходимость или замысел), таков его выбор – так пусть поступает, как хочет. Я же просто бездумно действую по чужому плану. Отложив книгу, я прилег на диван и закрыл глаза. Хотя, конечно же, не спал. Уснуть здесь и сейчас ни в коем случае нельзя.
В итоге миновал час, а погремушка так и не прозвенела. А может, я по какой-то случайности ее не услышал? Как бы то ни было, пришло время снимать крышку. Я встал с дивана, обулся и вышел на улицу. Вступил в заросли. На миг мне стало тревожно: вдруг объявятся шершни или кабаны, – но те не появились. Лишь стремительно пролетели прямо перед носом птички-белоглазки. Я миновал заросли, повернул за кумирню. Затем убрал камни и отодвинул первую доску.
– Мэнсики-сан, – крикнул я в щель. Но тот не откликнулся. Внизу виднелась лишь кромешная темнота. И фигуру Мэнсики внутри ямы я не увидел. – Мэнсики-сан, – позвал я еще раз. Но ответа опять не получил. Я встревожился: а вдруг он пропал? Как та мумия, которая куда-то подевалась, хотя должна была оставаться там. Невероятно с точки зрения здравого смысла, но в тот миг я всерьез подумал именно так.
Я спешно отодвинул еще одну доску. За ней еще одну. Наконец дневной свет проник до самого дна. И тогда я смог различить очертания сидевшего на дне Мэнсики.
– Мэнсики-сан, что с вами? – крикнул я, а у самого слегка отлегло от сердца.
После моего окрика Мэнсики поднял голову, точно пришел в себя, и слегка кивнул. И тут же закрыл ладонями лицо – ему слепило глаза.
– Все в порядке, – тихо ответил он. – Дайте я еще немного так посижу. Пока не привыкнут глаза.
– Прошел ровно час. Хотите остаться еще? Я закрою крышку.
Мэнсики покачал головой.
– Нет, довольно. Пока что этого хватит. Больше находиться здесь я не могу. Быть может, это очень опасно.
– Очень опасно?
– Потом объясню, – сказал Мэнсики и провел ладонями по лицу так, будто пытался что-то стереть.
Минут через пять он наконец-то поднялся и взобрался по лестнице, которую я опустил. Опять очутившись на поверхности, он отряхнул брюки, затем, прищурившись, посмотрел на небо. Сквозь ветви деревьев проглядывала его осенняя синева. Он долго, казалось, с некоторым умилением разглядывал небо. Затем мы опять уложили доски, закрыв яму, как и было, чтоб туда никто случайно не упал. И придавили доски камнями. Расположение камней я постарался запомнить. Теперь я пойму, если кто-то попытается их сдвинуть. Лестницу оставили прямо там, в яме.
– Погремушки не было слышно, – сказал я, когда мы двинулись к дому.
Мэнсики покачал головой:
– Да, я не звонил.
Он больше ничего не сказал, поэтому я тоже ничего спрашивать не стал.
Миновав заросли, мы вернулись в дом. Мэнсики шел впереди, я – за ним. Мэнсики все так же молча убрал фонарь в багажник «ягуара». Затем мы пили в гостиной горячий кофе. Мэнсики по-прежнему молчал. Похоже, он о чем-то крепко задумался. Мрачным он не казался, но было очевидно, что его сознание перенеслось далеко отсюда – в иное пространство, в те уголки, где позволено находиться лишь ему одному. Я старался не мешать ему в мире его раздумий. Похоже, именно так относился к Шерлоку Холмсу доктор Уотсон.
Тем временем я обдумывал собственные планы. Вечером мне предстояло спуститься на машине в город, чтобы провести урок в изостудии близ станции Одавара. Во время занятий я хожу по классу, смотрю, как ученики рисуют, и даю им советы. Сегодня у меня два занятия подряд – у детей и у взрослых. В моей повседневной жизни это – единственный повод встретиться с людьми. Если бы не изостудия, я вел бы в горах жизнь самого настоящего отшельника, и чем дольше жил бы в одиночестве, тем, как заметил Масахико, скорее нарушилось бы мое душевное равновесие (хотя оно уже вполне могло начать нарушаться).
Поэтому я вроде бы должен радоваться такой возможности погрузиться в действительность, пообщаться с людьми. Но, признаться, такого настроения у меня не возникало. Люди, с которыми я встречался в изостудии, были для меня даже не живыми созданиями, а лишь мимолетными тенями. Я обращался к каждому с улыбкой, называл по именам, критиковал рисунки. Хотя какая это критика? Я просто их хвалил. Отыскивал в каждом рисунке удачный элемент или прием, а если не находил, то выдумывал сам и все равно хвалил.
Поэтому в кружке обо мне отзывались неплохо. По словам руководства, я нравился многим ученикам, что оказалось для меня полной неожиданностью. Никогда я не считал, что буду способен учить чему-то других. Мне было все равно, нравлюсь я людям или нет. Лишь бы в классе все шло гладко, чтобы я мог отплатить Масахико за его участие и доброту.
Хотя, конечно, не все люди были для меня тенями. Ведь я же выбрал среди них двух женщин и начал с ними встречаться. И обе они после наших занятий в постели бросили ходить в кружок, – видимо, не знали, как им дальше быть. И в этом отчасти был виноват я сам.
Вторая подруга (та, что замужем и старше меня) должна была прийти сюда завтра после полудня. Мы с нею проведем какое-то время в постели. Поэтому она – совсем не мимолетная тень, а подлинное бытие во плоти. А может, и мимолетная тень во плоти. Что именно, я и сам решить не могу.
Мэнсики окликнул меня. Я очнулся – незаметно, оказывается, я тоже глубоко задумался.
– Кстати, о портрете, – произнес он.
Я посмотрел на него и увидел его лицо – безразличное, как и всегда. Привлекательное, невозмутимое и рассудительное – такое вселяет в собеседника спокойствие.
– Если нужно позировать, готов хоть сейчас, – сказал он. – В смысле продолжить начатое. Только скажите.
Я некоторое время смотрел на него. Позировать? Ах, да, это он о портрете. Опустив голову, я сделал глоток холодного кофе, собрался с мыслями, после чего поставил чашку на блюдце. Послышался тихий сухой стук фарфора. Затем я поднял голову и сказал:
– Извините, но у меня скоро урок.
– Да, точно, – сказал Мэнсики и посмотрел на часы на руке. – Совсем забыл! Вы же преподаете в изостудии. Возле станции, да? Тогда вам пора?
– Не беспокойтесь, время еще есть, – ответил я. – А пока я должен вам кое-что сообщить.
– Что же?
– Дело в том, что работа завершена. В каком-то смысле.
Мэнсики еле заметно нахмурился. И пристально посмотрел на меня, будто пытался определить, что там, в глубине моих глаз.
– Вы о моем портрете?
– Да, – ответил я.
– Замечательно! – воскликнул он и еле заметно улыбнулся. – Это же просто замечательно! Однако что значит это ваше «в каком-то смысле»?
– Объяснить будет очень непросто. Ведь я не мастак изъясняться словами.
На это Мэнсики ответил:
– Не торопитесь. Говорите, как вам будет угодно, я вас внимательно слушаю.
Я сцепил пальцы в замок на коленях и стал мысленно подбирать слова.
Пока я думал, с чего начать, вокруг опустилась тишина. Такая, что можно было расслышать, как течет время. В горах время текло очень неспешно.
Я сказал:
– Приняв заказ, я писал портрет с модели – то есть прямо с вас. Однако, по правде говоря, вышел не портрет – как бы вы на него ни смотрели. Могу лишь сказать, что это просто работа, для которой позировали вы. При этом я не могу судить, какую она имеет ценность – как художественную, так и коммерческую. Мне ясно только одно: это картина, которую я должен был написать. Помимо этого мне совершенно ничего не известно. Признаться, я в сомнениях, как поступить. Возможно, пока все не выяснится, лучше не отдавать ее вам, а оставить ее временно здесь. Так мне кажется. Поэтому я хочу вернуть вам всю сумму полученного задатка. И мне очень жаль, что я потратил ваше драгоценное время впустую.
– Говорите, не портрет? – спросил Мэнсики, осторожно подбирая слова. – В каком это смысле?
Я ответил:
– До недавних пор я зарабатывал тем, что профессионально рисовал официальные портреты. Нарисовать портрет – это, по сути, изобразить клиента так, как он того пожелает. Потому что клиент – заказчик, и, если ему не нравится выполненная работа, вполне вероятно, он откажется за нее платить. Такое тоже бывает. Поэтому я стараюсь, насколько это удается, не акцентировать внимание на отрицательных человеческих сторонах клиента, а примечать и подчеркивать в нем только лучшее, изображая его по возможности привлекательно. В этом смысле в большинстве случаев становится сложно назвать портрет произведением искусства. За исключением, конечно же, Рембрандта и ему подобных. Однако в данном случае – конкретно, в вашем, Мэнсики-сан, – я рисовал эту картину, размышляя о своем, и нисколько не думал о вас. Иными словами, получилась картина, в которой я, признаться, вашему эго модели предпочел собственное эго художника.
– Как раз это меня совершенно не смущает, – улыбнувшись, произнес Мэнсики. – Более того, я такому повороту рад. Помнится, при первой встрече я сказал, что можете рисовать, как вам будет угодно, и никаких особых пожеланий у меня нет.
– Именно так вы и говорили, я это помню хорошо. А беспокоюсь не за то, удалась или нет эта работа, а за то, что я там нарисовал. Оставив выбор за собой, я, вполне возможно, изобразил совсем не то, что должен был изобразить. И вот это меня тревожит.
Мэнсики понаблюдал за моим лицом, а затем сказал:
– Хотите сказать, что отразили те мои черты, которые не заслуживают быть перенесенными на холст? И это вас беспокоит. Я прав?
– Да, вы правы, – ответил я. – И потому, что думал я лишь о себе, ослабил нечто вроде обручей, которые не дают бочке распасться.
И, возможно, выволок из вас нечто неуместное, – собирался было добавить я, но передумал и не сказал больше ничего. Слова эти остались у меня внутри.
Мэнсики долго размышлял над моей фразой. А затем произнес:
– Интересно… Весьма занимательное мнение.
Я промолчал.
Тогда заговорил Мэнсики:
– Я сам считаю себя человеком с крепкими обручами. Иными словами, сильным человеком, способным себя контролировать.
– Я это знаю.
Мэнсики слегка придавил пальцами виски, улыбнулся.
– Значит, работа уже готова? Ну, то есть мой «портрет»?
Я кивнул.
– Такое ощущение, что да.
– Прекрасно! – воскликнул Мэнсики. – Как бы там ни было, вы сможете показать мне эту картину? Увижу ее своими глазами – тогда и подумаем вместе, как поступить. Вы не возражаете?
– Нисколько, – ответил я.
Я проводил Мэнсики в мастерскую. Он остановился в паре метров от мольберта, скрестил руки и пристально смотрел на холст – на собственный портрет. Хотя нет, не портрет, а лишь так называемый «образ» – на комья краски, которые будто швыряли прямо в холст. Пышные белые волосы – как стремительный поток чистейшей белизны, напоминающий снег в метель. На первый взгляд, на лицо это не похоже. То, что должно быть на месте лица, полностью скрыто за цветными комьями. Но – по крайней мере – я считаю, что там, вне всякого сомнения, изображен человек по имени Мэнсики.
Весьма долго он, не меняя позу и не шевелясь, оценивал картину. Буквально – не дрогнув ни единым мускулом. Я даже не был уверен, дышит он или нет. Я встал поодаль у окна и наблюдал за происходящим со стороны. Интересно, сколько прошло времени… Ме показалось – чуть ли не вечность. Пока Мэнсики смотрел на картину, его лицо утратило всякое выражение. Глаза у него показались мне мутно-белесыми, взгляд был тускл, без глубины. Будто гладкая лужа отражала пасмурное небо. Такой взгляд мог держать на расстоянии кого угодно. Я даже не мог предположить, что было на душе у Мэнсики.
Затем он, как тот, кого гипнотизер единственным хлопком вывел из состояния гипноза, расправил спину и слегка вздрогнул. Лицо его тут же ожило, глаза привычно заблестели. Он медленно подошел ко мне, вытянул правую руку и положил мне на плечо.
– Замечательно! – воскликнул он. – Просто великолепно! Что еще можно сказать? Именно такой портрет я и хотел!
Я посмотрел на него. Заглянул прямо ему в глаза и понял, что он не лукавит. Он и вправду был в восторге от портрета, который тронул его до глубины души.
– На этом портрете я сам, как есть, – произнес Мэнсики. – Вот это и называется портретом в его изначальном смысле. Вы ни в чем не ошиблись. Сделали все правильно.
Его рука все еще лежала на моем плече. Просто лежала, но от ладони исходила особая сила.
– Однако как же вам удалось обнаружить эту картину? – поинтересовался у меня Мэнсики.






