Убийство Командора. Книга 2. Ускользающая метафора Мураками Харуки
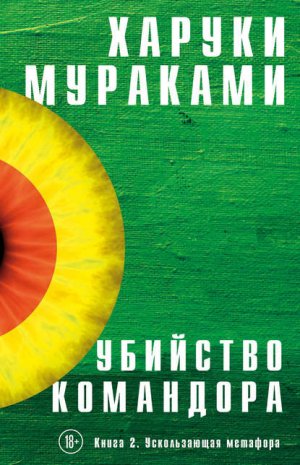
Но разве это мог быть сам Томохико Амада во плоти? Ведь настоящий Томохико Амада – в пансионате для престарелых, что где-то на плоскогорье Идзу. У него развитая форма слабоумия, он теперь почти не встает с постели. Он просто не смог бы добраться сюда один, своими силами. А раз так, выходит, я своими глазами наблюдаю его призрак? Но, насколько мне известно, Томохико Амада еще не умер. Тогда правильнее будет назвать его «живым призраком». Или же он буквально только что испустил дух и, став призраком, явился сюда? Такое тоже вполне вероятно.
Так или иначе, я понимал, что это не видение. Для видения уж больно реалистично он смотрится, у него более густая консистенция. В эманации, конечно же, присутствовал дух живого человека, всплески сознания. Томохико Амада каким-то особым способом вернулся в собственную мастерскую, сел на свой табурет и смотрит на свою картину «Убийство Командора». Не беспокоясь, что еще в мастерской стою я (или даже не замечая меня), он пристально смотрел на картину пронизывающим темноту острым взглядом.
Облака тянулись вереницей, а когда прерывались, Томохико Амаду освещал лунный свет из окна, и фигура его отбрасывала четкую тень. Старец сидел боком ко мне, укутанный в старый халат или плед. С босыми ногами, без носков и тапочек. Длинные седые пряди всклокочены, щеки и подбородок покрыты редкой седой щетиной. Лицо изможденное, только глаза блестят остро и ясно.
Чего-чего, а страха-то во мне как раз и не было, но я пребывал в жутком замешательстве. Моим глазам открывалось отнюдь не тривиальное зрелище, как тут не смутиться? Рука у меня по-прежнему касалась выключателя на стене, но включать свет я не собирался. Я буквально примерз к месту – мне не хотелось мешать тому, что здесь происходит, будь старец призраком или видением… да кем угодно. Мастерская, по сути, как ни крути, – его. В этом месте он и должен находиться. Я же, напротив, здесь чужак, и если он собирается что-то здесь делать, у меня нет никакого права ему мешать.
Поэтому я, затаив дыхание, расслабился, беззвучно попятился и выскользнул из мастерской. Осторожно прикрыл за собою дверь. За все это время Томохико Амада, сидя на табурете, даже не пошелохнулся. И если бы я по неосторожности с грохотом опрокинул, скажем, вазу на столе, он вряд ли бы и это заметил, до того предельна была его строгая сосредоточенность. Прорвавшийся сквозь тучи лунный свет вновь осветил его исхудавшее тело. И я напоследок запечатлел у себя в сознании его контур вместе с тонкими ночными тенями – этот очерк, этот сжатый сгусток всей его жизни. «Такое забывать нельзя», – назидательно проговорил я самому себе. Его образ я должен запечатлеть на сетчатке, крепко-накрепко сохранить в своей памяти.
Вернувшись в столовую, я сел за стол и выпил несколько стаканов минеральной воды. Хотелось виски, но бутылка была пуста – мы с Мэнсики ее допили еще вечером. Кроме нее, никакой выпивки в доме не оказалось. В холодильнике лежало несколько бутылок пива, но мне пива не хотелось.
В итоге я не мог уснуть до четырех утра. Так и сидел в столовой и бесцельно гонял думы в голове. Были жутко взвинчены нервы, и делать ничего не хотелось. Вот и оставалось мне лишь закрыть глаза и размышлять, но думать непрерывно о чем-то одном я тоже не мог. Поэтому несколько часов я просто цеплялся за обрывки самых разных мыслей, словно котенок, что гоняется по кругу за собственным хвостом.
Устав от бесцельных мыслей, я воспроизвел в уме контуры фигуры Томохико Амады. Чтобы проверить себя, сделал простенький набросок: нарисовал воображаемым карандашом портрет старца в воображаемом эскизнике собственной памяти. Как раз это я часто и делаю каждый день в свободное время. Реальные карандаши и бумага мне не нужны. Наоборот, без них даже проще. Наверное, примерно так же математики выстраивают свои формулы на воображаемых досках в мозгу. Кто знает, может, когда-нибудь я на самом деле нарисую такую картину.
Повторно заглядывать в мастерскую мне нисколько не хотелось. Разумеется, любопытство не покидало меня. Старик – вероятно, Томохико Амада, – все еще там? Сидя на табурете, по-прежнему пристально смотрит на «Убийство Командора»? Убедиться в этом мне, конечно же, хотелось. Вероятно, сейчас я столкнулся с очень важным событием и своими глазами вижу то место, где оно происходит. И, возможно, мне будут явлены несколько ключей для разгадки тайны жизни Томохико Амады.
Но даже если и так, я не хотел мешать ему. Преодолев пространство, презрев любую логику, Томохико Амада вернулся сюда, чтобы неспешно насладиться собственной картиной – или же еще раз удостовериться в чем-то, что в ней скрыто. Для этого ему наверняка пришлось потратить немало энергии – ценной жизненной силы, которой у него осталось не так уж и много. Поистине – пусть даже ценой такой жертвы – ему требовалось вволю насладиться своей картиной.
Когда я проснулся, часы показывали начало одиннадцатого. Для меня, жаворонка, это явление весьма редкое. Умывшись, я сварил кофе и позавтракал. Почему-то был очень голоден и на завтрак съел почти вдвое больше обычного: три тоста, два яйца вкрутую, салат из помидоров. Кофе выпил две полные кружки.
После еды на всякий случай заглянул в мастерскую, но фигуры Томохико Амады там, разумеется, уже не было. А была там только обычная утренняя тишь. Стоял мольберт, на нем начатый холст – портрет Мариэ Акигавы, – а перед ним – пустой круглый табурет. За мольбертом стоял стул из гарнитура, на котором сидела, позируя мне, сама Мариэ Акигава. Сбоку на стене висела картина Томохико Амады «Убийство Командора». А вот погремушка на книжной полке так и не возникла. Небо над долиной прояснилось, прохладный и чистый воздух пронизывали крики перелетных птиц.
Я позвонил Масахико Амаде на работу. Дело шло к полудню, а голос его показался мне каким-то сонным. Такие нотки вялости обычно звучат в голосах с утра в понедельник. После краткого приветствия я для уверенности, что видел прошлой ночью не призрак отца Масахико, как бы ненароком поинтересовался его здоровьем. Как здоровье отца? Жив ли? Если, положим, накануне он скончался, сыну уже должны были об этом сообщить.
– Ездил проведать его несколько дней назад. С головой у него лучше уже не станет, а вот физическое состояние вполне нормальное. По крайней мере, пока что нигде не болит.
Из чего я заключил, что Амада-старший еще не умер, значит, прошлой ночью я видел не призрак. Это был мимолетный образ, вызванный намерением живого человека.
– Извини за несуразный вопрос, в последнее время в поведении твоего отца не замечали какие-нибудь странности? – спросил я.
– У моего отца?
– Да.
– А почему тебя это интересует?
Я произнес заготовленную реплику:
– Дело в том, что на днях я видел странный сон. Как будто твой отец посреди ночи возвращается в этот дом, и я случайно его вижу. Очень наглядный это был сон. От такого просыпаешься, подпрыгнув на кровати. Вот я и начал волноваться – вдруг что случилось?
– Вот как? – восхищенно откликнулся Масахико. – Занимательно. И что отец посреди ночи делал в доме?
– Просто неподвижно сидел на табурете в мастерской.
– И только?
– И только. Больше ничего.
– Табурет – тот старый, круглый на трех ножках?
– Да.
Амада Масахико на время задумался.
– Видимо, дни старика и впрямь сочтены, – бесстрастно произнес Масахико. – Душа человека в самом конце жизни навещает те места, о каких будет сожалеть пуще всего. Насколько я знаю, для отца самое милое его сердцу место – мастерская в том доме.
– Но ведь памяти у него не осталось?
– Памяти в обычном понимании – да, почти нет. Но душа, должно быть, еще с ним. Просто сознание не может к ней подключиться. Вроде как разомкнулась цепь, и сознание просто остается не подсоединенным, а душа сохраняется где-то в глубине. Наверняка – не поврежденная.
– Это похоже на правду, – сказал я.
– И тебе не было страшно?
– Во сне?
– Да. Ведь ты видел все как наяву?
– Да нет, какой там страх. Так, странное ощущение, только и всего. Твой отец – прямо как живой у меня перед глазами.
– А может, это и вправду был он сам? – спросил Масахико Амада.
Я ничего на это не ответил. О том, что старый художник скорее всего вернулся в этот дом специально для того, чтобы посмотреть картину «Убийство Командора» (ведь если вдуматься, дух Томохико Амады завлек сюда я сам: не вскрой я упаковку картины, он наверняка сюда б не явился), рассказывать его сыну мне не стоило. Иначе пришлось бы объяснять все: мало того что я нашел картину на чердаке этого дома, к тому же я ее самовольно вскрыл и повесил на стену в мастерской. Когда-нибудь мне, пожалуй, придется это сделать, но не сейчас.
– Так вот, – начал Амада Масахико, – помнишь, в прошлый раз не было времени, и я не рассказал тебе то, что собирался? Я еще говорил, что должен тебе кое в чем признаться. Помнишь?
– Ну да.
– Хочу как-нибудь заехать и спокойно тебе обо всем рассказать? Ты не против?
– Это вообще-то твой дом, ты не забыл? Можешь приезжать, когда захочешь.
– В конце недели я опять собираюсь проведать отца, тогда и загляну к тебе, идет? Одавара – как раз на обратном пути с Идзу.
– В любое время, кроме вечеров в среду и пятницу и первой половины дня воскресенья, – ответил я. – По средам и пятницам я веду изокружок, а в воскресенье мне необходимо писать портрет Мариэ Акигавы.
– Скорее всего, заеду вечером в субботу. В любом случае перед этим позвоню, – сказал Масахико.
Положив трубку, я перешел в мастерскую и присел на табурет – тот самый деревянный табурет, на котором прошлой ночью сидел во мраке Томохико Амада. Сев, я сразу поймал себя на мысли, что он больше не мой, а его – Томохико Амады: тот пользовался им долгие годы, создавая свои картины, и табурет должен и впредь оставаться его табуретом. Для несведущего меня это было всего лишь старое круглое сиденье на трех ножках, все в царапинах, но этот предмет, однако, пропитан его, Томохико Амады, волей. А я лишь пользуюсь им без спроса по стечению обстоятельств.
Сидя на табурете, я всматривался в висевшую на стене картину «Убийство Командора». Прежде я проделывал это неоднократно, бессчетное количество раз. Но картина стоила того, чтобы рассматривать ее вновь и вновь. Иными словами, она была произведением искусства, способным вызвать множество разных мнений о себе. Однако теперь мне захотелось удостовериться в этом заново, но уже под другим – не таким, как обычно, – углом. Ведь на ней изображалось нечто такое, что вынудило Томохико Амаду заново внимательно ее разглядывать накануне своей кончины.
И я принялся неспешно всматривался в холст. С того же места, под тем же углом, сидя в той же позе на табурете, сосредоточенно и затаив дыхание, как это делал прошлой ночью живой дух Томохико Амады – или же он сам. Но как бы внимательно ни смотрел, я так и не смог разглядеть на полотне ничего такого, чего не замечал до сих пор.
Устав от раздумий, я вышел на улицу. Перед домом стоял припаркованный серебристый «ягуар» Мэнсики – чуть поодаль от моего универсала «королла». Его оставили здесь на ночь, и он, точно умный прирученный зверь, тихо сидя на месте, терпеливо дожидался, пока за ним не придет хозяин.
Рассеянно думая о картине, я бесцельно бродил вокруг дома. А когда шел по тропинке сквозь заросли, у меня возникло странное ощущение – я почувствовал на своей спине чей-то взгляд, будто за мной кто-то шпионит. Будто тот Длинноголовый, приподняв над землей квадратную крышку, тайно следит за мной из угла полотна. Я резко обернулся – но ничего у себя за спиной не заметил. Дыра в земле была закрыта, а Длинноголового нигде не видно. Лишь в полной тишине тянулась безлюдная тропинка, засыпанная опавшими листьями. Такое ощущение возникало у меня не раз, но сколь стремительно я бы ни оборачивался, никогда никого не успевал заметить. Или же склеп и Длинноголовый существуют, лишь пока я не оглядываюсь? А стоит мне только обернуться, как это нечто, словно бы чуя, быстро прячется, совсем как в детской игре.
Миновав заросли, я прошагал до конца тропинки, по которой обычно не ходил. Я внимательно искал здесь ту «тайную тропу», о которой говорила Мариэ. Но сколько б ни искал ее, ничего похожего на вход не обнаружил. Мариэ предупреждала меня, что тропу не найти, если смотреть обычным взглядом. Она что – так искусно замаскирована? Во всяком случае, в потемках и в одиночку, следуя по этой тайной тропе, девочка очень быстро добралась с соседней горы до моего дома. По лесам, через заросли.
В конце тропинки открылась небольшая круглая поляна. Прервались свисавшие над головой ветки, и показался кусочек неба. Сквозь эту прореху поляну освещали прямые лучи осеннего солнца. Я присел на плоский камень посреди крохотного лоскутка, залитого солнцем, и разглядывал пейзаж лощины за стволами деревьев. Представлял себе, как вдруг с тайной тропы неожиданно покажется фигура Мариэ Акигавы. Но, разумеется, никто ниоткуда не показался – лишь временами прилетали птахи, садились на ветках и опять куда-то улетали. Птицы держались парами и давали о себе знать короткими, но звучными криками. Я читал в какой-то статье, что некоторые птицы, найдя себе пару, живут потом вместе всю свою жизнь, а стоит кому-то из них умереть – другой доживает остаток своих дней в одиночестве. Нечего и говорить: они не подписывают документы о разводе, присланные с уведомлением из адвокатской конторы.
Издалека уныло доносилось вещание грузовика-автолавки, но вскоре и этот шум утих. Затем где-то в глубине зарослей раздалось громкое шуршание неизвестной мне природы. Человек так не умеет. То шуршало дикое животное. А вдруг это кабан, подумал я (кабаны, как и шершни, – самая опасная живность в этих краях) и на миг обомлел, но звук пресекся и больше не повторялся.
Это подтолкнуло меня подняться и направиться к дому. По пути я завернул за кумирню, чтобы проверить склеп. Поверх него все так же лежали доски, на них – тяжелые камни. Как мне показалось, камни никто не сдвигал. Доски теперь укрывал толстый слой опавшей листвы. Эти листья, намокшие от дождя, уже потеряли свою прежнюю яркость. Все они, родившиеся весной молодыми, поздней осенью неизбежно встречают тихую смерть.
Пока я разглядывал доски, мне казалось, что крышка вот-вот приподнимется, и оттуда выглянет продолговатое, как баклажан, лицо Длинноголового. Но крышка, конечно же, не поднялась. К тому же Длинноголовый прятался в квадратной яме, куда меньше и теснее. А в этом склепе таился не Длинноголовый, а Командор. Точнее – идея, позаимствовавшая облик Командора. Это он звенел по ночам погремушкой, зазывая сюда и вынуждая открыть этот склеп.
Как бы то ни было, с этого склепа все и началось. После того, как мы с Мэнсики вскрыли его экскаватором, вокруг меня начали одна за другой происходить непонятные вещи. Или же все началось после того, как я обнаружил на чердаке картину «Убийство Командора» и разорвал ее обертку? Если по порядку, выходит примерно так. А может, оба эти события с самого начала тесно перекликались между собой? Как знать, возможно, именно картина «Убийство Командора» привела идею в этот дом? И Командор предстал передо мной в благодарность за то, что я освободил картину? Но чем дольше я размышлял, тем сложнее было судить, что стало причиной, а что – следствием.
Когда я вернулся в дом, серебристого «ягуара», запаркованного перед крыльцом, уже не было. Возможно, пока я гулял, Мэнсики приехал за ним на такси или же обратился в службу доставки машин. В любом случае на парковке перед домом одиноко ютилась лишь моя запыленная «королла»-универсал. Как и советовал Мэнсики, нужно как-нибудь измерить давление в шинах, однако я все еще не купил манометр. И вряд ли когда-нибудь в жизни сделаю это.
Собравшись приготовить обед, я стоял перед кухонным столом и тут заметил, что еще недавно одолевавший меня сильный голод пропал. Вместо этого мне жутко хотелось спать. Я принес одеяло, лег на диван в гостиной и сразу уснул. А пока спал – видел короткий сон, очень яркий и отчетливый. Но что это был за сон, вспомнить потом я так и не сумел. Припоминал лишь, что очень яркий и отчетливый. Даже не сон – такое ощущение, будто видел я обрывок реальности, по какой-то ошибке подмешанный мне в сон. А когда я проснулся, обрывок этот, став быстроногим смышленым зверьком, куда-то бесследно исчез.
42
Уронишь на пол, разобьется – значит, яйцо
Неделя пролетела неожиданно быстро. С утра я сосредоточенно писал, днем и по вечерам читал книги, гулял, занимался домашними делами. Один день незаметно переходил в другой. В среду после полудня приехала подруга, и остаток дня мы провалялись в постели. Старая кровать, как всегда, эффектно поскрипывала, чем приводила подругу в восторг.
– Эта кровать наверняка вскоре развалится, – предсказала она, переводя дух между нашими утехами. – Развалится на части так идеально, что не отличишь, кровать это была или палочки «Поки»[3].
– Возможно, мы должны все это проделывать мягче и плавней?
– Возможно, капитан Ахав должен был гоняться за иваси, – сказала она.
Я задумался об этом.
– Хочешь сказать, на свете бывают такие вещи, которые не так-то просто изменить?
– Что-то в этом роде.
Через некоторое время мы опять бросились в погоню по морским простором за белым китом. На свете бывают такие вещи, которые изменить не так-то и просто.
Каждый день я понемногу работал с портретом Мариэ Акигавы – облачал скелет эскиза в подмалевок. Подобрав несколько нужных оттенков, делал ими фон, готовил основу, чтобы ее лицо естественно всплывало на холсте. А меж тем дожидался ее очередного визита ко мне в воскресенье. В работе над картиной есть такие этапы, которые необходимо пройти лишь вместе с натурщиком, оставаясь с ним или нею лицом к лицу, а есть подготовка, которую нужно проводить без него. Мне нравился каждый такой этап сам по себе. В одиночестве можно не торопясь поразмышлять обо всех подробностях, подготовить фон, пробуя разные цвета и приемы. Я наслаждался этой черновой работой – а еще мне нравилось импровизировать: извлекать образ из подготовленного фона.
Вместе с портретом Мариэ Акигавы на другом холсте я начал писать склеп за кумирней. Этот маленький пейзаж ярко отпечатался у меня в памяти, и, чтобы написать картину, мне не требовалось видеть его перед собой. Так что я последовательно и тщательно прорисовывал этот склеп по памяти. Писал я реалистично, без прикрас, почти фотографически. В такой манере я обычно не пишу – за исключением портретов на заказ, конечно, – но такой вид живописи вовсе не считаю своим слабым местом. Стоит захотеть – и мне по силам нарисовать нечто очень тонко прорисованное и реалистичное, что запросто можно спутать с фотографией. Изредка работа над такими близкими к гиперреализму картинами помогает мне переменить настроение и переосмыслить свои базовые навыки. Однако реалистично я пишу сугубо для собственного развлечения и никому такие картины не показываю.
И вот у меня на глазах склеп в зарослях изо дня в день становился все более и более жизнеподобным. Загадочная округлая яма посреди зарослей, наполовину прикрытая досками вместо крышки. Тот склеп, из которого возник Командор. На полотне он изображен как темный провал, людей нет – лишь скопилась вокруг опавшая листва. Совершенно безмятежный пейзаж – и при этом казалось, что в любой миг из ямы может выползти некто. Или нечто. Чем дольше смотрел я на полотно, тем сильнее меня одолевало такое предчувствие. Творенье моих рук – но что-то в нем вдруг заставило меня содрогнуться.
Так я каждый день проводил первую половину дня в мастерской – и, как мне вздумается, поочередно рисовал две совершенно разные по своему характеру картины. Сидя на табурете, на котором воскресной ночью восседал Томохико Амада, я сосредоточенно делал свою работу, обращаясь то к одному, то к другому холсту – их я поставил рядышком. Кто знает, может, из-за такой вот сосредоточенности я и не заметил, как улетучилось ощущение присутствия Томохико Амады, которое я ощутил ранним утром в понедельник. Похоже, старый поцарапанный табурет опять стал реальной мебелью – подспорьем в моей работе, а Томохико Амада, пожалуй, вернулся туда, где ему и было самое место.
Среди недели я иногда по ночам, приоткрыв дверь в мастерскую, заглядывал через щель внутрь, но комната так и оставалась безлюдной. Не появлялись ни Томохико Амада, ни Командор. Лишь старый табурет стоял перед мольбертом. Тусклый свет луны, проникавший в мастерскую через окно, вкрадчиво прорисовывал очертания находившихся там предметов. На стене висела картина «Убийство Командора», на полу, лицом к стене стояла начатая «Мужчина с белым „субару форестером“», на двух мольбертах выстроились в ряд «Портрет Мариэ Акигавы» и «Склеп в зарослях» – обе в процессе создания. В мастерской пахло красками, скипидаром, маковым маслом. Сколько ни оставляй окно открытым, их смешанный аромат уже никогда не выветрится из этой комнаты – тот особый запах, который я вдыхал до сих пор и буду вдыхать, надеюсь, всю оставшуюся жизнь. Как бы для того, чтобы убедиться в присутствии этого запаха в ночной мастерской, я вдохнул воздух полной грудью и тихо затворил дверь.
В пятницу вечером позвонил Масахико Амада – предупредить, что заедет в субботу во второй половине дня. Сказал, чтобы я ничего не готовил: он заглянет в рыбный порт и купит там свежей рыбы. Какой – это сюрприз.
– Может, привезти что-то еще? Мне все равно по пути, заеду и куплю, что скажешь.
– Особо ничего не нужно, – ответил я, но потом вспомнил: – Вот разве что виски. Ко мне приходил знакомый, и ту бутылку, что ты привозил в прошлый раз, мы с ним выпили. Купи одну любую, на твой выбор.
– Мне нравится «Чивас Ригал», устроит?
– Вполне, – ответил я. Масахико Амада всегда был разборчив в еде и выпивке – в отличие от меня. Я-то просто ем и пью что есть.
После разговора с Масахико я снял со стены в мастерской «Убийство Командора», отнес в спальню и обернул бумагой. Неизвестной картине Томохико Амады, которую я самовольно унес с чердака, не стоит попадаться на глаза сыну художника. По крайней мере – пока.
Поэтому картин, которые мои гости могли увидеть в мастерской, осталось всего две, обе на мольбертах. Стоя перед ними, я смотрел то направо, то налево. Сравнивая их, мысленно представлял, как Мариэ Акигава, завернув за кумирню, приближается к склепу. И у меня возникло предчувствие: вот сейчас начнется нечто. Крышка склепа наполовину сдвинута, и мрак направляет Мариэ туда, внутрь. Кто там ее поджидает? Длинноголовый? Или Командор?
Не могут две эти картины быть чем-то связаны между собой?
Поселившись в доме Амады, я почти беспрерывно рисую. Сначала, получив заказ от Мэнсики, писал его портрет, затем рисовал «Мужчину с белым „субару форестером“» – правда, едва приступив к цвету, прервался и с тех пор не прикасался к этой картине, а теперь параллельно пишу «Портрет Мариэ Акигавы» и «Склеп в зарослях». Мне казалось, эти четыре картины, соединившись в некую мозаику, излагают мне какую-то историю.
Или же я, рисуя их, сам веду некую летопись? Могло оказаться и так. Интересно, кто-то назначил меня этим летописцем? И если да, то – кто именно? И почему выбрал в летописцы меня?
В субботу незадолго до четырех на своем черном универсале «вольво» приехал Масахико Амада. Ему нравилась эта простая, но надежная старая модель, похожая на коробку. Масахико давно ездил на этой машине, намотал немалый километраж, но, судя по всему, менять ее на новую и не собирался. С собой он специально привез кухонный нож – отлично ухоженный и остро наточенный. Этим ножом он разделал на кухне морского леща – большого и свежего, только что купленного в рыбной лавке в Ито. Настоящий мастер на все руки, Масахико аккуратно удалил кости и аккуратно нарезал сасими, совсем не оставив мяса на хребте. На костях быстро сварил бульон, кожицу обжарил на прямом огне – из нее получилась нехитрая закуска к выпивке. Я стоял рядом и восхищенно наблюдал за его действиями. Стань Масахико поваром – глядишь, добился бы успеха и на этом поприще.
– Вообще-то сасими из белой рыбы лучше есть на следующий день – так оно мягче и вкуснее. Но… будем есть, как есть, уж не взыщи, – сказал мне Масахико, проворно орудуя ножом.
– Я не привередливый, – ответил я.
– Что останется – доешь завтра сам.
– Запросто.
– Кстати, ничего, если я сегодня у тебя заночую? – спросил Масахико. – Хочется обстоятельно с тобой потолковать, но если я выпью, то уже никуда не поеду. Могу расположиться на диване в гостиной.
– Конечно, – ответил я. – Ведь это же твой дом – ночуй, сколько захочешь.
– А подруга у тебя не останется?
Я покачал головой.
– Таких планов пока что нет.
– Раз так, то договорились.
– Но никаких диванов – в гостевой спальне есть кровать.
– Нет, на диване в гостиной мне будет лучше. Он куда удобнее, чем может показаться. С детства люблю на нем спать.
Масахико достал из бумажного пакета бутылку «Чивас Ригал», снял пластиковую оболочку и откупорил. Я принес два бокала, достал из холодильника лед. Когда напиток разливали, журчал он очень приятно. С таким звуком близкий человек распахивает тебе душу. Помаленьку выпивая, мы готовили ужин.
– Давно мы так с тобой не общались.
– Это верно. А прежде, сдается мне, пили немало.
– Кто пил немало – так это я, – сказал он. – Ты и тогда скорее нюхал пробку.
Я засмеялся.
– Ну, это если с твоего шестка смотреть… По моим меркам-то я закладывал достаточно.
Я никогда не напивался в стельку. Просто не успевал – меня смаривал сон, и я засыпал. А вот Масахико был не таков – если уж начинал пить, то пил основательно.
Сидя друг напротив друга за столом на кухне, сперва мы съели по четыре свежие устрицы, которые Масахико купил вместе с рыбой, затем принялись за сасими. Только что разделанная рыба была очень свежей и вкусной. И вправду твердовата, но мы выпивали и потому никуда не торопились. В конце концов прикончили мы все без остатка – и наелись досыта. Кроме устриц и сасими нас хватило лишь на хрустящую рыбную кожицу и тофу с моченым васаби. А запили все бульоном.
– Даже не припомню такого обстоятельного ужина, – сказал я.
– В Токио так нигде не накормят, – сказал Масахико. – А здесь вовсе не плохое место для жизни – вдоволь вкусной рыбы.
– Но если жить здесь постоянно, тебе, наверное, станет скучно?
– Тебе же не стало?
– Как сказать. Мне скука никогда не была в тягость. К тому же здесь тоже случается всякое.
И впрямь. Поселившись здесь в начале лета, я познакомился с Мэнсики. Вместе мы раскопали склеп за кумирней, затем появился Командор. Вскоре в мою жизнь вошли Мариэ Акигава и ее тетушка. Ублажала меня горячая замужняя подруга. Живой дух Томохико Амады – и тот посетил. Скучать здесь ничуть не приходилось.
– Я тоже вряд ли стал бы здесь скучать, вопреки всему, – произнес Масахико. – В молодости я увлекался серфингом и погонял на местном взморье по волнам изрядно. Что, не знал?
Я ответил, что нет – ни разу об этом от него не слышал.
– По-моему, пора мне уже отойти от городской жизни и вновь окунуться в такую вот сельскую жизнь. Начать все сызнова. Что скажешь? Проснувшись утром, первым делом смотреть на море, а когда придут волны – взять доску и пойти на берег.
Такое занятие было совсем не по мне.
– А что с работой? – спросил я.
– Достаточно пару раз в неделю ездить в Токио. Сейчас почти вся моя работа – на компьютере, и ей ничуть не повредит, если я буду жить вдали от столицы. Мир меняется, скажи?
– Откуда мне знать?
Он изумленно посмотрел на меня.
– На дворе двадцать первый век – хоть это тебе известно?
– Что-то слышал.
Покончив с едой, мы перебрались в гостиную, где продолжили выпивать. Осень подходила к концу, но в ту ночь еще не было зябко настолько, чтобы захотелось разжечь камин.
– Кстати, как состояние отца?
Масахико слегка вздохнул.
– По-прежнему. Мозг в полной отключке, так что он даже не отличит куриные яйца от своих.
– Уронишь на пол, разобьется, значит – куриное.
Масахико рассмеялся.
– Если подумать, человек – создание удивительное. Мой отец еще несколько лет назад был крепким мужчиной – хоть бей его, хоть пинай, все ему нипочем. И голова всегда трезвая и холодная, как зимнее небо темной ночью. Аж противно. А сейчас у него в памяти – сплошное темное пятно, будто непостижимая черная дыра, внезапно возникшая в космосе. – Сказав это, Масахико покачал головой. – Не помнишь, кто сказал: «Старость – самая большая неожиданность в жизни»?[4]
Я ответил, что не знаю – даже не слышал такую фразу. Однако, похоже, так оно и есть. Старость для человека – даже более непредвиденная штука, чем сама смерть. Она с лихвой превосходит все наши ожидания. И однажды тебе ясно дадут понять, что мир этот ничего не потеряет, если лишится тебя как биологического – да и общественного – существа.
– Кстати, тот сон, в котором ты недавно видел моего отца, – что, был очень явственный? – спросил у меня Масахико.
– Да, все было будто наяву.
– И отец был в этом доме? В своей мастерской?
Я провел его в мастерскую и показал на стоявший посредине комнаты табурет.
– Во сне твой отец неподвижно сидел вот здесь.
Масахико подошел к табурету и положил на него ладонь.
– Ничего не делал?
– Нет, просто сидел.
На самом деле он пристально смотрел на «Убийство Командора», но об этом я умолчал.
– Это любимый табурет отца, – сказал Масахико. – Обычный и старый, но отец с ним не расставался. Когда писал картины или просто размышлял – всегда садился именно на него.
– На самом деле, когда сидишь на нем, становится на удивление спокойно на душе.
Масахико некоторое время стоял, не отрывая ладони от табурета – видимо, о чем-то задумался. Но сам на него садиться он не стал. По очереди осмотрел оба холста, стоявших перед табуретом, – «Портрет Мариэ Акигавы» и «Склеп в зарослях», те две картины, над которыми я работал. Осмотрел неторопливо, так врач выискивал бы пятнышко на рентгеновском снимке.
– Весьма интересно, – сказал он. – Очень хорошо.
– Что, обе?
– Да. Каждая вполне привлекательна. Особенно если поставить их рядом – так чувствуется некое странное движение. По стилю они совершено разные, но возникает ощущение, будто что-то их связывает.
Я молча кивнул. Именно это я и сам смутно чувствовал последние несколько дней.
– Сдается мне, ты постепенно нащупываешь новое направление. Будто вот-вот выберешься из дремучего леса. Мой тебе совет – бережно держись за него.
Сказав это, он сделал глоток виски, и лед в бокале издал благородный звук.
Меня так и подмывало показать ему картину Томохико Амады «Убийство Командора». Мне хотелось узнать, какое впечатление произведет на сына работа отца. Возможно, его слова дадут мне какую-нибудь важную подсказку. Однако я подавил в себе это побуждение.
Что-то меня остановило. «Еще не время».
Мы вернулись в гостиную. На улице, похоже, поднялся ветер. За окном густые тучи медленно плыли на север. Луны не было видно.
– Теперь о важном, – наконец-то решившись, начал Масахико.
– Вижу, разговор будет не особо приятный? – сказал я.
– Да, не особо. Точнее – совсем неприятный.
– Но я должен об этом знать?
Масахико потер ладони, будто собирался поднять нечто тяжелое. И наконец заговорил:
– Речь о Юдзу. Я несколько раз с нею виделся. И до того, как ты весной ушел из дому, и после. Всякий раз о встрече просила она. Мы с нею встречались и разговаривали на улице. Правда, она просила тебе не рассказывать. Я не хотел, чтобы между нами были тайны, но слово ей дал.
Я кивнул.
– Слово – это серьезно.
– Ведь мы с Юдзу тоже друзья.
– Я знаю, – сказал я. Масахико очень дорожил дружбой – возможно, такова была его слабость.
– У нее был мужчина. Ну, в смысле – помимо тебя.
– Я знаю, – снова сказал я. – В том смысле, что теперь, разумеется, знаю.
Амада кивнул.
– Примерно полгода до того, как ты ушел из дому, – у них, то есть, были отношения. И мне стыдно признаться, но я его знаю. Он мой коллега по работе.
Я тихо вздохнул.
– Насколько могу себе представить, он симпатичный?
– Да, недурен собой. Точеное лицо. Агентство приметило его еще в студенчестве, и он подрабатывал натурщиком. И, по правде говоря, вышло так, что познакомил его с Юдзу я.
Я молчал.
– Разумеется, так вышло, – добавил Масахико.
– Юдзу с юности питала слабость к смазливым мужикам. Она сама мне в этом признавалась.
– Ну, у тебя физиономия тоже ничего.
– Спасибо. Сегодня, похоже, от этого знания буду спать крепко.
Какое-то время мы хранили молчание, каждый – по-своему. Потом заговорил Масахико:
– Как бы то ни было, тип этот – очень приятной внешности, и при том у него неплохой характер. Понимаю, что все это тебя никак не утешит, но он совершенно не из тех, кто бьет женщин, неразборчив в связях или кичится своей внешностью.
– Ну, уже хоть что-то, – произнес я. Специально я не старался, но фраза прозвучала насмешливо.
Масахико продолжал:
– Примерно в сентябре прошлого года мы были где-то вместе с этим малым и случайно наткнулись на Юдзу. Время шло к полудню, поэтому решили пообедать втроем. Но я даже не мог представить, что они начнут встречаться. Он младше ее на пять лет.
– И все же времени они зря не тратили?
Масахико едва заметно пожал плечами. Похоже, у них все развивалось стремительно.
– Он обратился ко мне тогда за советом, – сказал Амада. – А за ним следом – и она. Тем самым они загнали меня в угол.
Я молчал, понимая, что любые мои слова будут выглядеть глупо.
Масахико умолк. После этого заговорил вновь:
– Дело в том, что она беременна.
Я на миг лишился дара речи.
– Беременна? Юдзу?
– Да, на восьмом месяце.
– Залетели?
Масахико покачал головой.
– Этого я не знаю, но она собирается рожать. Уже семь месяцев все-таки, ничего другого не остается.
– Она же постоянно мне твердила, что пока не хочет ребенка.
Масахико заглянул к себе в бокал, слегка насупился и спросил:
– Так получается, никаких шансов, что этот ребенок – твой?
Я быстро прикинул в уме и покачал головой. Юридически это отдельный вопрос, а вот биологически вероятность нулевая. Восемь месяцев назад я ушел из дому, и с тех пор мы с нею больше не виделись.
– Хорошо, если так, – произнес Масахико. – В общем, сейчас она собирается рожать и попросила меня сообщить тебе об этом. Сказала, что сама не намерена тебя этим беспокоить.
– Зачем же ей нужно, чтобы я об этом знал?
Масахико опять покачал головой.
– Полагаю, считает, что так будет прилично.
Я молчал. «Прилично?» Масахико сказал:
– Как бы там ни было, я хотел за все это перед тобой извиниться. Я очень перед тобой виноват за то, что знал об отношениях Юдзу и моего коллеги, но ничего не мог тебе рассказать. Какими бы ни были обстоятельства.
– И за это ты пустил меня пожить в этот дом?
– Нет, с Юдзу это никак не связано. Здесь все-таки долго жил мой отец, все это время писал здесь картины… Вот я и подумал – кому как не тебе лучше всего здесь поселиться? Кому попало же такой дом не доверишь.






