Убийство Командора. Книга 2. Ускользающая метафора Мураками Харуки
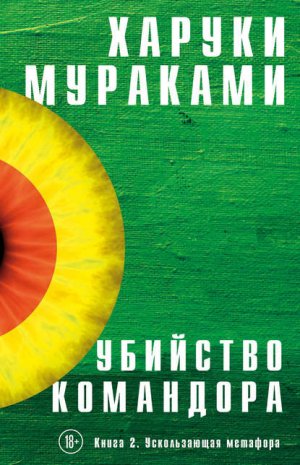
Я молчал. Похоже, он не лукавил. Масахико продолжал:
– Что бы ни случилось, ты уже подписал документы на развод и отправил обратно Юдзу, так?
– Если быть точным, отправил я их адвокату, поэтому развод уже должен быть оформлен. И тогда они смогут спокойно пожениться.
И создать счастливую семью. Миниатюрная Юдзу, симпатичный долговязый папаша и малое дитя. Безоблачным воскресеньем с утра все втроем они дружно гуляют в соседнем парке. Прямо идиллия.
Масахико добавил льда нам обоим в бокалы и долил виски. Взял свой и сделал глоток.
Я встал с кресла, вышел на террасу и посмотрел на дом Мэнсики по ту сторону лощины. Свет в некоторых окнах у него еще горел. Мэнсики – чем он сейчас там занят? О чем размышляет?
По ночам теперь становилось холодно. Ветер покачивал ветки деревьев, полностью сбросивших листву. Вернувшись в гостиную, я опять расположился в кресле.
– Ты меня простишь?
Я покачал головой.
– Вопрос же не в том, кто виноват.
– Мне действительно очень жаль. Вы с Юдзу были такой подходящей парой и выглядели очень счастливыми. И чтобы все так прискорбно да вдребезги…
– Попробуй уронить на пол. Яйцо – то, что разобьется.
Масахико бессильно хмыкнул.
– И как ты теперь? Женщина есть?
– Нельзя казать, что нет.
– Но не такая, как Юдзу?
– Нет, не такая. У меня давно выработался свой взгляд на женщин. На те качества, какие мне в них важны. И это было в Юдзу.
– А в других такого не находишь?
Я покачал головой.
– Пока что нет.
– Очень жаль, – сказал Масахико. – К слову, а что для тебя в них важно?
– Трудно сказать. Но это именно то, что я, отчего-то утратив однажды, долго продолжаю еще в них потом искать. Пожалуй, все люди, наверное, так вот в кого-то влюбляются?
– Ну, скажем, не все, – ответил Масахико, немного нахмурившись. – Наоборот, такие, скорее всего, в меньшинстве. Однако если это трудно выразить словами – нарисуй, ты же художник.
Я сказал:
– Не получается выразить словами – нарисуй, ха! Сказать легко, да сделать непросто.
– Однако оно стоит того, чтобы к нему стремиться.
– Возможно, капитану Ахаву следовало гоняться за иваси, – сказал я.
Услышав это, Масахико рассмеялся.
– С точки зрения безопасности – да. Но тогда не родится искусство.
– Постой, ты это брось… Стоит произнести слово «искусство» – и разговору сразу хана.
– Сдается мне, нам нужно выпить еще, – сказал Масахико, качая головой, и подлил нам обоим виски.
– Я столько не выпью. Завтра мне работать.
– Завтра будет завтра. А сегодня есть лишь сегодня, – ответил Масахико.
В этих его словах звучала удивительная сила убеждения.
– Есть у меня к тебе одна просьба, – сказал я Масахико, как раз собираясь завершить беседу и готовиться ко сну. Стрелки часов приближались к одиннадцати.
– Все, что будет в моих силах.
– Если ты не против, я хотел бы встретиться с твоим отцом. Когда поедешь в пансионат на Идзу, сможешь взять меня с собой?
Масахико посмотрел на меня, будто видел перед собой диковинную зверушку.
– Ты хочешь встретиться с моим отцом?
– Если тебя это не затруднит.
– Конечно, нет. Только он уже не в состоянии выражаться членораздельно. У него в голове сплошная муть, полный хаос. И если ты на что-то надеешься… в смысле – хочешь добиться от Томохико Амады чего-то осмысленного, боюсь, тебя эта встреча только расстроит.
– А я ни на что и не надеюсь. Просто хочу хотя бы раз встретиться с твоим отцом и хорошенько рассмотреть его лицо.
– Зачем?
Я вздохнул и обвел взглядом гостиную.
– Я уже полгода живу в этом доме, работаю в мастерской твоего отца. Пишу картины, сидя на его табурете. Ем с его посуды, слушаю его пластинки. И во всем этом, признаться, везде ощущается его присутствие. Вот я и посчитал, что нужно хотя бы раз встретиться с ним самим, пусть даже не удастся толком поговорить. Мне все равно.
– Раз так, то ладно, – согласился Масахико. – Хоть ты и приедешь со мной вместе, он и не обрадуется, и не расстроится, ведь он уже не различает, кто есть кто. Поэтому ничего не помешает мне взять тебя с собой. Скоро я опять туда поеду. Врачи говорят – ему осталось недолго. В любой миг может произойти что угодно. Поэтому поехали, если не будешь занят.
Я принес запасной комплект постели: матрас, подушку и одеяло, – и постелил ему на диване в гостиной. Еще раз окинул комнату взглядом, проверяя, нет ли где Командора. Если Масахико проснется среди ночи и увидит перед собой шестидесятисантиметрового мужчину в одежде эпохи Аска, у него наверняка душа уйдет в пятки. Еще решит, что белая горячка началась.
Помимо Командора, меня в этом доме беспокоил «Мужчина с белым „субару форестером“». Сама-то картина развернута лицом к стене, но я понятия не имел, что может произойти во мраке ночи в мое отсутствие.
Я пожелал Масахико крепкого сна до самого утра – и при этом ничуть не кривил душой.
Перед тем, как лечь, я выдал Масахико свою запасную пижаму – он примерно моего сложения, так что размер оказался впору. Масахико разделся, натянул пижаму и нырнул в приготовленную постель. В комнате было прохладно, но под одеялом должно быть тепло.
– Ты на меня не сердишься? – спросил напоследок он.
– С чего бы? – ответил я.
– Но тебе ведь немного больно?
– Наверное, – признался я. Я тоже имею право хоть сколько-то чувствовать боль.
– Но в стакане воды еще одна шестнадцатая часть.
– Именно, – подтвердил я.
Затем я потушил в гостиной свет и ушел к себе в спальню. И вскоре уснул – вместе со своим ноющим от обиды сердцем.
43
Не может все оказаться обычным сном
Когда я проснулся, давно рассвело. Небо затягивали жидкие серые облака, и все же благотворные солнечные лучи, пробиваясь сквозь них, тихо стелились по земле. Было около семи.
Умывшись, я запустил кофе-машину, а затем пошел проверить гостиную. Масахико Амада, завернувшись в одеяло, спал крепким сном – и просыпаться, видимо, не собирался. На столике сбоку от дивана стояла почти пустая бутылка «Чивас Ригал». Не будя Масахико, я убрал и бокалы, и бутылку.
По моим меркам, вчера я выпил прилично, однако похмелья не ощущал, изжоги тоже. И голова была ясной, как обычно по утрам. Сколько себя помню, я никогда не страдал похмельем – даже не знаю, почему. Это у меня врожденное? Сколько б ни выпил, проспавшись, утром я не наблюдаю в себе никаких следов алкоголя. Все исчезает. Позавтракав, я сразу мог приниматься за работу.
Завтракая двумя тостами и глазуньей из двух яиц, я слушал по радио новости и прогноз погоды. Рухнули цены на акции, оскандалился депутат Парламента, на Ближнем Востоке в городе N произошел крупный террористический акт – много людей погибло или получило травмы. Как обычно, не услышал я ни одной греющей душу новости. Но и ничего, способного сразу же отрицательно повлиять на мою жизнь, тоже не случилось. Все пока что происходило в каком-то далеком мире, с незнакомыми мне людьми. Конечно, их жаль, но что я могу с этим поделать? И прогноз погоды был не самый радостный. Ясного солнечного дня никто не обещал, но и ненастья тоже: днем легкая облачность, но без осадков. Вероятно. Чиновники и синоптики – люди неглупые, поэтому таких уклончивых слов, как «возможно» или «пожалуй», не употребляют. Для этого у них есть удобный и никого ни к чему не обязывающий термин «вероятность осадков».
Закончились новости и прогноз погоды – я выключил радио и прибрал после завтрака посуду. После чего сварил еще кофе и сел за кухонный стол. Обычные люди в это время разворачивают только что доставленный утренний номер газеты, но я газет не выписываю, поэтому за чашкой кофе обычно попросту смотрю на красивую иву за окном и размышляю.
Первым делом я подумал о жене, которой вскоре, насколько я понял, рожать. Вдруг я поймал себя на мысли, что она мне больше не жена. Нас с нею больше ничто не связывает – ни с точки зрения общественного договора, ни с точки зрения людских отношений. Я уже, вероятно, успел стать для нее посторонним, бессмысленным существом. Эта мысль показалась мне очень странной. Еще несколько месяцев назад мы вместе завтракали, вытирались одним полотенцем и мылились одним куском мыла, соприкасались нагими телами, делили постель – а теперь стали чужими людьми.
Чем дольше я об этом раздумывал, тем больше мне стало постепенно казаться, что даже для себя самого я стал бессмысленным созданием. Опустив руки на стол, я пристально их разглядывал. Это, вне сомнения, мои руки. Левая симметрична правой и выглядит почти так же. Этими руками я пишу картины, готовлю и ем еду, временами ласкаю женщин. Однако нынешним утром руки эти вовсе не были похожи на мои. Ладони, ногти, подушечки пальцев, казалось, принадлежали другому – незнакомому, постороннему человеку.
Я оставил думы о руках. И о женщине – в прошлом моей жене. Выйдя из-за стола, я направился в ванную, снял пижаму и принял горячий душ. Старательно вымыл голову, побрился – а затем опять задумался о Юдзу, которой вскоре предстояло родить – не моего – ребенка. Я не хотел об этом думать, но не думать об этом не мог.
Она примерно на восьмом месяце. Семь месяцев назад была вторая половина апреля. Где сам я был тогда и что делал? Уйдя из дому, отправился в длительное путешествие примерно в середине марта. Затем бесцельно скитался по северу страны за рулем старенького «пежо-205». Вернулся в Токио я в начале мая. Выходит, во второй половине апреля я как раз перебрался с Хоккайдо в Аомори – на пароме из Хакодатэ до Оома на полуострове Симокита.
Достав из глубины выдвижного ящика дневник, который вел по пути, я проверил, где был в те дни. Отдалившись от побережья, я ездил туда-сюда по горам Аомори. Несмотря на вторую половину апреля, в горах было холодно, повсюду еще лежал снег. Зачем мне нужно было непременно ехать в такие холодные места, я вспомнить не мог. Названия местности не знаю, но, помню, несколько дней я провел в безлюдной маленькой гостинице у озера. Неприглядное старое здание из бетона, непритязательная – но вполне годная – еда. И плата была на удивление низкой, а в глубине участка располагалась маленькая открытая ванна с минеральной водой, доступная в любое удобное время. Гостиница недавно открылась после зимнего перерыва, и, как мне кажется, постояльцев, кроме меня, в ней не было.
Воспоминания о путешествии оказались весьма смутными. В тетрадке, служившей мне записной книжкой, остались пометки о местах, где я побывал и где ночевал, о том, что я ел, какое расстояние проехал и сколько было расходов за день. И только. Записи – от случая к случаю и крайне сухие. Не чувствовалось в них ни эмоций, ни впечатлений. Возможно, ничего, достойного пера, и не случилось? Поэтому, перечитывая свой дневник, я почти не мог отделить один день от другого. Сами географические названия мне ни о чем не говорили – я не мог припомнить, что это были за места. Немало дней осталось даже без таких названий. Те же пейзажи, та же еда, та же погода… Погоды там было лишь два типа: холодно и прохладно. И сейчас я в силах был припомнить лишь это однообразие.
Пейзажи и предметы в дорожном эскизнике куда ярче освежили мою память (фотоаппарат я в дорогу не брал, и фотографий поэтому не было – вместо них я делал наброски). При этом нельзя сказать, что за всю поездку я нарисовал их много. Когда позволяло время, брал в руки огрызок карандаша или шариковую ручку и набрасывал эскизы того, что попадалось на глаза. Придорожные цветы, собак и кошек, горные хребты. Иногда по настроению рисовал людей рядом, но практически все раздал им же.
В самом низу страницы дневника за 19 апреля я обратил внимание на пометку: «Прошлая ночь / сон». И больше ничего. Я как раз жил в той гостинице. Оба слова жирно подчеркнуты мягким карандашом. Чтоб я внес такое в дневник, да еще нарочно подчеркнул… видно, то был важный для меня сон. Понадобилось время, чтобы вспомнить, о чем он был. И тут меня озарило.
Той ночью под утро я видел яркий и непристойный сон.
Во сне я был в квартире на Хироо – в той самой, где прожил вместе с Юдзу шесть лет. На кровати в одиночестве спала моя жена, а я смотрел на нее откуда-то с потолка. Вроде как парил в пространстве – причем мне это вовсе не показалось странным. В том сне такое состояние я полагал совершенно нормальным. Ничего удивительного. Что и говорить, я отнюдь не считал, и что все это – сон. Для того меня – парящего в пространстве – все это было сейчас и взаправду.
Тихонько, чтобы не разбудить Юдзу, я спустился с потолка и встал у изножья кровати. Я был очень возбужден – еще бы, мы так долго не были вместе. Потихоньку я принялся стягивать с нее одеяло, но Юдзу спала очень крепко. Возможно, выпила накануне снотворного и, даже оставшись без одеяла, просыпаться, похоже, не собиралась. Она даже не пошевелилась, что лишь придало мне смелости. Медленно я стянул с нее пижамные штаны, снял трусы. Пижама была голубой, трусы – маленькие, белые, из хлопка. Но она все равно не проснулась – не сопротивлялась и не кричала.
Нежно раздвинув ей ноги, я погладил влагалище пальцем. Внутри у нее было тепло и влажно – словно она только и ждала моего прикосновения. И я, не в силах сдержаться, вставил окрепший пенис ей внутрь. Точнее, она принимала своим влагалищем мой пенис, словно нагретое сливочное масло, активно поглощала его. Не просыпаясь, Юдзу глубоко вздохнула и еле слышно вскрикнула – так, словно заждалась, когда же с нею так поступят. Дотронувшись до ее груди, я ощутил соски – твердые, точно плодовые косточки.
Сейчас она, пожалуй, видит крепкий сон, подумал тогда я. И в этом сне перепутала меня с кем-то другим, поскольку уже давно отвергала мои объятья. Однако каким бы ни был ее сон, и пусть в нем она считает меня кем-то другим, в ней сейчас был именно я – и я уже не мог прерваться. Если Юдзу сейчас проснется и обнаружит, что ее партнер я, это наверняка ее шокирует. Она даже может разозлиться. Если все выйдет так, то случится это тогда, пока же мне остается лишь идти до последнего. В голове у меня гулко бурлило от нестерпимого желанья – словно река прорвала плотину.
Вначале я двигался в ней, избегая лишней резкости, медленно и осторожно, чтобы не разбудить, однако вскоре движения эти ускорились сами по себе. Плоть ее желанно меня принимала и требовала быть еще жестче, и я вскоре кончил. Мне хотелось оставаться в ней дольше, но сдерживаться сверх того я уже не мог. Секса у меня не было давно, а Юдзу, хоть и во сне, реагировала как никогда активно.
Извергался в нее я очень бурно и несколько раз подряд. Сперма переполнила ей влагалище и протекла наружу, вымочив простыню. Даже если б я попытался все это остановить, я бы не знал, как. Я даже забеспокоился, помню, во сне: если дело так пойдет и дальше, меня это вконец истощит. Но даже при такой страсти Юдзу не вскрикнула ни разу, продолжала ровно дышать и вообще спала как убитая. А вот ее влагалище и не собиралось меня отпускать. Оно настойчиво и страстно сокращалось, продолжая выдавливать из меня все мои соки.
И тут я проснулся. И тут же увидел, что действительно кончил – у меня промокли все трусы. Я быстро снял их, чтоб не испачкать простыню, и сразу же застирал в раковине умывальника. После чего вышел из номера и через черный ход направился к источнику во дворе. Бассейн был открытый, без стен и крыши. Пока я до него дошел – чуть не окоченел, а стоило погрузиться в воду, как тело быстро прогрелось до самого нутра.
Тихий час перед самым рассветом. Я в полном одиночестве принимал минеральную ванну и, слушая, как лед, тая от пара, стучит капелью, раз за разом прокручивал в голове свое сновидение. Воспоминание о нем полнилось такими свежими ощущениями, что сон никак не походил на сон. На ум приходило только одно: я действительно побывал в квартире на Хироо и реально совокупился с Юдзу. Мои руки отчетливо помнили прикосновение к ее гладкой коже. Пенис осязал ее внутреннюю полость – она жаждала и крепко обнимала его (или же перепутала меня с кем-то другим, но во всяком случае ее партнером был именно я). Ее влагалище сжимало мой пенис и старалось присвоить себе мою сперму – всю до последней капли.
Этот сон – или его подобие – не мог не вызвать у меня некоего стыда. Выходит, я изнасиловал жену в своем воображении. Сняв одежду со спящей Юдзу, вставил свой член без ее согласия на это. Даже между супругами такой секс может юридически считаться актом насилия, и в этом смысле мой поступок ничуть не заслуживает похвалы. Но в итоге, если подходить объективно, это просто сон. Мой собственный опыт во сне. Люди называют это сном. И я не придумывал его специально, не писал его либретто.
Тем не менее верно и то, что я этого желал – я хотел совершить это действие. Окажись я в подобной ситуации на самом деле, не во сне – наверняка поступил бы так же: нежно бы раздел спящую жену и своевольно взял бы ее. Я хотел обнять Юдзу, хотел войти в ее тело и был одержим сильной страстью. И получилось так, что во сне я этого добился – причем наверняка в более приукрашенном виде, чем могло бы случиться на самом деле. Иными словами, этого можно было добиться только во сне.
Та по-настоящему эротическая фантазия в моем одиноком путешествии подарила мне ощущение некоего счастья. Можно также сказать, я испытал душевный подъем. Вспоминая о том сне, я мог-таки ощущать себя живой душой, органически связанной со всем этим миром. Пусть не логикой, пусть не идеей, не замыслом, а в высшей степени одним только чувственным наслаждением я удерживаюсь в этом мире.
Но все равно от одной только мысли, что, вероятно, какой-то другой мужчина наслаждается подобным чувством с Юдзу в действительности, сердце мне разрывало острой болью. Этот кто-то прикасался к ее отвердевшим соскам, снимал белые трусики, вставлял свой член в ее повлажневшее влагалище и неоднократно кончал. Стоило представить такое, и внутри у меня открывалось щемящее кровотечение. Насколько я себя помню, такое чувство возникло у меня впервые в жизни.
Вот какой странный сон я видел на рассвете 19 апреля. И, записав в дневник: «Прошлая ночь / сон», – я жирно подчеркнул внизу карандашом 2B.
Примерно тогда Юдзу и забеременела. Разумеется, определить точно день зачатия невозможно, однако не будет ошибкой сказать, что примерно тогда это и случилось.
Все это весьма походило на ту историю, что мне поведал Мэнсики. Вот только он на самом деле занимался любовью с живой партнершей на диване в собственном кабинете. Это не было сном. Как раз примерно тогда его женщина забеременела – а сразу после вышла замуж за пожилого богача и вскоре родила Мариэ Акигаву. Поэтому у Мэнсики есть все основания полагать, что девочка, возможно, – его ребенок. Шанс на это незначительный, но практически – вполне вероятный. А вот в моем случае ночное соитие с Юдзу произошло всего-навсего у меня во сне. Сам я в то время находился в горах Аомори, Юдзу – скорее всего, в центре Токио. Поэтому ребенок, которого собирается рожать сейчас Юдзу, никак не может быть моим. Рассуждая логически, все вполне очевидно, и мой шанс равен абсолютному нулю. Но это – если рассуждать логически.
Однако сон мой был чересчур ярким, чтобы вот так легко развеять его при помощи одной лишь логики. И то соитие во сне оказалось более впечатляющим, нежели любое реальное из тех, что у нас были с Юдзу за все шесть лет семейной жизни, да и удовольствия доставило несравнимо больше. Пока я раз за разом кончал в нее, казалось, одновременно у меня в голове вылетают все пробки. Несколько слоев реальности, расплавившись, перемешались и сильно помутнели в моей голове. В ней будто воцарился хаос – совсем как при сотворении мира.
Во мне окрепло ощущение: такое живое событие не может оказаться обычным сном. Он должен быть с чем-то связан. Он должен как-то подействовать на действительность.
Около девяти проснулся Масахико Амада. Прямо в пижаме он заявился на кухню и выпил кружку горячего черного кофе. Сказал, что завтрака не нужно – кофе будет достаточно. Под глазами у него свисали мешки.
– Ты в порядке? – поинтересовался я.
– В порядке, – ответил он, потирая веки. – Бывало и хуже. Это не похмелье, а так себе.
– Можешь не торопиться.
– Но к тебе ведь сейчас приедут клиенты?
– Клиенты приедут в десять. Еще немного времени есть. К тому же ничего плохого не случится, если ты задержишься. Представлю тебя дамам заодно, обе они просто прекрасны.
– Обе? Разве позирует тебе не одна?
– Одна. Но она приезжает с тетушкой.
– Под надзором, значит? Весьма архаичные нравы, совсем как у Джейн Остен. Еще скажи, что приедут они на дрожках, запряженных конной парой, и затянутые в корсеты.
– Дрожек не будет – они приедут на «тоёте приус». И без корсетов. Пока я часа два пишу в мастерской девочку, ее тетя читает в гостиной книгу. Тётя, к слову, еще не старая.
– Говоришь, книгу читает? Что за книга?
– Не знаю. Я спрашивал, но она не сказала.
– Н-да, – промолвил он. – Кстати, о книгах. Помнится, в «Бесах» Достоевского был герой, который, чтобы доказать, будто он – свободная личность, застрелился из пистолета. Как же его звали-то? Мне казалось, ты должен знать.
– Кириллов, – ответил я.
– Точно, Кириллов. Который уже день ломаю голову.
– И что с ним такое?
Масахико покачал головой.
– Да ничего особенного. Просто он с чего-то всплыл в голове, я попытался вспомнить его имя, но – увы. Вот и не мог успокоиться никак – застряло, как кость в горле. Ох уж эти русские – как придумают что-нибудь, так хоть стой, хоть падай.
– В романах Достоевского полно людей, которые пытаются доказать, что они свободные люди, не зависят ни от бога, ни от мира и для этого совершают самые нелепые поступки. Хотя в ту пору в России, возможно, это и не считалось такой уж нелепицей.
– А ты сам-то? – спросил Амада. – Официально развелся с Юдзу, юридически стал свободным человеком. А дальше что? Пусть ты и не стремился к этой свободе, но свобода есть свобода. Раз уж выпала такая возможность, пора бы уже, наверное, совершить какую-нибудь нелепость?
Я улыбнулся.
– Пока что ничего предпринимать в этом смысле я не собираюсь. Я хоть и стал свободен, но не стоит кричать об этом на весь белый свет, правда?
– Так-то оно так, – разочарованно протянул Масахико. – Но ты же художник, человек искусства, нет? Обычно ваш брат сбрасывает с себя узду куда более эффектно. Ты же никогда не отличался эксцентричностью и, сдается мне, всегда поступал правильно и действовал осмысленно. Разве нельзя иногда слететь с катушек?
– В смысле – зарубить топором старуху-процентщицу?
– Как вариант.
– Или влюбиться в проститутку с золотым сердцем?
– Тоже неплохо.
– Я подумаю, – ответил я. – Но действительность такова, что сама сбивает обручи с бочки, даже если я воздержусь от нелепых поступков. Пусть хотя бы я сам буду вести себя прилично.
– Ну, можно и так на это взглянуть, – смирившись, проговорил Масахико.
Мне хотелось возразить: «Нет, как раз так на это глядеть нельзя!» И впрямь – меня окружает действительность со сплошь сбитыми обручами. Если еще сбить и мой, то… пиши пропало. Хотя с какой стати мне все это объяснять Амаде?
– Я все-таки поеду, – сказал Масахико. – Может, я был бы не прочь познакомиться с твоими клиентками, но в Токио много дел.
Он допил кофе, переоделся и сел за руль черной коробки «вольво». Глаза у него еще были припухшими.
– Извини, если что не так. Но я рад, что мы смогли не спеша побеседовать в кои-то веки.
Тем утром произошло и нечто невразумительное: мы не смогли найти нож, который Амада привез для разделки рыбы. Не припоминаю, чтобы он, вымыв его, куда-то его убрал. Мы перевернули вверх дном всю кухню, однако ножа так и не нашли.
– Ладно, что уж там, – произнес Масахико. – Видимо, пошел гулять. Сообщишь, когда он вернется. Я-то сам пользуюсь им редко, так что заберу, когда приеду в следующий раз.
Я обещал поискать.
Скрылся из виду «вольво», и я посмотрел на часы – вскоре должна была прибыть женская часть семейства Акигава. Вернувшись в гостиную, я убрал с дивана постель и распахнул окна, чтобы проветрить – воздух в комнате застоялся. Небо оставалось затянутым бледно-серой пеленой. Ветра не было.
Я перенес из спальни картину «Убийство Командора» и повесил на прежнее место в мастерской. Затем сел на табурет и окинул ее свежим взглядом. Командор все так же истекал кровью, а Длинноголовый продолжал пристально наблюдать за этой сценой из нижнего левого угла полотна. Все как и прежде.
Однако тем утром, пока я разглядывал «Убийство Командора», из головы у меня никак не выходил образ Юдзу. «Похоже, то все-таки был не сон», – вновь промелькнула у меня мысль. Сдается мне, той ночью я взаправду побывал в той комнате. Так же, как и Томохико Амада побывал среди ночи в мастерской. В апреле я, нарушив все мыслимые законы физики, каким-то образом оказался в квартире на Хироо, действительно насладился телом жены и выпустил в нее настоящее семя. Люди могут добиться чего угодно, подумал я, если только пожелают этого всем сердцем. Есть каналы, проходя сквозь которые действительность может становиться эфемерной, а ирреальность – допустимой. Стоит лишь очень сильно пожелать этого всем сердцем. Но такое вряд ли послужит доказательством того, что человек свободен. Пожалуй, скорее, наоборот.
Если мне удастся еще разок свидеться с Юдзу, я хотел бы спросить у нее: видела ли она тот эротический сон во второй половине апреля? Помнит ли, как я под утро проник в ее жилище и взял ее силой, пока сама она крепко спала (считай, была лишена физической свободы)? Говоря иначе, был ли тот странный сон взаимным, а не односторонним? Мне очень хотелось это выяснить. Но если все случилось так, если она и впрямь видела тот же сон, то в ее глазах я, возможно, стал злодеем, существом зловещим – эдаким инкубом. Я не хотел даже думать о том, что становлюсь им – или, что хуже, уже им стал.
А сам-то я – свободен? Для меня этот вопрос не имел ни малейшего смысла. Теперешнему мне больше всего нужна достоверная действительность. Прочная основа, чтобы уверенно стоять на ногах, – а не свобода, допускающая насилие над собственной женой во сне.
44
Характерные черты, которые делают из человека особую личность
Мариэ в то утро не проронила ни слова. Сидя на привычном стуле из простенького столового гарнитура, она, позируя, смотрела прямо на меня, словно разглядывала далекий пейзаж. Стул был ниже табурета, и похоже было, будто она смотрит на меня снизу вверх. Я тоже заговаривать не собирался – не мог придумать, о чем бы с ней поговорить, да и не видел в том необходимости. Поэтому я лишь молча водил кистью по холсту.
Я, разумеется, рисовал Мариэ, но одновременно к ее образу примешивался облик моей покойной сестры Коми и моей бывшей жены Юдзу. Я делал так не умышленно – оно выходило само по себе. Возможно, в этой девочке я искал образы дорогих мне женщин, которых утратил за свою жизнь. Я и сам не знал, насколько здравы мои действия, однако пока что не мог рисовать иначе. Хотя нет – не пока что. Если задуматься, похоже, стиль этот я в той или иной мере применял с самого начала: воплощал в картине то, в чем нуждался, но не получал в действительной жизни. Тайно вкрапливал собственные потайные знаки, каких не замечали все остальные.
Как бы то ни было, сейчас, почти что наедине с холстом, я почти без колебаний завершал портрет Мариэ Акигавы. Работа продвигалась мазок за мазком. Подобно тому, как река, местами изгибаясь меж крутых берегов, местами засыпая в заводях, но неизменно прибавляя в объеме, направляется к своему устью, к морю. Я отчетливо ощущал продвижение у себя внутри, будто это текла моя собственная кровь.
– Можно потом прийти к вам в гости, – подавшись ко мне, тихонько проговорила Мариэ на прощанье. Прозвучало утвердительно, однако это был очевидный вопрос – она действительно спрашивала у меня, можно ли потом прийти ко мне в гости.
– По твоей тайной тропе?
– Ага.
– Пожалуйста. А во сколько?
– Этого пока не знаю.
– Когда стемнеет, думаю, лучше не стоит. Кто его знает, что может приключиться ночью в горах, – посоветовал я.
Кто только не скрывается под покровом ночи в этой округе. Командор, Длинноголовый, «Мужчина с белым „субару форестером“»… даже живой дух Томохико Амады. И наверняка – сексуальное проявление меня самого, инкуб. Ведь этот самый «я» при случае под покровом ночи может стать неким зловещим существом. От одной этой мысли я невольно ощутил легкий озноб.
– Приду по возможности дотемна, – пообещала Мариэ. – Мне есть вам что рассказать. С глазу на глаз.
– Хорошо. Буду ждать.
Вскоре раздался полуденный сигнал, и я закончил работу.
Сёко Акигава, как обычно, увлеченно читала на диване книгу. Толстый покетбук у нее уже близился к концу. Она сняла очки, закрыла книгу, заложив страницу, и подняла взгляд на меня.
– Работа продвигается. Вам осталось прийти еще раз или два – и портрет будет готов, – сказал я. – Извините, что отнял у вас столько времени.
Сёко Акигава улыбнулась. То была очень приятная улыбка.
– Ничего. Не принимайте близко к сердцу. Мариэ, судя по всему, понравилось позировать. Да и мне интересно посмотреть на завершенную работу, а у вас на диване удобно читается. Поэтому я хоть и жду, но нисколько не скучаю. Мне тоже полезно выбираться из дому, чтобы развеяться.
Мне хотелось узнать о ее впечатлениях от дома Мэнсики, куда они с Мариэ ездили в прошлое воскресенье. Каким ей показался роскошный особняк? Что она думает о его хозяине? Но сама она об этом не заговаривала, и я посчитал, что интересоваться будет неприлично.
И в тот день Сёко Акигава оделась со вкусом. Обычные люди так не наряжаются, чтобы заглянуть воскресным утром к соседям. Юбка из верблюжьей шерсти без единой морщинки, элегантная белая блузка из шелка с крупными тесемками. В ворот темного серо-голубого жакета вставлена золотая булавка с драгоценным камнем, который выглядел настоящим бриллиантом. Как мне показалось, все это – слишком уж изысканно для человека, который водит «тоёту приус». Однако это, само собой, не моего ума дело. Начальник отдела рекламы «тоёты», возможно, придерживается иного мнения.
Мариэ Акигава же одета была, как обычно. Уже привычная для меня просторная толстовка, синие джинсы с дырками на коленях. И белые тенниски с почти стертыми пятками – куда грязней, чем ее обычная обувь.
Уже уходя, Мариэ в прихожей тайком от тети подмигнула мне. То было тайное послание, означавшее: «Мы не прощаемся». В ответ я слегка улыбнулся.
Проводив гостей, я вернулся в гостиную, где немного подремал на диване. Аппетита не было, и я решил сегодня не обедать. Спал я крепко и за полчаса никаких снов не видел – на мое счастье. Когда не ведаешь, что творишь во сне, по меньшей мере, страшно, но когда не понимаешь, чем ты при этом станешь, – еще страшнее.
Вторую половину того воскресенья я был пасмурен, как само небо в тот день – тихий, подернутый дымкой, даже без ветра. Немного почитал, немного послушал музыку, немного позанимался на кухне стряпней, но что бы ни делал – никак не мог сосредоточиться на чем-то одном. Все шло к тому, что сам этот день закончится ни так, ни сяк. Что поделать? Я набрал ванну и долго сидел, отмокая в горячей воде. Одно за другим вспоминал длинные фамилии персонажей «Бесов» Достоевского. Припомнил семерых, включая Кириллова. Не знаю, почему, но еще со школы я легко запоминал имена героев из старых русских романов. Пора перечитать «Бесов». Я человек свободный, времени у меня хоть отбавляй. Никаких особых дел нет – чем не идеальные условия для чтения русских романов?
Затем я опять мысленно обратился к Юдзу. Семь месяцев – живот как раз начинает выступать, раздуваясь. Я попробовал представить Юдзу такой. Чем она сейчас занимается? О чем думает? Она счастлива? Конечно же, всего этого знать я не мог.
Может, Масахико Амада и прав: я просто обязан сотворить какую-то нелепость, чтобы доказать, что я – свободный человек, как это делали русские интеллигенты XIX века. Но что? Скажем… провести целый час на дне мрачного глубокого склепа. И тут меня как осенило: разве не этим как раз занимается Мэнсики? Череда его поступков – вряд ли нелепость. Однако, как ни взгляни на это, сколь сдержанно ни выражайся, он был слегка безумен.
Мариэ пришла ко мне в дом в начале пятого. Раздался звонок в прихожей, я открыл дверь – там стояла она. Словно проскользнув через щель, она быстро и ловко оказалась внутри – совсем как обрывок облака. И осторожно осмотрелась по сторонам.
– В доме никого нет.
– Никого, – подтвердил я.
– Вчера кто-то приходил.
Это был вопрос.
– Да, ко мне приезжал с ночевкой товарищ, – пояснил я.
– Мужчина.
– Да. Мужчина. Но откуда ты знаешь, что здесь кто-то был?
– Перед домом стояла черная машина, я раньше ее не видела. Старенькая такая, похожа на коробку.
Старый универсал «вольво», который Масахико Амада в шутку называет «шведской коробкой от бэнто». Машина весьма удобна для перевозки туш северных оленей.
– Ты и вчера сюда приходила.
Мариэ молча кивнула. Кто знает – может, она, когда есть время, по тайной тропе является проверить этот дом? Вообще задолго до моего приезда сюда все эти места были ее игровой площадкой. Можно даже сказать – охотничьим заказником. А потом так вышло, что здесь поселился я. Раз так, она могла встречаться с Томохико Амадой, пока тот здесь жил. Как-нибудь нужно ее об этом расспросить.
Я провел Мариэ в гостиную и посадил на диван, а сам разместился в кресле. Спросил, что принести ей попить? Она ответила, что ничего не нужно.
– Приезжал с ночевкой мой однокашник, мы вместе учились в институте, – сообщил я.
– Вы с ним дружите?
– Думаю, да, – ответил я. – Пожалуй, он – единственный, кого я могу назвать своим другом.
Пусть его коллега спит с моей женой, пусть Масахико их познакомил, пусть, зная об этом, он не говорил мне правду, пусть это привело к моему разводу. Мы настолько дружны, что все это особо не бросает тень на нашу с ним дружбу. Я не погрешу против истины, если назову его своим другом.
– А у тебя есть друзья? – спросил я.
Мариэ на этот вопрос не ответила. Не пошевелив даже бровью, сделала вид, будто ничего не слышала. Видно, я зря спросил.
– А господин Мэн Си Ки вам не друг, – сказала она. Без вопросительной интонации, но то был чистой воды вопрос. Она спрашивает: «А господин Мэнсики вам разве не друг?»
Я ответил:
– Помнится, я уже говорил, что не настолько хорошо знаю господина Мэнсики, чтобы мог считать его своим другом. Мы познакомились, когда я переехал сюда, а с тех пор не прошло и полугода. Чтобы люди стали друзьями, требуется время. Разумеется, господин Мэнсики – личность весьма незаурядная.
– Незаурядная?
– Как бы объяснить? Мне кажется, его индивидуальность немного отличается от той, какая бывает у обычных людей. А может, и не совсем немного… Его не так-то просто понять.
– Индивидуальность…
– Ну, в общем, те характерные черты, которые делают из человека особую личность.
Мариэ некоторое время пристально смотрела мне в глаза – будто осторожно подбирала слова, которые должна была произнести.
– С террасы дома этого человека виден мой дом.
Я, чуть помедлив, ответил:
– Да, по рельефу получается, что он прямо напротив. Но из его дома также четко виден и этот дом, не только твой.
– Однако я думаю, он смотрит на мой.
– Что значит – смотрит?
– Под кожухом, чтобы не бросался в глаза, на террасе его дома стоял большой бинокль. На треноге. В этот бинокль наверняка прекрасно видно, что происходит у нас в доме.
Эта девочка раскусила Мэнсики, подумал я. Она внимательна, наблюдательна. Ничто важное не ускользнет от ее взгляда.
– Ты хочешь сказать, господин Мэнсики через эту штуку наблюдает за твоим домом?
Мариэ скупо кивнула. Я глубоко вдохнул, выдохнул и произнес:
– Но ведь это лишь твое предположение? Допустим, стоит на террасе мощный бинокль. Это же не значит, будто он там – для того, чтобы подглядывать за твоим домом. Скорее всего – смотреть на Луну или звезды.
Мариэ даже не шелохнулась.
– У меня возникло ощущение, будто за мной постоянно наблюдают. С некоторых пор. Кто и откуда, я не знала. Но теперь знаю. Шпионит наверняка этот человек.
Я еще раз сделал медленный вдох. Предположение Мариэ – верное. За ее домом изо дня в день через окуляры мощного военного бинокля наблюдал не кто иной, как Мэнсики. Но насколько я знал… нет, я не собираюсь его оправдывать – он подглядывал не из дурных намерений. Он просто хотел видеть эту девочку. Возможно, свою родную дочь. Красивую тринадцатилетнюю девочку. И ради этого – похоже, только ради этого – он завладел этим особняком прямо напротив, по другую сторону лощины. Прямо-таки выгнал жившую там семью, причем, похоже, – не самым гуманным способом. Только сообщать обо всем этом Мариэ мне не следовало.
– Допустим, ты права, – сказал я. – Тогда с какой такой целью ему шпионить за твоим домом?
– Не знаю. Быть может, в нем проснулся интерес к моей тете?






