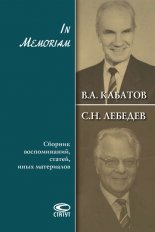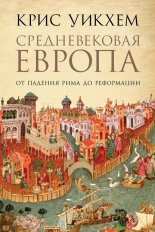В тихом городке у моря Метлицкая Мария

Говорила шепотом:
– Выйти не могу, очень занята, все дома. Извини! Давай завтра, а? После учебы. Ты можешь подъехать к училищу?
Он, конечно, согласился. Но разочарование и обиду скрыть не смог: как же так? Он, дурак, торчал здесь весь вечер, весь битый день, а она не может выйти хотя бы на десять минут? Странно, ей-богу. Ну ладно, до завтра он доживет. А там поглядим – посмотрим. В конце концов, это он – вольная птица, никто за ним не стоит, не перед кем оправдываться и отчитываться. А у нее семья. И, видимо, куча родственников. Взять хотя бы эту старуху с манерами, сразу понятно – та еще штучка.
Так началась их любовь. Они почти не расставались – максимум на день или два. И в эти два он сходил с ума от тоски по ней. Жить без нее стало невозможно, немыслимо.
К Новому году объявился Митрофаныч, как всегда без предупреждения. Поздно вечером скрипнула входная дверь, и на пороге нарисовался вечно отсутствующий сосед в полевой робе и штанах цвета хаки, высоких, по колено, резиновых сапогах и, конечно же, с бородой по колено, как шутила Нинка.
Она выскочила из комнаты в чем была – в стареньком ветхом штапельном халатике. Увидев соседа, ойкнула и проскользнула к себе. А минут через десять из комнаты не вышла – выплыла важная Нинка, с высоким начесом, с блестящей заколкой в волосах, полыхающей фальшивыми бриллиантами, с густыми синими тенями на припухлых веках и с яркой малиновой помадой. Ну и конечно, в парадном шелковом платье и на каблуках.
– Зря ты так, – шепнул ей Иван, – слишком уж как-то.
Та махнула рукой.
Сели на кухне, Нинка хлопотала, со стуком и матюгами гремела тарелками, сокрушалась, что в доме ничего нет, мимоходом оправляла прическу и платье, пару раз сбегала к себе «освежиться», и по квартире поплыл удушливый запах ее духов.
Митрофаныч фыркал и рычал в ванной.
Угощение было нехитрым, но оголодавший сосед ел жадно и громко причмокивал. Выпили и поллитровку – конечно же, из Нинкиных заначек.
Митрофаныч вздыхал по поводу смерти деда, сочувствовал Ивану и рассказывал про последнюю экспедицию.
Нинка вдруг оживилась и спросила, нельзя ли ее в следующий раз пристроить поварихой.
Сосед удивился:
– Ты – и в тайгу?
Нинка заверила, что да, мечтала всю жизнь: воздух, природа… Да все не складывалось.
Иван усмехался:
– Ага, природа! А вместе с природой тучи гнуса, мошки и комары.
На следующий день сосед отправился в ЖЭК отмечаться и вернулся страшно возбужденный, с горящими глазами и трясущимися руками. Вызвал всех на кухню и объявил, что в жилищной конторе ему сообщили, что дом их будут ломать. Когда? Да в ближайшее время! Так что готовьтесь к переезду, будущие новоселы! Получите отдельные квартиры. Вот вам подарок от советского государства.
Все сидели обескураженные, растерянные: как так? Да еще так скоро. Нет, конечно, отдельные квартиры все ждали, точнее – надеялись их получить. Слухи ходили давно – так давно, что верилось в это с трудом.
Как-только проскакивал очередной слух, скорее слушок, короткий и невнятный, как отдаленный пароходный гудок, все оживлялись и принимались горячо это дело обсуждать. Но потом все стихало, от слухов не оставалось и следа, и все понемногу забывали волнующую тему – жизнь продолжала течь по привычному руслу.
Конечно, молодые не скрывали, что хотят поскорее расстаться с соседями. А вот старики не особенно радовались переезду. На Арбате прошла вся их жизнь, все здесь понятно, знакомо и близко – булочная аккурат после угловой аптеки, «Диета», знаменитый магазин «Консервы», где Иван любил пить томатный сок. Дед, кстати, всегда пил яблочный. Все знали друг друга – и покупатели, и продавцы. И знали все друг про друга. Арбатские жители считали себя привилегированным классом, московской аристократией – да, собственно, отчасти так и было. В семидесятые еще были живы арбатские старушки, точнее – дамы, старушками называть их было неловко. Аккуратно одетые, в габардиновых плащах и слегка потертых велюровых или фетровых шляпках, непременно в перчатках: зимой и осенью в теплых, а летом в полотняных или кружевных, пожелтевших и аккуратно подштопанных. На сморщенной шее – легкий платочек. Передвигались они осторожно, с опаской обходя вздыбившийся, растрескавшийся асфальт или глубокие лужи. В руках обычно были авоськи, где болтались бутылка кефира с крышечкой из зеленой фольги и батон белого хлеба. Иногда пара апельсинов или три яблока – как повезет. После них оставался сладкий и назойливый запах «Красной Москвы». Старушки сидели в сквере, подставляя солнцу сморщенные, дряблые шеи, артритные, скрюченные руки и потемневшие от старости лица. Часто дремали. Кормили свежей французской булкой голубей, беседовали друг с другом. Но никогда – Иван был в этом уверен – не жаловались.
Бабка на лавочки в сквере никогда не присаживалась и этих старушек презирала, говорила о них с долей пренебрежения: «Бездельницы! Какие у них дела! Они же бессемейные! Это у меня стирка, готовка, то достань, это. А у этих? Ни забот, ни хлопот». Странно – одиноких старушек она не жалела, а вот выпивоху Нинку…
Да, старушки покидать Арбат не спешили и более того – боялись до дрожи. А молодежь ликовала – неужели? Неужели они дождутся отдельных квартир?
Улица бурлила, пересказывая неподтвержденные слухи и сплетни – какой дом сломают первым? Где дадут новое жилье? Конечно, в новостройках, а где же еще? А это означало, что на выселках, на краю Москвы, где гуляют дующие с Кольцевой стылые ветры, а зимой наметаются, вздыбливаются, как мамонты, огромные, в человеческий рост, сугробы. Короче, не дай бог, как говорится.
Иван был растерян – нет, с одной стороны, конечно же, здорово! Сам себе хозяин, можно кого угодно позвать, пригласить. Не нужно убирать по графику места общего пользования, не надо слушать Нинкины стенания и рассказы о большой любви к Митрофанычу, терпеть ее назойливую заботу. Но все-таки щемило. В этой квартире прошло его детство, здесь жили бабка и дед, здесь он пошел в сад и в школу. Да и вообще, здесь вся его жизнь, он знает здесь все, каждый выступ на домах, каждую трещинку, каждую кочку и каждое дерево.
Рыдала, как ни странно, и Нинка, чем, надо сказать, удивила Ивана. Она всегда говорила, что личная жизнь ее не устроилась только из-за соседей – глупость, конечно. Но вправду, бабка не давала ей привести в дом очередного сожителя: сначала распишись, как порядочная, а потом уж законного и приводи. Да, бабка была той еще штучкой.
Сломали их, как ни странно, быстро – к майским праздникам вручили смотровые: езжайте, любуйтесь!
Вариантов было немного – «Бабушкинская» и «Беляево». Иван съездил и туда и туда и выбрал «Беляево» – до центра оказалось на десять минут ближе. Квартиру открывала и показывала работница местного ЖЭКа.
Иван осторожно вошел. Крошечная, метр на метр, прихожая, из нее две двери – на кухню и в комнату. Комната была вполне приличной, семнадцатиметровой. Правда, после арбатской, с высокими потолками, ему показалось, что потолок вот-вот коснется головы – только вытяни шею и привстань на носки. Что так и было – с его-то ростом. А кухня была – восемь метров, с окном на строящийся детсад. Подумал, что будет шумно – третий этаж. Ну и ладно – в конце концов, он не старик, что ему шум?
Поскрипывала новенькая, блестящая и еще пахнувшая лаком паркетная доска, белели ванна и раковина, сверкали никелем краны, и в целом все было отлично.
Переехал Иван через пару недель – вещей немного, но все же. С Арбата забрал все – и бабкину этажерку, и шифоньер, и круглый обеденный стол, и венские стулья. И лампу, ту, что висела над столом: белый матовый «молочный» центральный плафон и три маленьких синих по кругу.
Разбирая старые фотографии, обнаружил длинный конверт. Заглянул – там лежала одна фотография, твердая, коричнево-бежевая сепия с надписью вязью в углу «Алексей Кротов, 1919 год, ателье Напельбаума». На него смотрел молодой серьезный юнкер с узенькой полоской усиков над пухлой губой. Понял сразу – тот самый несчастный парнишка, бабкина первая любовь.
Долго вертел в руке фотографию, потом решительно убрал ее обратно в конверт – кто ему этот Алексей Кротов? Никто. Зачем ему его фотография? Низачем. Чужой, давно исчезнувший человек. Но выбросить не осмелился – очередная человеческая жизнь. Сунул конверт в семейный альбом и почему-то подумал, что этот Алексей Кротов, наверное, его ровесник. А как звала его бабка? Тогда – не бабка, конечно, а девочка Маруся с удивленными и распахнутыми глазами. Наверное, Лешенькой?
С переездом помогали одногруппники – вещи закидывали в грузовик с открытым верхом с шутками и прибаутками. Так же и ехали – с песнями и громким смехом. Занесли вещи в квартиру и обалдели: «Ну Ванька! Ты теперь жених хоть куда! Будет куда девок водить, что уж тут! А ключики дашь? Ну, если что?» Иван, конечно, пообещал. И понял, что ребята ему завидуют – как же, обладатель отдельной квартиры. Никто об этом и мечтать не мог. А они все с родителями маются – то не так, это не эдак.
«Дураки, – подумал он, – какие же вы дураки! Если б вы знали, что такое, когда никого. Никого не ждешь вечером, не с кем попить чаю с утра. Не с кем поговорить. Нашли чему позавидовать! Тому, что человек одинок?»
В первую ночь спал плохо – оно и понятно, новое место. Все было чужим, незнакомым, даже по-другому пахло. Под утро заснул со своим медведем, старым, потертым медведиком Димкой, из самого-самого детства. Стыдно, что и говорить, здоровый мужик. Хорошо, никто не видит. Но прижал к себе Димку, унюхал родимый запах Староконюшенного и успокоился. Уснул.
Конечно, потом кое-как прибрался, расставил мебель, и комната понемногу перестала быть чужой. Нет, родной пока не стала, но он стал к ней привыкать.
Нинка и Митрофаныч, кстати, согласились на «Бабушкинскую»: у соседа в Медведкове жила родная сестра, а Нинка – вот дура! – поперлась за ним. Объяснение было такое:
– Митрофаныч обещал меня не бросать. Ну и буду ему подсоблять – супчику наварю и снесу, котлеток сварганю.
Иван рассмеялся:
– Ага, все хочешь охомутать! На Арбате не вышло – здесь решила попробовать?
– Дурак ты, – кокетливо отозвалась Нинка. – На кой черт мне сдался твой геолог, старый он хрен? Раньше был нужен, а счас… Нет, Ваня. Я на покой хочу. Продышаться, глотнуть свежего воздуха. На природе пожить – там зелено так! Да и у меня первый этаж – под окном липы цветут! Запах, Вань, лучше духов. Без людей, в тишине хочу. Ну ты понял! Оглянуться хочу по сторонам – может, чего хорошего и увижу? А что я видела в жизни? Да дерьмо одно, сам знаешь. А к соседу я клинья не подбиваю – знаю, что бесполезно. Бирюк он, закоренелый холостяк. Семья ему не нужна. К нормальным людям хочу. Может, возьмет меня в экспедицию? Упрошу? Вот и обхаживаю я соседа – не как мужика, а как начальника.
«Ага, как же, – подумал Иван, – так я тебе и поверил!»
И еще – как оказалось, Нинка Сумалеева, неряха, поддавуха и простая хорошая русская баба, оказалась единственным близким ему человеком.
Нет, не так – у него была Катя! Конечно, Катя. Его Катя. Его любимая. Но с ней все было как-то непонятно и странно.
В гости Катя Ивана не приглашала. Почему? Странно. Все-таки там ее родители, семья. Ведь Катя сочувствовала ему, даже жалела. И он отчего-то боялся ее пригласить к себе. Казалось бы, своя квартира, а робел. Понимал, что, окажись они наедине, скорее всего, что-то случится.
А может, боялся себя?
Они все так же шатались по улицам, ходили в кино, целовались в подъездах и на скамейках в скверах. Все было хорошо. Вроде бы хорошо. Но Иван чувствовал: что-то не так, Катя что-то скрывает. И скрывает что-то важное, очень важное. И очень секретное.
Иногда она замыкалась, уходила в себя, и так не болтливая, становилась еще более молчаливой и печальной. Нет, она по-прежнему ценила юмор и понимала шутку, любила анекдоты, быстро реагировала на смешное или необычное, и сама была остра на язык. Но почему она часто грустила? Она не рассказывала ему о себе, о своем детстве. Или говорила об этом скупо и коротко: «А что рассказывать? У меня все обычно: мама, папа, бабуля. Двухкомнатная квартира. Родители – инженеры, самые обычные, рядовые. И все у нас обычно – как у всех».
А Ивану было про нее интересно все. Он мечтал посмотреть ее детские фотографии – какой она была? Наверное, забавной: косички, бантики, веснушки. Какая у нее комната? Что в ней? Какие книги на полке? Что висит на стене? Какие пластинки лежат у проигрывателя?
Однажды решился и пригласил Катю к себе. И, как ни странно, согласилась она тут же, как будто ждала.
Было воскресенье, поздний ноябрь, за окном без остановки лил дождь, но в квартире было тепло и уютно. Он сбегал в булочную, купил торт и конфеты. Катя пришла вовремя, она вообще не любила опаздывать. Прошлась по квартире, отметила, что у него очень уютно и этот уют создают старые вещи – этажерка, деревянный шифоньер, люстра с молочным плафоном, кружевная скатерть на столе и, конечно, книги.
Иван нервничал, суетился, бегал из комнаты в кухню, заваривал чай и заглядывал ей в глаза – все ли нормально? Не жалеет о том, что пришла?
Долго пили чай, и дождь за окном совсем обезумел – набирал силу, ожесточенно колотил по жестяному подоконнику и заканчиваться не собирался. Потом совсем потемнело, небо, казалось, опустилось почти до земли, загрохотал гром и засверкали зарницы. Сразу резко похолодало, и он прикрыл форточку. Потом подошел к ней и осторожно, но крепко обнял ее. Она не вырвалась, прижалась сильнее, уткнувшись носом в его подмышку.
Он осторожно поднял ее со стула и повел в комнату. Она села на кровать и закрыла глаза. Дрожащими, холодными пальцами, сгорая от страха и ужаса, он медленно расстегивал пуговицы на ее платье. Она чуть качнулась, чуть отпрянула, но глаз не открыла. Только еле слышно прошептала:
– Не надо, Ваня.
Ему показалось, что это прозвучало не утверждением, а скорее сомнением, и он, собрав последние силы, хрипло, но уверенно ответил:
– Надо. Не бойся. Ничего не бойся, слышишь? Все будет хорошо.
Она вздрогнула, чуть скривилась, но все же кивнула, смирившись. Сам он был не очень уверен, что будет хорошо. Но попытался отбросить сомнения и снял рубаху.
Катя лежала на спине и глаз не открывала. Он осторожно, боясь ее коснуться, лег рядом. Но даже так, на расстоянии в десять, нет, в пять сантиметров он чувствовал, как она дрожит. Как дрожит он. Как дрожат они оба.
После всего, что произошло стремительно, с отчаянной торопливостью, подстегиваемой явными, плохо скрываемыми страхом, отчаянием и стыдом за собственную неумелость, он лежал молча, боясь пошевелиться, неотрывно глядя в потолок. Катя лежала отвернувшись к стене и тоже молчала.
Он чувствовал, что это невыносимое молчание следует прервать, и сделать это должен он и только он, потому что мужчина.
Он провел рукой по ее влажной спине, дотронулся до тонкой, беззащитной шеи, и она затрепетала, как птица, пойманная в силки, и резко отодвинулась от него, дернулась от его прикосновения, почти вжалась в стенку и вытянулась в струну.
Он резко встал с кровати, натянул трусы и прошлепал на кухню – невыносимо хотелось пить. Пил он долго, и возвращаться в комнату ему совсем не хотелось. А может быть, было просто неловко.
Когда он вошел в комнату, Катя уже была одета и, нагнувшись, застегивала молнию на высоком ботинке.
– Уходишь? – дрогнувшим голосом спросил он.
Она подняла голову, посмотрела на него каким-то новым, очень взрослым, женским взглядом и нехорошо усмехнулась.
– Ага. Прости, тороплюсь.
Она прошла в прихожую, открыла входную дверь и, оглянувшись, небрежно махнула ему:
– Ну, пока?
Он рванулся к ней, прижал к себе сильно, почти смял, чувствуя, как напряглись ее мышцы, закаменела спина и откинулась голова.
– Куда ты, куда? – торопливо бормотал Иван. – Объясни, что случилось? Чем я обидел тебя? Прости, честно – не понимаю! Нет, ты объясни! Это – нормально, мы же с тобой близкие люди! И я так люблю тебя, слышишь?
Не без усилий Катя выпросталась из его объятий, отстранилась как можно дальше, насколько позволили размеры прихожей, и снова внимательно, словно оценивая, посмотрела на него.
– Ничего не случилось, Ваня, – устало сказала она. – Но… Не нужно все это было… Ну, делать… Совсем ни к чему, понимаешь?
– Мы поторопились? – Он обрадовался ее объяснению. – Ты считаешь, что мы поторопились? Да какая разница – сегодня, завтра? Через два месяца? Я же люблю тебя! А ты… Ты, надеюсь, тоже. О чем жалеть, Кать? Это же нормальный ход событий, обычная история. Разве не так?
Она молчала, разглядывая на обоях невнятные, размытые, дурацкие желтые цветы. Наконец отозвалась:
– Угу. Нормальный ход событий, ты прав. Обычная история – что тут такого? Только не надо было, понимаешь? Никому – ни мне, ни тебе!
Катя резко дернула дверь, которую он придерживал, и выскочила на лестничную площадку. Иван стоял в полной растерянности, в ступоре, не в силах сдвинуться с места. Голые ноги озябли и словно примерзли к полу. В голове мелькнуло – надо броситься вслед за ней, надо догнать, снова обнять, зацеловать, нашептать ей кучу всего, самых значимых, самых искренних и самых заветных и нежных слов, чтобы она не сомневалась. В нем не сомневалась, в себе, чтобы не корила себя и не мучилась.
Но уже давно хлопнула дверь подъезда, давно растаяли ее торопливые и легкие шаги, пропал стук ее каблуков, а он все стоял, словно приклеенный.
Ночью он маялся, мучительно копался в себе, искал причины ее обиды, выуживал свою вину, обижался на нее, мучился, страдал, хотел набрать ее номер, но, глядя на будильник, стоящий на тумбочке и тикавший невыносимо равномерно и громко, понимал, что звонить невозможно – поздно. В доме родители и сварливая бабка.
В три часа ночи налил в стакан португальского портвейна, оставшегося после бурных приятельских посиделок, выпил одним махом стакан, закашлялся, сморщился – сладко, противно, просто отвратительно. Но минут через пять стало полегче, чуть-чуть отпустило, и он, упав на кровать, закрыл глаза. Ладно, поживем – увидим! Как говаривал дед, поглядим – посмотрим. Но на душе было по-прежнему муторно.
Он позвонил ей на следующий день. Трубку взяла скрипучая старуха.
Как обычно, допрос:
– Кати нет. А кто ее спрашивает и по какому поводу?
Он зло швырнул трубку, ничего не сказав. Пусть думают что хотят! Ну, в конце концов, это невыносимо. Не он хам – она, эта бабка! Разве позволительно устраивать допрос с пристрастием? Катя взрослый человек, он тоже! О каком воспитании, о какой культуре здесь идет речь?
День подождал – звонка от нее не было. Ну и не выдержал, конечно, – назавтра отправился к училищу, на Ленинский, караулить. Топтался в садике перед училищем, прождал недолго, около получаса, и наконец увидел Катю. Она спускалась по ступенькам, жмурясь от неожиданного ноябрьского солнца, прикрывая ладонью глаза. На ней были светлое пальто с широким кушаком и легкий синий шарф. Зауженное в талии пальто подчеркивало ее хрупкость и тонкую талию, и синий шарф ей очень шел, к темным волосам и голубым глазам.
– Катя! Я здесь! – выкрикнул он и смутился, закашлялся. Крик получился тонким, петушиным, смешным и нелепым.
Она увидела его, нахмурилась и застыла на месте, раздумывая, что ей делать. Оглянулась по сторонам, словно ища ответ, и наконец медленно и неуверенно пошла в его сторону.
Иван чувствовал, как страшно он по ней соскучился, как рад ее видеть. Не просто рад – счастлив.
Катя выглядела усталой и бледной, и он с радостью подумал, что ей, наверное, было тоже нелегко и тоскливо.
– Пошли? – спросила она.
Он кивнул. Шли молча, через несколько минут он осмелился взять ее за руку – холодную и какую-то безжизненную. Руку она не выдернула, только вздрогнула и чуть сжала его ладонь.
Дошли до Нескучного, свернули в поредевший лес, и тут же дыхнуло холодом и близкой зимой. Они остановились под почти облетевшей липой, и Иван наконец обнял и поцеловал Катю. Он заговорил первый, о какой-то ерунде, пустяках: о суровых прогнозах синоптиков, о том, что с осенью пора распрощаться и что впереди похолодание и морозы.
– Как-то не верится, да? – спросил он, чтобы заставить Катю заговорить.
Она молча кивнула.
Потом он затараторил про институт, нес какую-то чушь про институтскую столовую с невозможной едой, про смешного натурщика Саньку, спившегося дипломата, – и такое бывает! Нес что-то еще, а она все молчала. Наконец Иван устал, выдохся, внимательно и тревожно посмотрев на Катю, спросил:
– Что с тобой? Так и будешь молчать? Может, все-таки поговорим?
Она покраснела и отвернулась.
– Все хорошо, Ваня. И дело тут не в тебе, дело во мне и только во мне. И поверь – не нужно это все… Зря мы, короче…
И он взорвался:
– Я ничего не понимаю! Объясни! Всё это пустые и дурацкие фразы: «Не нужно ни мне, ни тебе!» «Зря», «Зачем!». Что за чушь, господи? Что не нужно, Катя? Что – зря? Если люди любят друг друга, разве может быть зря? Ну и в конце концов – мы уже не дети!
Она стояла, опустив, как провинившаяся школьница у доски, голову и ковыряла носком сапога грязноватый мокрый песок.
– Мы уезжаем, Ваня. Совсем уезжаем. Вот и все объяснение, – тихо, но твердо сказала она.
– В смысле? – не понял он. – Куда уезжаете? И кто это «мы»?
– В Америку, Ваня, – почти неслышно ответила Катя. – В Америку. И навсегда. Мы эми-гри-ру-ем, – по складам объяснила она ему как маленькому. – Мы евреи, и нам разрешили. На историческую родину – смешно, да? Исторической родиной они называют Израиль. Но это так, для проформы. Какая родина, господи? Мы здесь родились, здесь у нас всё! Мы оформляемся в Израиль, а едем в Америку. Жизнь там попроще и получше. Да и родителям легче будет устроиться. Ну и бабуля… – Катя вздохнула. – Здоровье у нее плохое, понимаешь? Сердце. Нужна операция. А здесь, – Катя снова вздохнула, – здесь ей не помогут.
– Так ты еврейка? – пробормотал он.
Катя рассмеялась:
– Ты что, серьезно, Вань? Или шутишь? А моя фамилия Гирштейн тебе ни о чем не говорит?
– Да я как-то не думал об этом. Да и зачем? Какая разница? Не понимаю.
Катя посмотрела на него с интересом, молча провела рукой по его волосам.
Молчали долго – оба не понимали, что сказать. Нарушил молчание Иван. С деланым весельем, с натужной, дурашливой улыбкой уточнил:
– В общем, замуж за меня ты не пойдешь, я правильно понял?
Катя подняла на него удивленные глаза.
– Ну а в кино? – продолжал «веселиться» он. – В кино-то хотя бы?
И тут она улыбнулась.
– В кино пойду.
Но улыбка получилась у нее вымученная. Не улыбка – предсмертная застывшая маска, с мертвыми, пустыми глазами, которых он испугался.
– Ну и на том спасибо, – сказал он, чтобы хоть что-то сказать. А сам лихорадочно думал: «Да глупости все, ерунда. Рассосется! Подумаешь, ехать они решили! Наверняка передумают. Как представят себе переезд, незнакомую страну – точно передумают, испугаются! Катя как-то обмолвилась, что ее родители – типичная советская интеллигенция – робкие, смирные, не способные за себя постоять, не умеющие дружить с нужными людьми. Особенно папа. И эти собрались за границу? Ха-ха! Точно, рассосется». Он постарался поскорее выкинуть все это из головы. Главное – Катя, их любовь. Главное – что Катя его простила. И самое главное, что она его любит. Это он знает, чувствует. И что думать о чепухе, когда вокруг столько хорошего?
Нет, понятно, что в их тихой семье командует бабка, та самая скрипучая старуха с плохим воспитанием – чека, а не бабка, ну до всего докопается! А кто будет слушать старуху? Вот-вот. К тому же здесь у них все имеется – двухкомнатная квартира, старенький «москвичонок», скрипит еще, между прочим, и, пыхтя и кряхтя, все же довозит семейство до дачи. Да, есть еще и дача – точнее, дачка, как называет ее Катя, шесть соток, щитовой домик в три комнаты, пара яблонь и три куста смородины, посаженные по бабкиному настоянию – та обожает смородиновое варенье. А Катиным родителям ничего этого не надо – их вполне устраивает заросшая лужайка перед домиком, полная желтых радостных одуванчиков, и огромные лопухи у забора – а что, очень даже красиво! И шашлыки по выходным – конечно же, с друзьями!
В конце концов, работают они по специальности, во вполне приличных местах, кажется, где-то в Моспроекте, и на две их зарплаты вполне можно жить.
Нет, Иван, конечно, слышал об эмиграции, что люди поднимаются и уезжают. Вспомнил соседей по Староконюшенному – Броню и Валика, молодоженов, веселых и спортивных ребят. Уехали. И чего им здесь не сиделось? Но это были малознакомые люди, а Катя… Его Катя? Нет, невозможно. Разве ей плохо здесь, в этом родном, прекрасном городе? Разве ей плохо с ним? И разве впереди не ждет их большая счастливая жизнь?
И снова две недели шатались по городу, и снова Иван не решался пригласить Катю к себе – зачем настаивать?
Разговор начала сама Катя – было видно, что ей неловко и даже стыдно, но, надев на лицо маску опытности и уверенности, отведя глаза, важно произнесла:
– Слушай, Иван! Тебе не кажется, что ты давно меня в гости не приглашал? Как-то неприлично даже. У тебя там, часом, нет новой жилички?
Он опешил, но тут же, взяв себя в руки, быстро забормотал оправдания.
Смущены были оба. И оба, конечно, понимали, что, как только они перешагнут порог его квартиры, случится неизбежное. По-другому никак. Ждали ли они этого неизбежного? Иван ждал, конечно, ждал! Но еще больше – боялся. Еле сдержался, чтобы не предложить ей рвануть прямо сейчас. Пригласил на следующий день – так ему показалось солиднее. К тому же требовались уборка и хоть какая-то кулинарная подготовка. Словом, обставить все это захотелось красиво – не наспех, без всякой небрежности. Уважительно.
Квартиру вылизал до блеска, отстоял полтора часа за пирожными в «Диете» на Ленинском, там же оторвал кусок жирноватой, но сочной бледно-розовой ветчины и кусок твердого, матового, как кусок пластмассы, «швейцарского» сыра. С бутылкой вина было проще – в тот год прилавки заполонили пузатые бутылки с португальским портвейном. Дорогим, но ароматным и сладким.
На стол легла бабкина парадная скатерть – давно пожелтевшая, кое-где с подштопанным кружевом, но по-прежнему нарядная, торжественная. Положил и наследные столовые приборы из серебра, те самые, с костяными ручками. Подумав, со вздохом аккуратно поставил на стол два заветных розовых бокала – те самые, мальцевские, восемнадцатый век, мысленно попросив у бабки за это прощения.
На Кате было густо-синее, почти черное, платье с белым атласным узким воротником. Глаза у нее были печальные, но и отчаянные, даже лихие. И на лице было написано, что ей на все наплевать!
Ее природная бледность, молочно-сметанная кожа, не умеющая загорать, стала еще белее, еще прозрачнее, еще мраморнее.
Иван опять, как и в предыдущий раз, бестолково суетился, долго мыл в ванной руки и слышал, как колотится его сердце.
Когда он вошел в комнату, Катя, совершенно голая, стояла у окна.
Верхний свет был потушен, в углу, у кровати, мутно мерцал старый ночник под голубым колпачком, прожженный с правого боку. На улице уже были густые ноябрьские сумерки, а Катя стояла к нему спиной, чуть повернув голову, и он видел ее тонкий профиль, подсвеченный желтым уличным фонарем.
Он вздрогнул от неожиданности, от ее отчаянной смелости, от того, что она, именно она, разрешила эту дурацкую ситуацию, пока он бегал, как бобик, болтал ерунду, суетливо и ненужно хлопотал по хозяйству. Катя оказалась смелее и, конечно, умнее его.
Женщина.
И было все совсем по-другому. Без торопливости, поспешности, неловкости. Даже смущения не было. Не было двух робких, насмерть перепуганных детей, боящихся не то что другого, самих себя. Была огромная, невыносимая, щемящая нежность, которая затопляла, обволакивала, накрывала невесомым покрывалом, окутывала и оберегала – от страха, от неумения, от нетерпения, от неудач.
Впрочем, и неумения не было. Куда оно подевалось? Иван был уверен, что делает все абсолютно правильно, он чувствовал себя многоопытным, умелым и взрослым мужчиной. Да и Катя не робела: была тактична, умна, осторожна, они совпадали каждой клеточкой, каждым изгибом, каждой впадиной и словно были созданы друг для друга, будто умелый и умный скульптор подогнал их друг под друга, учтя их особенности, вкусы и желания.
Просто это была любовь – вот что это было.
В этот вечер они стали мужчиной и женщиной. Это случилось.
Они забыли и про часы. Да что там про часы – они забыли про весь мир, про все то, что было за хлипкой, почти картонной, дверью его квартиры, за мутноватым и плохо промытым окном. Они были одни на всем белом свете. И ничего, ничего, кроме друг друга, кроме горячих и вспухших губ, кроме дрожавших от нежности и напряжения рук, которые почти сводило от усердий, кроме переплетенных, уставших от судорог ног, гулко, в унисон, одним торопливым и слитным боем, бьющихся сердец. Ничего не было на всем этом свете – ничего и никого.
Потом в изнеможении, с пересохшими от жажды губами, они смотрели в потолок, по которому медленно проплывали редкие тени от случайных машин, и в эти минуты казалось, что они под водой, на дне моря и узкие полоски колеблющегося света – подводные лианы или неизвестные водоросли, обитающие на морском дне. Они лежали молча, крепко сцепив руки, и ни о чем не думали, потому что просто не было сил.
Конечно, первой очнулась Катя.
– Боже, – воскликнула она. – Ваня! Уже полдвенадцатого! Что же делать?
Соскочив с кровати, она начала метаться по комнате, хватать свои вещи – трусики, лифчик, платье, натягивать на себя, чертыхаясь и не попадая ни ногами, ни руками.
А Иван, как в полусне, не отрываясь, смотрел на нее и любил ее бесконечно. Да так оно и было – полусон. И еще – огромное, безразмерное, опустошительное, какое-то оглушительное, невозможное счастье. Счастье, лишившее его воли. Он смотрел на нее и чувствовал, что снова хочет ее. Вскочил с кровати, обнял, остановил, прижал к себе.
Катя недовольно дернулась, попыталась отстраниться и выкрикнула:
– Иван! Ты, кажется, спятил! Ты вообще понимаешь, что со мной будет? Меня же убьют, а тебе все равно!
Но он чувствовал, что, несмотря на весь ее гнев и пылкую речь, она обмякает в его руках, подтаивает, как мороженое. Но Катя взяла себя в руки и отпихнула его.
– Ваня, Ваня, – забормотала она. – Ну подожди! Подожди, умоляю! Дай я хотя бы им позвоню. Они же там сходят с ума!
– Ты останешься? – хрипло спросил он. – Останешься на ночь?
Она не ответила, подхватила телефон, дернула шнур, подтащила его к двери, вышла в прихожую, закрыла дверь в комнату, и Иван услышал ее тихий, взволнованный голос.
Он не прислушивался – зачем? Подумал – вот сейчас она зайдет в комнату и скажет, что уезжает. Что дома страшный скандал, что ее непременно убьют, что они там действительно еле живы, обзвонили все больницы и морги, думали уже о самом плохом и что она сволочь и гадина, если смогла так поступить. И он начнет спешно натягивать рубашку и брюки, в душе проклиная и ненавидя ее родителей и, скорее всего, своих будущих родственников, а потом они выскочат из подъезда, будут долго пытаться поймать машину, наконец им повезет, и они сговорятся, конечно же, за огромные деньги. Но домчатся быстро – ночная Москва будет почти безлюдна, и они остановятся у ее дома, и Катя попросит не выходить: «Сиди, я тебя умоляю!» Но он ослушается и выйдет, конечно, выйдет, и зайдет с ней в подъезд. А она, не дожидаясь лифта, рванет вверх по лестнице, крикнув ему: «Иди уже наконец».
Но он дождется, пока хлопнет дверь ее квартиры, убедится, что она на месте и ей ничего не угрожает. Медленно, вразвалочку, он спустится по ступенькам и откроет тяжелую подъездную дверь. Глубоко вдохнет холодный ночной воздух и медленно пойдет пешком. О том, что происходит там, в ее квартире, он думать себе запретит.
Словом, сейчас она войдет в комнату, и все закончится вполне предсказуемо.
Иван бросил взгляд на стул, где висела его одежда, привстал с кровати, потянулся за ней, и тут вошла Катя. В темноте он не видел ее глаз – слышал только шаги и дыхание.
– Ты куда-то собрался? – усмехнулась она.
Иван замер от неожиданности.
Катя подошла к нему, села на край кровати и прижалась к нему.
– А мы никуда не спешим, – улыбнулась она. – И впереди у нас целая ночь.
Он вздрогнул, прижал ее к себе и хотел было сказать банальность: «Что ночь – впереди у нас целая жизнь!» Но, по счастью, не успел – она медленно, но крепко и уверенно закрыла его рот поцелуем.
С этого дня все пошло по-другому.
Почти каждый день Катя приезжала к нему и оставалась на ночь. Как она разобралась со своим семейством, он не знал и, честно говоря, знать не хотел. Катя с ним? А что еще надо? Теперь он считал, что у него все есть. У него есть она, он не одинок на этом неласковом свете. Потом уже понял, что это был ее бунт, восстание против решения, не согласованного с ней, против назойливой бабки, с удовольствием портящей жизнь не только своей тихой дочери, но и подросшей внучке. Это был бунт юности, бунт любви и юной плоти.
Они были счастливы, но все-таки счастье это было с привкусом горечи. Об ее отъезде они не говорили вообще.
По вечерам они ходили гулять: недалеко была полуразрушенная бывшая усадьба – дом красного кирпича, заброшенный сад и парк, заросший, густой и лохматый, но сохранивший еще свою тщательно выверенную когда-то архитектурную стройность и правильность. Кое-где остались скамейки, испещренные пошлыми надписями и грязными рисунками. Ему было неловко оттого, что Катя видит всю эту гадость.
Потом они шли домой и принимались готовить незатейливый ужин: пачка пельменей на двоих, или жареная картошка, или макароны с сыром, если удавалось достать сыр, или совсем деликатес – сосиски или сардельки. После ужина пили чай и болтали о жизни. Точнее, трепался Иван – Катя все больше молчала. Она вообще была не из болтливых, его любимая.
Он строил планы – а кто их не строит в семнадцать лет? Он разглагольствовал о семейной жизни, о том, как они поделят обязанности. Катя фыркала и вступала в шутейный спор. Он говорил об их карьере, уговаривал Катю поступать в институт, придумал красивую сказку о городе Дивногорске, увиденном в телепередаче. Он уговаривал ее после окончания учебы уехать туда, где горы и лес, простоватый, честный и неизбалованный народ, где нет суеты и раздражения, хамства и толкотни, где сама природа диктует условия жизни и определяет поведение людей – романтика, а? И это к тому же прекрасная возможность подзаработать – город строится, молодежь с удовольствием едет туда, в том числе и за деньгами. А что тут такого?
– Зачем тебе деньги? – устало спрашивала Катя.
Он возмущался:
– Как это – зачем? На путешествия, например! Так хочется посмотреть мир!
– Какой мир, Ваня? – вздыхала она. – Ну какой мир ты можешь посмотреть? В лучшем случае – Польшу с Болгарией.
– При чем тут заграница? – злился он. – А Камчатка? Сахалин? Карпаты? Армения, Грузия? Что, недостаточно?
Катя молчала, но было видно, что она не разделяет его романтики. А он, воодушевившись, продолжал:
– Накопим на машину и поедем! Нет, ты только представь: раннее утро, солнце в утренней дымке, и мы осторожно ползем по Военно-Грузинской дороге! Останавливаемся в горном селе, покупаем горячий лаваш и молодой сыр на завтрак, рвем с дерева абрикосы. Катька, разве не здорово? А островки в Балтике, под Таллином? Маленькие такие, за полчаса обойдешь: белый песок, тонкие сосны с красными стволами – и мы с тобой. А? Ну или Черное море! Теплое Черное море, Катюха! Хижина на берегу, рыбка, барабулька на палочке над костром, и снова мы с тобой вдвоем. Снова вдвоем, понимаешь? Одни на всем белом свете! Как я хочу жить на море, Катька! А ты? Ты любишь море? Тогда мы уедем туда навсегда!
– Так не бывает, чтобы одни на белом свете. А где все остальные? Ну, например, мои родители?
– В своей Америке, – буркал Иван, и разговор прекращался.
Именно тогда он и начал писать наивные и смешные стихи:
- Игра в счастливую чету в прекрасном доме номер
- восемь,
- Где мы не знали суеты и тихо жили в эту осень.
- Где мы не ведали обид – о них и не подозревали.
- Смеясь, готовили обед
- И чинно под руку гуляли.
Кате стишата, как он их называл, не показывал – стеснялся. Да и вообще понимал: все это – полная глупость. Насчет своих способностей он не обольщался ни на минуту. Так, черкнул по бумаге – рука запросилась. Сам себе удивлялся. Но почему-то писалось, писалось – стишата сыпались как из решета. Чудеса. И еще он ее рисовал – Катя сангиной, Катя темперой. Акварельная Катя и Катя карандашом.
«У нас настоящая полусемейная жизнь», – шутил он, понимая, что настоящую, семейную, он очень ждет и сильно, очень сильно мечтает о ней.
Катя, как ему казалось, относилась к его разговорам о будущем скептически. Впрочем, человеком она была сдержанным и уж точно не фантазеркой. Но и сухой она не была – он это знал как никто. Скорее скрытной, недоверчивой, сомневающейся.
Про планы ее семьи он не спрашивал вообще – просто боялся. Ну и Катя молчала. А раз молчит, надеялся он, значит, планы-то несерьезные. Главное, что все затягивалось, оттягивалось: то скрипучая бабка попадала в больницу, то что-то еще.
Вот и славно, а там поглядим – посмотрим. Главное – выиграть время. Они с Катей поженятся, а кто может что-то приказать взрослым самостоятельным людям? Вот именно, никто.
Раз в три месяца он ездил на Ваганьковское, к своим. Катя ездила с ним. Однажды спросила:
– А твой дед воевал?
Иван кивнул:
– Да, но недолго. Не повезло – почти сразу ранение и мобилизация. Ранение в ногу, дед всю жизнь прихрамывал и плохо спал по ночам – мучили боли. Он вообще считал себя «везунчиком» – арестовали в тридцать девятом, всего-то на полтора года, потом с войны вернулся. Ему многие завидовали, а он страдал – считал, что не исполнил свой долг.
– А мой дед Исаак в сорок третьем пропал без вести – такая формулировка. Был человек и нет – представляешь? Бабушка Сима не верила, что его нет, и ждала его всю жизнь, верила, что он жив. Судьбу свою не устроила. А кавалеров было много, она была очень красивой. Это мамин отец. А дед со стороны папы сгинул в тридцать восьмом по пятьдесят восьмой – ну, ты понял. Это баба Соня не понимала – да многие тогда ничего не понимали. Соня носила передачи – долго, почти два года. А потом ей сказали: «Все, хорош. Передавать больше некому». Что, как – не объяснили. Просто отказались принимать посылки. Все стало понятно в пятьдесят девятом, тогда деда Бориса реабилитировали и дали за него пенсию – кажется, рублей сорок, точно не помню. Цена человеческой жизни и мучительной смерти, да? Вот такие дела… Бабушка Соня вышла замуж во второй раз – поздно, в весьма почтенном возрасте, в шестьдесят первом, когда уже я родилась. И знаешь, прожила счастливую жизнь. Муж ее, Василий Кузьмич, был человеком простым, но очень хорошим! И меня обожал – называл внучечкой. Никого у него не было – вся семья пропала в концлагере.
Замолчали.
– Мама уже чемоданы купила, – тихо сказала Катя. – А папа собирает коробки всякие. Клянчит у грузчиков из магазина.
Значит, все-таки собираются. На душе стало так тошно, что Иван чуть не расплакался. А потом разозлился! Так разозлился, что с усмешкой спросил:
– Собираетесь, значит. Понятно. И каким составом, позволю себе спросить?
– Не знаю, – просто ответила Катя. – И пожалуйста, Ваня, больше не…
Он перебил ее, увидев ее глаза, полные страдания и отчаяния, страха и боли:
– Я понял. Прости.
За что, впрочем, он просил прощения? Сам не понял. И чего именно Катя, интересно, не знает? Когда едут? Или едет ли она? Ладно, поглядим – посмотрим. Спасибо, дед, утешает, ага.
Новый год встречали в компании Катиных друзей – вполне симпатичных, кстати, ребят. Только почему сплошные разговоры об отъезде? Как будто все собираются, что ли? Уточнять Иван не стал – сначала отвлекся на зимнюю сессию, а потом просто забыл.
Но к этому разговору больше не возвращались. Он успокоился – приближалась весна, Катя в мае защищала диплом, про лето они не говорили. С летним отдыхом, каникулами, он готовил сюрприз – договорился с ребятами с четвертого курса, спортсменами и байдарочниками, которые в августе шли в Карелию, что их с Катей возьмут в отряд. Знал, что Катя мечтала пройти по карельским порогам. Иван потихоньку закупал снаряжение, доставал консервы и крупы, купил две штормовки и сапоги – ей и себе. Словом, готовился. Сказать об этом решил после ее выпускных – сейчас пусть не нервничает.
Но, как говорится, расскажи Богу о своих планах… В мае Катя забеременела. Обнаружилось это ранним утром, перед последним экзаменом. Она резко вскочила с постели, пошатнулась, у нее закружилась голова, и она еле удержалась, схватившись за стул. Зажав ладонью рот, бросилась в туалет.
Перепуганный, очумевший со сна Иван услышал утробные звуки – Катю рвало. Она стояла на коленях, обняв унитаз.
Он поднял ее, зареванную, перепуганную насмерть, умыл над раковиной, поморщившись от запаха свежей рвоты, усадил на кухне.