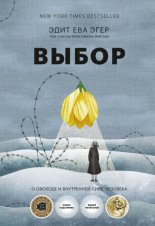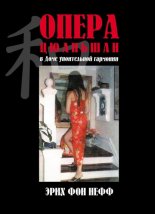Трезориум Акунин Борис


Акунин-Чхартишвили
Трезориум
Текст печатается в авторской редакции, орфографии и пунктуации
© Akunin-Chkhartishvili, 2019
© «Захаров», 2019
* * *
Всякая крякотень

Рэм всё думал о разговоре с пожилым капитаном.
Ночью не спалось. Вышел в тамбур – не покурить, а просто побыть одному. Все-таки здорово устал от того, что много месяцев подряд днем и ночью вокруг полно народу. В эшелоне даже хуже, чем в казарме. Все друг у друга на голове, и никуда не денешься. И ведь это еще не теплушка, а вагон для комсостава, настоящий плацкарт.
Стоял в темноте, наслаждался покоем. Стучали колеса, лязгали вагонные буфера, за черным стеклом ползли редкие огоньки – и никого. Ни голосов, ни сонного сопения, ни храпа.
Но скоро одиночество закончилось. Появился капитан из соседнего отсека. Сильно немолодой, лет сорока. Сел в Бресте, все время помалкивал, а тут заговорил. Оно и понятно. Странно находиться вдвоем в тесном железном ящике, да еще ночью, и не перемолвиться словом.
Сначала капитан расстроился.
– Вы не курите? А я вижу, вышел кто-то. Думал огонька одолжить. Зажигалка у меня чего-то…
Рэм поднес ему спичку. Осветилось мятое лицо с вытянутыми в трубочку губами, блеснули сощуренные глаза.
– А, младшой с верхней боковой. Из вузовцев? – спросил капитан, переходя на «ты». – Товарищи твои – совсем сад-ясли, а ты вроде постарше. Где учился, студент?
Слышать это было приятно, но Рэм с восьмого класса придерживался твердого правила: не изображай из себя то, чем не являешься.
– Нигде пока. Я в прошлом мае закончил десятилетку, и сразу в училище. Война закончится – поступлю. На физико-математический.
Капитан обрадовался:
– Я в техникуме математику преподавал! Основательная наука. Молодец, правильный выбор.
То-то лицо интеллигентное, подумал Рэм. И раз уж попался собеседник, с которым можно нормально поговорить, стал рассказывать, что его больше интересует физика, а именно физика космических полетов, потому что сумма технических знаний человечества уже сейчас делает навигацию в безвоздушном пространстве практически возможной и, когда после войны высвободятся научные кадры, ракеты обязательно полетят на Луну, а может быть и дальше. Главным событием двадцатого века будут не мировые войны, а прорыв человечества в космос. Как же в этом не поучаствовать?
Капитан послушал-послушал, удивленно покачал головой:
– Россия-матушка. Что с ней ни творись, а умненькие мальчики всё воспроизводятся, поколение за поколением. Лупит вас эпоха, начисто выкашивает, а вы снова прорастаете, непонятно откуда. Из литературы, что ли? Пети Ростовы, Володи Козельцовы. Вот по тебе видно, что ты книжек много читал, того же Толстого. Если ты собрался на Луну лететь, на кой тебя в училище понесло? В конце-то войны.
Про Толстого было правдой, Рэм даже удивился. Петя Ростов – ладно, «Войну и мир» в школе проходят, но «Сева стопольские рассказы» были прочитаны только что. Отец в письме посоветовал. Написал, что читал эту книгу в двадцатом году, перед фронтом. Она единственная, хоть сколько-то передающая правду войны. Там прапорщик Козельцов, добровольно отправившийся воевать, говорит: «Все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда умирают за отечество». Капитан, наверно, имел в виду это.
Стало немного обидно. Захотелось ответить по-взрослому. Честно. Показалось, что с этим капитаном можно.
– Я не из какого-то глупого героизма, я по расчету, – сказал Рэм и достал из пачки последнюю папиросу, чтобы подержать солидную паузу, пока раскурится. – … Подумал, исполнится восемнадцать – все равно призовут, рядовым. А после десятилетки берут на ускоренный курс военно-пехотного училища. Во-первых, выйдешь офицером, а во-вторых, это восемь месяцев учебы. Глядишь, война закончится. Прошлым летом, когда немцы всюду драпали, казалось, скоро уже.
– Умненький-то ты умненький, но рассчитал хреново. Сделал большущую ошибку. Может стоить жизни. «Скороварки» для того и заведены, чтобы быстренько сварить картоху в мундире – и на стол.
– Какие скороварки?
Скороварку Рэм видел, когда дневалил на кухне: здоровенный котел с герметичной крышкой, в нем варили крупу на всю роту.
– Так на фронте называют твои ускоренные курсы. Ты в училище фронтовиков много видел?
– Мало. Троих только. И те недоучились.
– Правильно. Потому что дураков нет. Вашего брата зеленого младлея рассовывают в самые гиблые места. Своих, кого знают, берегут, а чужих не жалко – фронтовой закон. Вот увидишь: когда будешь получать назначение, тебе кадровик в глаза смотреть не станет. И живого слова от него ты не услышишь. Потому что младлей из пополнения – скоропортящийся продукт… Эх, парень, парень, устроил ты себе… – Капитан махнул в темноте папиросой – будто прочертил огненную черту. – Надо было спокойно призыва дожидаться. Тебе когда восемнадцать стукнуло?
– 20 января.
– Считай сам. Сейчас не сорок второй, сразу на передовую не послали бы. Сначала в учебку, это месяца три – уже апрель. А в мае война закончится.
– Это откуда известно?
– Говорят, Верховный приказал взять Берлин к Первомаю. Сейчас затишье. Готовятся. Но скоро попрем по всему фронту. Народу поляжет – море. У нас знаешь как? Сказано к 1 мая – всё. Значит, за ценой не постоим. Ты без опыта, в батальоне чужой – сгоришь, как мотылек. Если, конечно, не включишь мозг. Тут как? Чем раньше с этих гиблых рельсов свернешь, тем выше шанс дожить до победы. На армейской распределиловке, на корпусной, даже на дивизионной еще можно съехать. Но докатишься до полка – всё. Оттуда только в ваньки-взводные.
– Что ж, пускай другие на передовую идут? – набычился Рэм. Расчетливость расчетливостью, умирать никому неохота, но как-то оно звучало подловато.
– На фронте либо других жалеть, либо себя. Середины не бывает. Рано или поздно всякому приходится делать этот выбор. Знаешь, что на войне самое главное? Повысить балл выживания.
Капитан заговорил быстрее – видно, сел на любимого конька. Он уже докурил, но возвращаться в вагон не торопился.
– У меня расчислена целая теория, математическая. Ты слушай меня, парень. После спасибо скажешь. В вагоне, где много ушей, я тебе такого говорить не стал бы… Тут много вводных: род войск, должность, участок, фактор личных связей, и так далее, и так далее – всё имеет значение. Я на фронте с марта сорок третьего, и, как видишь, живой. Это мало кому удается – два года продержаться.
Для фронтовика с таким стажем наград у капитана было немного: «звездочка» и «зэ-бэ-зэ».
– Правила у меня старинные: от службы не отказывайся, на службу не напрашивайся. Из-за первого – вон, нашивка за ранение. Слава богу, нетяжелое. А благодаря второму правилу я до сих пор хожу по земле, а не лежу в ней.
Эту присказку капитан, должно быть, произносил не впервые – больно складно она у него проговорилась.
– Теперь объясню про мою систему баллов. Это количество дней – сколько человек на той или иной позиции потенциально, в среднем, продержится до ранения или похоронки в ситуации «Икс». Это период наибольшей опасности. В прежние времена – оборона или окружение. Я в сорок третьем еще застал. Сейчас ситуация «Икс» – это наступление. У командира стрелкового взвода во время наступления знаешь сколько баллов? Полтора. То есть в среднем взводный – подсчитано – воюет полтора дня, и каюк. Либо на носилки, либо вчистую. Половина выбывает в первый же день. Мотаешь на ус?
Рэм кивнул. В аттестате об окончании у него как раз значилось «командир стрелкового взвода».
– Ниже балл только у «прощайродины» – командира расчета сорокопяток. Эти бедолаги редко доживают до второго боя. Один балл. Обрати внимание, что у рядового пехотинца балл-два, то есть повыше, чем у взводного. Потому что тебе подниматься первому, гнать их в атаку… Дальше идут танкисты. Три балла. Тоже хреново. Ладно, не буду тебе всю свою линейку выстраивать, а то долго получится. – Капитан хмыкнул. Ему, кажется, нравилось, что младший лейтенант притих. – Хороший балл, с которым на фронте можно нормально существовать, начинается с пятидесяти. Это как минимум штаб полка. Туда и надо стремиться, если не сумел устроиться в тылу. Но тут нужны очень хорошие знакомства. У меня вот после госпиталя не получилось.
Теоретик вздохнул, но не очень тяжело.
– По моим возможностям, однако, устроился неплохо. Зам командира батальона по хозчасти. Это баллов сорок. До конца войны должно хватить. Если, конечно, не перекинут на «боевку». В наступлении всякое бывает… Ладно, бывай, физик космических полетов. Пойду. Надо поспать.
Он вяло сунул руку, зевнул, ушел.
Рэм, оставшись один, подумал тогда: не дай бог таким стать. Но с утра неприятный ночной разговор всё вертелся в голове, обрастая новыми мыслями – уже не про «баллы» и не про математического капитана. Тот сошел в Лодзи, вместе с половиной ребят из Рэмова выпуска – которые получили назначение на Первый Белорусский. Остальные ехали на Первый Украинский.
По дороге все споры были, кому повезет Берлин брать: маршалу Жукову с востока или маршалу Коневу с юга. Всем, конечно, хотелось лично добить фашистскую гадину в ее логове. Во всяком случае на словах. Рэму-то не особенно. А после капитанова карканья тем более. Поэтому, обнимаясь с Петькой и Витькой, оставшимися в Лодзи, он искренне пожелал им закончить войну в Берлине.
Вошло много новых пассажиров. От Москвы большинство вагонов литерного были заняты вчерашними курсантами вроде Рэма Клобукова, а теперь загрузились фронтовики, в основном после госпиталей. Все с желтыми и красными нашивками за ранения, с боевыми наградами, напористые, шумные – будто десант ворвался. Согнали выпускников, кто занимал нижние полки, на верхотуру.
До отсека, где ехал Рэм, первым добрался старлей в лихо заломленной кубанке, почему-то со связкой велосипедных шин через плечо, и замахал, будто на утят:
– Кряк-кряк отсюда, зелень! Слыхали: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет»? В дорогу, пионеры, в дорогу!
Обернулся, весело заорал:
– Серега! И этот, капитан, как тебя! Давайте сюда, кряк, я плацдарм взял!
Рэму-то что. Он лежал в проходе, на третьей полке, в мирные времена считавшейся багажной. Еще в Москве ее занял, чтоб было хоть какое-то личное пространство. Почитать спокойно или просто в потолок посмотреть, подумать. Хорошо там было, наверху, только жарковато – поверху проходила отопительная труба.
Сейчас, видя, как Леха с Виталиком, собрав манатки, плетутся с обжитого места, Рэм еще раз порадовался своей предусмотрительности. Конечно, не жалко уступить плку боевому командиру, пролившему на фронте свою кровь, но это если сам предложишь, а быть согнанным унизительно.
На всякий случай Рэм в своей берлоге затаился, но вниз, конечно, поглядывал.
Там скоро стало тесно. На всех нижних полках, включая коридорную, расселись офицеры. Составилась компания. Дымили, звенели стаканами со спиртом, закусывали, гоготали.
Чаще всего звучал голос красавца-старлея. Он говорил чудновато, в каждую фразу вставлял странное словечко «кряк» и всякие от него производные. Например, когда у него поинтересовались, на кой ему шины, ответил:
– У меня, кряк, в дивизии влик трофейный – окряковенный красавец, ребята обещали сохранить. Одна беда – шин ни кряка не напасешься, а я, кряк, разжился.
Почти сразу после его спросили, почему он крякает.
– А я перед ранением, кряк, попал в такую кряканую кряковину, что думал, крякец. И дал себе слово: выберусь живой – никогда больше матерного слова не скажу. Ну, в смысле, до конца войны, а то потом чего бояться-то? – прибавил он, малость подумав. – Без мата говорить тяжело. Как жрать без соли. Решил, буду вставлять «кряк». Почему «кряк»? А фамилия моя Уткин. Я, кстати, Георгий, Жора.
И стал ручкаться с теми, с кем еще не успел.
Скоро Рэму надоело прислушиваться к трепу. Никакого осмысленного разговора внизу не происходило. Как кто спирт разбавляет, да чем его лучше закусывать – всякое такое.
Поэтому он отключился, стал думать про свое.
Капитан сказал интересную вещь. Что на войне либо себя жалеть, либо других, а середины не бывает. Пожалуй, альтернатива сформулирована некорректно. Даже неправильно.
Чтобы не свихнуться в свихнувшееся время, когда жизнь может в любой момент оборваться, нужно или вообще никого не жалеть, включая самое себя, или жалеть всех без исключения. Для предельной ясности в поступках. Иначе так и будешь метаться.
Инстинкт самосохранения подсказывает укрутить жалость до нуля. Поставить блок. Вот отец говорит, что врачу на операции ни в коем случае нельзя жалеть пациента. Иначе в самый ответственный момент дрогнет рука. Война – это огромная хирургическая операция. Тут или плакать, или резать. Из тех, кто научился никого не жалеть, и получаются победители: герои войны и те, кто выжил, когда остальные погибли. Пожилой капитан – второго сорта, из выживающих.
Но у меня так не получится, сказал себе Рэм, глядя на бегущие по близкому потолку тени. Я от природы жалостлив, такой дефект личности. Значит, героем мне не стать. А попаду на передовую – навряд ли выживу.
От такой мысли ему сразу стало жалко всех, и в первую очередь себя.
Раз твой естественный инстинкт – жалость, себя не переборешь. Но тогда уж по-честному. Жалеть так жалеть. Всех.
Он решил попробовать. Перевернулся на живот, высунул голову. Чужих людей, кого не знаешь, жалеть легко, если они тебе ничего плохого не сделали. Это не считается.
А вот в соседнем отсеке, тоже на верхней полке, усевшись по-турецки, режутся в «дурака» Дупак с Охримовым. Оба враги.
Дупак – хамло и скотина. Однажды получил в ухо, за дело, и с тех пор смотрит волком. Пожалеть его, однако, нетрудно. У него полипы в носу, все время шмыгает, как маленький. Еще он детдомовский, сирота, пожизненно недокормленный, все время что-то грызет или жует. Опять же в ухо давать было необязательно. Главное, велика доблесть: боксер-разрядник справился с заморышем.
Вот пожалеть Охримова будет трудней. История конфликта тут длиннее и сложнее.
Сказав капитану, что среди курсантов не осталось фронтовиков, Рэм позабыл про Охримова. Просто тот никогда не рассказывает про войну, не любит. Но хлебнул огня с добавкой, это видно. В казарме каждую ночь скрипел зубами, иногда плакал. А днем тихий, слова не вытянешь.
Их тогда, на первом месяце учебы, очень ротный старшина мучил, злющий такой дагестанец, Хамзаев. Все его прямо ненавидели.
Однажды Охримов на переменке подошел. Говорит: «Ты, Клобуков, не такой, как другие. Зря не треплешься, хвост не распускаешь. Давай Хамзаева, суку, кончим». Рэм засмеялся. Давай, сказал, давно пора.
Охримов обрадовался. Говорит: «Он, гад, меня невзлюбил. Нарочно изводит. Ждет, что я сорвусь и харю ему искровяню. Меня тогда из училища в шею. Под трибунал и в штрафбат. А я хочу офицером стать. Железно. Но у меня, Клобуков, терпение кончается. Таких Хамзаевых надо давить, как клопов. Без них мир лучше. Ты не бойся, мы его технично сделаем, никто ничего. Только мне второй нужен, в одиночку аккуратно не получится». И стало понятно, что никакая это не шутка. Глаза у Охримова были светлые, спокойны, совершенно сумасшедшие.
Рэм, конечно, его послал, и с тех пор Охримов глядел сквозь него, как через стекло. Всякий раз казалось, что он по этому стеклу еще и ногтем скребет. Жуткий тип.
Но, поработав над собой, Рэм придумал, как пожалеть и Охримова. Вспомнил, что отец, приехав на побывку, однажды сказал: «Мы, медики, лечим в лазаретах раны тела, а главная рана вот здесь. – И постучал себя по голове. – У всех, кто там побывал. И эту рану никто не лечит. Потому что где взять столько психиатров?» Охримов – душевнобольной. Скорбный духом, как писали раньше. Разве не жалко?
А когда жалеть людей надоело, Рэм стал просто глядеть в окно. От Лодзи до конечной станции Оппельн, где штаб Второго Украинского фронта, оставалось всего двести километров, но поезд часто сбавлял ход и еле полз. Во время январского наступления пути сильно пострадали, во многих местах полотно было временное. Иностранную жизнь Рэм пока толком не разглядел, хотя после пересечения границы все жадно прилипли к окнам. Но Польша ничем не отличалась от Белоруссии. То есть, может, раньше и отличалась, однако война – декоратор с однообразным вкусом. Всюду, где она помахала своею кувалдой, пейзаж делался одинаков: черные пятна пожарищ на белом снегу, скелеты домов, обломки подбитой техники.
Здесь же, видно, немцы отступали быстро, и кое-где сохранились совсем целые деревни. Домов было толком не рассмотреть, но каждый костел Рэм провожал взглядом. Это была иная, нерусская, экзотическая жизнь. Все-таки уже Европа.
– Эй, малй!
Внизу стоял, улыбался крякающий старлей. На плече у него опять висели шины.
– Есть предложение. Багаж – на багажную полку, а то людям сидеть тесно. Давай так: барахло сложим на твое место, а ты дуй к нам. Чего тут осталось ехать-то?
Сказано было легко, необидно, и Рэм артачиться не стал. Спрыгнул, натянул сапоги. Фронтовики подвинулись, и он оказался между Георгием-Жорой Уткиным и каким-то артиллерийским капитаном, пялиться на которого Рэм постеснялся. Дальше сидел еще лейтенант, а напротив капитан-танкист, два старших лейтенан та и один младший, но не чета Рэму: с обожженным лицом, с гвардейским значком и медалью «За отвагу», с новыми офицерскими погонами, пришитыми на солдатскую шинель. Тут все были черт-те в чем. Танкист в овчинной безрукавке, один старлей в белом кашне, другой в ботинках и замшевых гетрах. Только Рэм сидел, как иллюстрация к уставу: аккуратная гимнастерочка, еще не обтрепавшиеся погончики. Прямо пожалел, что сдуру сфотографировался в таком виде, после выпуска – послать отцу и сестренке. Сразу видно: зелень тыловая. Решил про себя, что фото выкинет и при первой возможности снимется по-другому, по-фронтовому.
На Рэма соседи едва взглянули. Даже не спросили, как зовут. И очень хорошо, а то он от смущения заблеял бы по-овечьи и потом себя ненавидел бы.
Пристроив на багажной полке свои шины, Уткин сумрачно оглядел столик. Там фляги со стаканчиками, хлебные крошки, обглоданная селедка на газетке.
– Докладываю обстановку, товарищи командиры. Спиртяги до кряка, но закуси больше нет. Это нехорошо. Можем понести невозвратные потери. Есть у кого харч?
– Откуда? – вздохнул танкист. – Все приперлись на вокзальный продпункт, как к титьке, со своими аттестатами, а там, сам видел, объявление: «Подвоза не было». Теперь только в Оппельне разживемся.
Рэм ожил. Кажется, теперь на него обратят вни мание!
– У меня есть. Нам в Варшаве выдали до пункта назначения. Сейчас достану.
Он извлек из вещмешка всю провизию: банку консервов, хлеб и сало, с небрежным видом положил на столик. Ужасно испугался, что покраснеет от удовольствия, когда артиллерист заметил:
– Щедро. По-фронтовому.
И все сразу стали с Рэмом знакомиться, будто он только сию минуту появился.
Уткин представился «Жорой», торжественно присовокупив: «трижды старший лейтенант Советского Союза». Его, конечно, спросили – как это, и он с удовольствием объяснил:
– Дважды разжалован. В сорок третьем и в сорок четвертом. Но я, кряк, чисто птица феникс. Не сгораю, а опять взлетаю. Однако только до третьей звезды. Выше, кряк, ни в какую. А то бы уже, наверно, минимум майор был.
Лейтенант сказал:
– Теперь не успеешь. Ну, за победу? Раскладывай скорей, земеля.
– Я уже. Это колбасный фарш, американский, очень вкусный, – сказал Рэм и мысленно обругал себя: не мельтеши, Петя Ростов. «У меня изюм чудесный».
Ему сунули алюминиевый стаканчик. Капитан, что слева, тихо посоветовал:
– Водой разбавь. Не лихачь. Привычки требует.
А Рэм набрался смелости, и громко:
– Спасибо. Я вообще не пью.
Взял и поставил стаканчик на стол. Ждал от кого-нибудь насмешки или презрительного взгляда, но ничего такого не было. Капитан, перед тем как выпить, пробормотал: «Отэтпрально». Остальные даже не посмотрели. Другой капитан затеял интересный всем разговор, какие соединения по итогам Нижне-Силезской операции сделают гвардейскими. Обожженный младлей, уже гвардеец, обстоятельно рассказывал про льготы и про повышенное дендовольствие. Ему, комвзвода, положено кроме обычных шестисот и трехсот фронтовых еще триста гвардейских. Плюс хромовые сапоги, гвардейского сукна шинель и диагоналевая гимнастерка, а что он сейчас во всем старом, так это не захотел после ранения в госпиталь брать, чтоб не сперли.
Слушали его очень внимательно, задавали вопросы. Потом старлей, что сидел у окна, сказал:
– Глядите. Германия.
Те, кого ранило в Силезии, на Германию посмотреть уже успели и не повернули головы, а Рэм так и прилип. Гвардеец, его звали Костей, тоже. Он западнее Лодзи еще не бывал.
– Танковый прорыв был, не иначе, – уверенно определил он. – Вон хутор целехонек. И те два тоже. Драпал фриц.
Рэм поразился размеру и добротности построек. Наверное, это были крестьянские хозяйства. По-иностранному «фермы». Дома каменные, как в городе. Каменные же амбары. Нарядные красные крыши.
– Людей не видно, – сказал Рэм через некоторое время. – Вообще никого. Окна выбиты…
– Свалил немец, от мала до велика. Правильно сделал. – Костя матерно выругался. – Ребята говорили, приказ был, перед германской границей зачитывали. Что Рабоче-Крестьянская Красная Армия вступает на фашистскую территорию и что настала пора отомстить за сожженные города и села, за женщин и детей. Берите, что хотите, товарищи бойцы. Всё ваше. А с ихними бабами поступайте, как они поступали с нашими.
– Правда был такой приказ? – засомневался Рэм.
– Ребята врать не станут, – сурово ответил Костя и потер свою страшную бугристую щеку.
А Рэм вспомнил статью Эренбурга, которую еще в училище горячо обсуждали на политинформации. Про то, что палачам не будет пощады и что немцев только огнем можно отучить от набегов на Россию. Чеканные формулировки статьи запомнились наизусть: «Нас привел к границе Германии человек, который знает, что такое слезы матери. Сталин знает, как немцы зарывали в землю живых детей, и в самые черные дни Сталин нам говорил, что мы победим злодеев… И если найдется в мире человек, который забудет о том, что сделали немцы, его проклянут могилы невинных. А мы знаем, что не забудет этого Сталин и не забудет Россия. Мы говорим это с тем спокойствием, которое бывает у старой, накаленной и неодолимой ненависти».
Но одно дело – статья про ненависть, а чтобы прямо в приказе? Да про баб? Однако спорить с гвардейцем Рэм не решился.
– Эй, резерв Верховного Командования! – дернул сзади за гимнастерку Уткин. – Во-первых, кряк, хорош трясти своей кормой перед рожей старших по званию. А во-вторых, товарищи командиры интересуются, тебе часом не выдали в Варшаве курево? По разведданным, там отоваривали «Казбеком».
Рэм отвернулся от окна.
– По одной пачке только дали. Но у меня папирос не осталось. Есть табак пачечный. Достать?
– Валяй. Угостим народ. Твой табачок, моя бумажка. У меня хорошая есть.
Жора вынул какую-то книжку или, может быть, толстую тетрадку в замшевом переплете, выдрал оттуда четыре странички, каждую разорвал пополам, и получилось восемь прямоугольничков, по числу членов компании. Рэм положил на стол пачку «Рекорда», взял одну бумажку себе. Она была тонкая, полупрозрачная – настоящая папиросная, только не чистая, а очень плотно исписанная с обеих сторон. Почерк ровненький, аккуратненький – такой, наверно, и называют бисерным, потому что буковки будто нанизанные на нитку бисеринки.
У Рэма была привычка читать всё подряд. Отец в детстве, бывало, ругался, что сын застревает у каждого стенда с газетами, у каждого столба с объявлениями.
Сейчас тоже, прежде чем насыпать табаку, Рэм поднес бумажку к глазам. Текст был русский.
«…когда же я оглядываюсь назад, на прожитые годы, особенно жалко мне моих ранних лет, потраченных впустую, на всяческую чепуху. Ах, если бы кто-нибудь, искренне озабоченный моим благом и умеющий помочь, сызмальства направил меня в верную сторону! О, я бы стал не тем, что я есть, а чем-то много лучшим. Я не продирался бы вслепую через колючки, через чащу, а шел бы прямой дорогой и продвинулся бы по ней много далее», – прочитал Рэм и перевернул клочок. С другой стороны было написано: «Меня мутит, когда слышу выражения вроде “самый обычный человек”, “он не хуже других”, “я такой же, как все”. Все люди необычны! Никого ни с кем сравнивать нельзя – кто лучше, а кто хуже! “Такой же, как все” означает никакой!»
Заинтересовавшись, он взял со стола нетронутую бумажку – артиллерист сказал, что не курит. Прочитал: «Через сто или двести лет людям будет казаться дикостью, что когда-то женская половина человечества считала главным делом своей жизни вырастить и воспитать детей – будто курица, высиживающая яйца, или волчица, учащая волчат охотиться. Как можно было тратить свою бесценную жизнь на то, что у тебя скорее всего хорошо не получится? И как можно было разрешать матерям, не обученным самому важному из знаний, педагогике, портить детей? Мы будем казаться нашим потомкам такими же варварами, какими нам сегодня кажутся люди средневеко…»
– Жор, откуда тетрадка? – спросил Рэм.
Он отсел на край, поменявшись с лейтенантом, потому что Уткин затеял играть в очко на злотые. Тем, кто выписался из госпиталей, выдали командировочные местной валютой, и что с нею делать, никто не знал. А у Рэма денег не было, и карт он не любил.
У Жоры из угла в угол рта ходила самокрутка.
– А? Костька, банкуешь?
– Где, говорю, тетрадью разжился?
– Под Варшавой, перед тем как ранило. Траншею у фрицев взяли. Там штабной блиндаж… Еще! …Выходит эсэсман с поднятыми руками… Еще одну! …И по-русски: «Не стрэляйте, товарыщ, я нэмецки антыфашыст». Умора, кряк! Черепушка на фуражке, молнии, все дела, вот такая ряха, стеклышки на носу. Антифашист … Зараза, перебор!
Стукнул кулаком по столу, раскрякался.
– Сдавай!
– И чего? С эсэсманом?
– А чё с ним? Грохнул. Эсэсовцев в плен не берут. Мы тогда, по правде, никого не брали. Потери были, людей мало, а тут конвоируй в штаб… Себе!.. Тетрадка у него в сумке была. Понаписана всякая крякотень, зато бумага – как с папиросной фабрики. Ну, думаю, щас покурю. И тут меня осколком – кряк! Вот сюда. Короче, покурил только через полтора месяца, когда перевели в палату для выздоравливающих. Не до курева было. Ага, съел? – хищно расхохотался он, сдвигая к себе кучку купюр. – Я сдаю.
Похож на Долохова, подумал Рэм. Игрок, был разжалован в нижние чины, выслужился лихостью и тоже не берет пленных.
– Дай тетрадку почитать, – попросил он.
Уткин не глядя сунул:
– На и отвяжись. Мне карта поперла.
Открыв тетрадь, Рэм увидел, что в середине много страниц вырвано. Где-то по одной, где-то сразу несколько подряд – наверное, Жора тоже угощал бумагой целую компанию. Но начало было целое. Судя по тому, что проставлены даты – дневник или какие-то записи в хронологическом порядке.
Откинулся к стенке, стал читать.
«18. X.1940.
Дорогой Антон, Не знаю, почему я решил, что буду адресовать мои записки именно тебе, ведь мы не виделись больше двадцати лет, и я даже не знаю, жив ли ты. Очень надеюсь, что жив и что многочисленные невзгоды нашего железного века обошли тебя стороной.
Я вне себя от возбуждения. Это странно, а в нынешних обстоятельствах даже невообразимо, но мечта всей моей жизни близка к осуществлению! Я должен выплеснуть эмоции, собраться с мыслями, а поскольку собеседников у меня нет, сделать это я могу только на бумаге. Кроме того, мой великий план предполагает ведение подробного дневника. Легче обращаться не в пустоту, а к конкретному человеку, с которым мы когда-то мечтали о великом эксперименте вместе. Помнишь, с чего всё началось? Помнишь спор двух первокурсников об общественном и индивидуальном?»
Дойдя до этого места, Рэм взволновался. Антоном звали его отца. Тот при старом режиме тоже учился в университете, а когда пустится в рассуждения, говорит примерно в таком же стиле. Вдруг это пишет какой-нибудь его старый товарищ? Вот была бы штука!
– Жор, – сказал он, отрываясь. – Обменяй тетрадку на что-нибудь. Тут интересно, я почитал бы. Хочешь, у меня набор химкарандашей есть?
– Меняют жлобы и спекулянты, – ответил Уткин, сосредоточенно уставившись на три карты – решал, брать еще или нет. – …Дай одну. – И заорал: – Ааа! Очко!
Сграбастал выигрыш, широко махнул:
– Дарю, малй. Не жалко.
Рэм снова уткнулся в тетрадь.
«А еще мне почему-то хочется писать на языке, которым я давно не пользуюсь в обыденной жизни. Я трехъязычен с детства. На немецком со мной говорили родители. Он так и остался интимным, домашним, невзрослым. Потом появился польский – язык прислуги, двора, улицы. Я познакомился с ним не в лучшем его варианте, он до сих пор звучит для меня грубо, и моя непростая, полная разочарований жизнь в новой стране Польше не исправила этого ощущения. Поэтому дороже всего мне русский, язык гимназии и нашего Петроградского ист-фила, язык прекрасных книг, увлекательных дискуссий, лекций Вентцеля и Вахтерова. Я всегда любил учиться. С преподавателями мне было несравненно интереснее, чем со сверстниками».
Нет, это не отцовский знакомый, с разочарованием подумал Рэм. Отец учился сначала на юридическом, потом в медицинском.
Все же стал читать дальше. Не глазеть же, как другие в очко режутся?
«Я очень надеюсь, что за минувшие годы у тебя получилось опробовать твою теорию общественно-трудового воспитания на практике, хоть, ты знаешь, я считал ее в корне ошибочной. Конечно, эти двадцать лет мы с тобою существовали в несоприкасающихся мирах, разделенные глухой стеной, но до меня доходили сведения о том, что у вас в России ведутся необычные эксперименты с детскими коммунами. Мне нравилось думать, что ты, Антон, в этом участвуешь. Как интересно было бы узнать о результатах!»
Рэму пришла в голову новая догадка. А что если он пишет Антону Макаренко, автору «Педагогической поэмы»? Это было бы еще интересней!
«Доходили сюда и пугающие известия о многочисленных арестах среди русской интеллигенции, полагаю, сильно преувеличенные здешней антисоветской прессой. Впрочем, в отличие от тебя, я никогда не интересовался политикой и ничего в ней не смыслю. Не намерен я уделять ей место и в этих записях. Жалко тратить время, да и ради чего? Разве станет геолог, ищущий золото, писать в дневнике экспедиции о комарах, отравляющих ему жизнь? Бог с ними, с кровососами. Меня интересует золото.
все же два слова о войне. Не случись с бедной Польшей того, что с ней случилось, я вряд ли имел бы возможность реализовать свою теорию. Год за годом я пытался получить необходимые разрешения и документы, добыть финансовые средства – и всё впустую. Мои усилия разбивались о противодействие бюрократов, сопротивление попов, ретроградов от педагогики, косных родительских ассоциаций. А сейчас я никем и ничем не связан. Вот уж воистину не было счастья, так несчастье помогло!
Я ужасно горд тем, как я провернул эту операцию, сам себя изрядно удивив своей ловкостью. Ей-богу, мы часто не подозреваем, какие в нас заложены таланты!
Мне доставит удовольствие записать рассказ о моем внезапно пробудившемся авантюризме. Я чувствую, что это качество, которого я в себе прежде не подозревал, очень пригодится в новой жизни. А она начнется прямо с завтрашнего дня.
Вот как всё произошло…»
– Эй, профессор, вырви покурить, – попросил Жора.
– Оторви от газеты. Говорю, тут интересно.
– Я с конца, напоследок. Да не жидись ты!
Старлей дотянулся, выхватил из рук тетрадь. Вернул, когда выдрал страницу.
Рэм встал и ушел в тамбур. Там спокойнее.
Бисерным почерком

Всякой грандиозной идее предшествует какое-то случайное событие, некое озарение, дающее первый толчок мысли, которая, иногда сама того не сознавая, начинает работу в определенном направлении. Вспомни Архимеда в ванне или Ньютона с яблоком. Нечто подобное позавчера случилось и со мной.
Я проходил через Налевки, мимо ворот новообразованного Гетто, и остановился, пораженный удивительной картиной.
Однако, раз уж мои записи имеют вид письма к другу, которого я давно не видел, напишу несколько слов о Гетто, тем более что устройство этого поразительного, анахронического, воскресшего из Средних Веков изобретения оккупационных властей будет иметь самое непосредственное отношение к Эксперименту. К тому же установления и параметры еврейского города внутри Города наверняка будут меняться, и невредно зафиксировать, каковы они на сегодняшний день.
Итак, сверхчеловеки, многое, начиная со свастики, позаимствовавшие от индийской цивилизации, управляют подвластным населением, деля его на касты. Для того чтобы низшие страты общества поменьше бунтовали, нужна некая каста париев, неприкасаемых, по сравнению с которой плебс будет чувствовать себя все же до некоторой степени привилегированным. В этом, полагаю, и заключается рациональная причина германского государственного антисемитизма.
В Польше с ее колоссальным еврейским населением эта придуманная для Германии механика обретает черты абсурда, поскольку «неприкасаемых» оказывается слишком уж много, но тупая, железная система не знает обратного хода. В результате Город, где евреи составляют чуть не треть населения, превращен в некую уродливую матрешку. Внутри него устроен второй город, еврейский, откуда выселили поляков и куда отовсюду свозят, сгоняют евреев. Территория в три квадратных километра обнесена проволокой, а кое-где даже возводят стену. Говорят, на этом искусственном острове в невероятной скученности будет жить чуть ли не четыреста тысяч человек. По радио объявили, что всякий еврей, обнаруженный вне Гетто без специального разрешения, будет арестован со всеми вытекающими последствиями, которые у сверхчеловеков всегда одинаковые.
Мне скучно про всё это писать. Я не хроникер человеческого идиотизма и не свидетель маниакальных злодейств. Уверен, что очень многие сейчас записывают все эти мерзости и глупости для будущего «суда истории», ведь евреи – «народ Книги». Я мерзостями и глупостями не возмущаюсь, я им не удивляюсь. На мерзостях и глупостях стоит вся история человечества. Пока не устранена их главная причина, всё так и будет длиться до скончания времен. Наверное, я чудовище, но мне не жалко взрослых людей. Они все или почти все без надежно упущенные и пропащие. В лучшем случае бессмысленны и бесполезны, в худшем – вредны и опасны.
Иное дело – дети, особенно маленькие. Я не могу без боли и ужаса смотреть на то, что с ними творят взрослые. Берут под свою невежественную опеку беззащитное, доверчивое сокровище и мнут, портят, губят! Не успокоятся, пока не превратят нового человека в такую же дрянь, какою являются сами!
Стоп. Мне нужно держать себя в руках. Отныне я не тот, что прежде. Всё переменилось. Никаких жалоб, причитаний, никаких эмоций. Только цель, только дело. И никакой водки. Ни капли. С этим покончено. Расправляю крылья – и в полет!
Итак, про Налевки.
Как я уже написал, меня трудно удивить происходящим вокруг безумием, но тут я просто остолбенел.
Я увидел, как Сказочник проводит через ворота своих воспитанников из «Дома еврейских сирот». Должно быть, они получили предписание переместиться в Гетто.
Я не люблю Сказочника. Он хороший, добрый человек, но он занимается не своим делом. Впрочем, как подавляющее большинство живущих на этом свете. Раз ты Сказочник пиши сказки, у тебя получается, но не порти детей своим невежественным воспитанием!
Многие стояли и смотрели, как длинная колонна медленно втягивается в ворота. Кто-то вздыхал, кто-то вытирал слезы, кто-то не мог сдержать рыданий. «Какая трагедия!» – шептались вокруг. Громко никто не возмущался, потому что было много полиции.
Я же смотрел на то, как наслаждается всеобщим вниманием Сказочник, как картинно обнимает он робеющего ребенка, как запевает надтреснутым голосом веселую песенку, как подбирает и прижимает к груди обро ненного плюшевого зайца, как подчеркнуто он не замечает толпы, – и злился: позер, позер!
Стыдно. Я несправедлив к нему. Причиной тому самая черная зависть. К его известности, к пиетету, который он во всех вызывает, а более всего – к огромным возможностям, которыми он так плохо пользуется. Ах, если б мне дали управлять сиротским домом, думал я, глядя на печальное шествие. О, я бы согласился жить в любом Гетто и не устраивал бы по этому поводу трагедий!
Но то была еще не сама идея, а лишь ее пред чувствие.
Следующее звено цепочки, тоже случайное, замкнулось ночью, когда я не мог уснуть и всё думал про Сказочника, которому судьба дала то, о чем я могу только мечтать. Уж если, руководя сиротским домом в обычном мире, он был почти свободен в своей педагогической деятельности, то можно себе представить, как привольно заживет он в Гетто – без муниципальных комиссий, учительских ассоциаций и прочих контролирующих инстанций. Там, за колючей проволокой, можно быть свободным от внешнего мира. Вот где бы развернуться! Говорят, среди беженцев невероятное количество осиротевших и потерявшихся детей…
Но это были жалкие, бессмысленные мечты. Во-первых, на какие шиши я бы стал разворачиваться? Во-вторых, кто меня пустит в Гетто, если я не еврей?
От бессонницы мне, как обычно, понадобилось выпить. Я неплохо научился гасить встречным огнем алкоголя тот костер, который сжигает меня изнутри. Это пламя могло бы согреть и осветить мир, но, не имея выхода, оно лишь опаляет мне сердце.
Дома водки не было, а выходить на улицу в комендантский час строжайше воспрещалось, но Город всегда жил двойной и тройной жизнью, приспосабливаясь к любой власти. Запреты ему нипочем. Через два квартала от меня находится подпольный кабак. Я оделся и пять минут спустя уже стучал в глухую дверь установленным стуком.
На створке тускло засветилась точка. Меня рассматривали в глазок. Я снял шляпу и слегка поклонился. Узнали.
Электричества в подвале, конечно, не было. Полагалось самому зажигать на столике керосиновую лампу, но я остался в темноте, да еще забрался в самый дальний угол.
Налил из графина полстакана, сразу выпил и стал ждать, чтоб перестало жечь изнутри, но что-то никак не отпускало. Мне уже за сорок, а ничего не сделано, жевал я свою всегдашнюю горькую жвачку. Мир населен и перенаселен теми, кому за сорок и кто ничего не сделал, но они и не знают, чт нужно делать, а я-то знаю, знаю, и оттого бессилие тысячекратно тяжелее.
Когда за соседний стол сели двое и начали тихо переговариваться, я даже обрадовался – их бубнеж отвлек меня от самоедства.
Это были персонажи из «подкоряжного мира», как, помнишь, называли во времена нашей студенческой юности разный мутный, нечистый, ночной люд. Словно перевернул корягу, и там, в сырой грязи, копошатся какие-то жучки, червяки, сколопендры. Вот и эти были такие же – спекулянты с черного рынка, торговцы «марафетом», а может быть, даже воры или грабители. На территории страха и беды, каковой теперь является Город, подобной публике раздолье.
Я сначала не прислушивался, но скоро по доносившимся до меня обрывкам фраз понял, что это контрабандисты, притом нового, очень популярного профиля – переправляющие по подпольным каналам живой груз. Многие евреи, кто имеет деньги или богатых родственников за границей, после апрельского приказа об учреждении Гетто пытаются перебраться в Палестину, пока всех не заперли за колючей проволокой. Когда есть спрос на услугу, появляется и предложение, так что возникла даже конкуренция между «туристическими фирмами» (остроумное название). Я слышал, что «ваучер» через Словакию и Румынию, а оттуда морем можно добыть за 100 американских долларов – сумма большая, но не астрономическая. Всё неплохо организовано. Гарантией того, что «гиды» не прикончат «туриста» по дороге, является оплата по результату. Ее производят заграничные родственники на месте прибытия.
Мои соседи обсуждали какого-то Данцигера, беженца из Германии. Щуплый мужичонка (звали его Лех) волновался, ерзал и много говорил свистящим шепотом. Второй, сидевший ко мне мощной квадратной спиной, ронял слова скупо. Первый называл его Шайло.
Минут через пять стало ясно, что контрабандой людей промышляет только Лех. К нему обратился потенциальный клиент, берлинский ювелир, предложивший хороший задаток: 50 долларов, а по прибытии в Яффу – вдвое.
– Открывает он свой чемодан, – свистел Лех, – а там (я подглядел) зеленым-зелено! Доллары пачками! Говорю ж тебе, Шайло, он ювелир, берлинский! Наверно, продал всё свое рыжье и все цацки!
– А у тебя самого кишка тонка? – хмыкнул второй.
– Ты же знаешь, я не по этой части.
– Ладно. Получишь за наводку как положено. Десять процентов.
Тут я догадался о профессии пана Шайло, и мне сделалось не по себе. Не дай бог обернется и углядит меня в моем темном углу. Но уходить было еще опаснее. Я съежился и теперь ловил каждое слово.
– Не за наводку, не за наводку! – закипятился контрабандист. – Я его прямо к тебе приведу. Доставлю, куда скажешь. За это отдашь мне треть.
– Десять процентов.
– Двадцать пять! Без меня ты дела не сделаешь. Только я знаю, где живет Данцигер.
– Десять процентов, – лениво повторил громила.