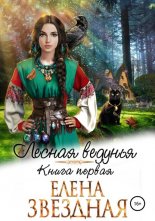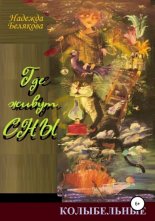Томас Дримм. Конец света наступит в четверг ван Ковеларт Дидье

– Привет, сынок, хорошо поиграл?
– Тише! – шикает мать, указывая на экран, как будто он прервал речь министра.
Я сажусь между ними, чтобы есть суп и, как обычно, смотреть выпуск Обязательных восьмичасовых новостей. Чипы, вживленные в мозг моих родителей, регистрируют просмотр всех каналов телевидения, и, если при проверке выяснится, что они не смотрели государственную информационную программу, им урежут время на развлекательные передачи. Таков Закон о просвещении граждан. Благодаря ему люди в курсе новостей и все говорят и думают одинаково, что помогает избежать недоразумений. У несовершеннолетних, как я, пока нет чипов, и они не обязаны смотреть новости, но моя мать считает, что я должен уже привыкать, ведь я такой мечтатель и могу растеряться, когда вступлю во взрослую жизнь.
– Борьба против нервной депрессии, – продолжает Борис Вигор, которого показывают крупным планом на голубом фоне, – является приоритетной задачей правительства. Сегодня утром три нервно-депрессивных субъекта, пытавшихся испортить настроение своим коллегам, были арестованы и подвергнуты перепрограммированию согласно Закону о безопасности граждан.
Борис Вигор – национальный герой. Он министр энергоресурсов и самый выдающийся игрок в менбол. Мозг гения в теле атлета. Все девушки бредят им, а все мальчишки мечтают быть похожими на него. Все, кроме меня. Я считаю, что он так же сексуален, как дверца холодильника. Но это потому, что я и бездарь, и слишком толстый, и в спорте полный ноль, а он – воплощение всего, что меня раздражает. Поэтому, когда он выступает, я молчу, думаю о своем и аплодирую вместе со всеми, лишь бы всё было тихо-мирно.
– Все потенциальные самоубийцы и извращенцы, проявившие неспособность к счастью, отказавшиеся играть и ловить удачу, – продолжает министр, – будут немедленно изолированы от общества, обезврежены и подвергнуты лечению в Центрах перепрограммирования, во благо их личного спасения и в интересах общества. Здоровье, успех, благополучие!
– Здоровье, успех, благополучие! – повторяет мать, прежде чем проглотить ложку супа.
– Идиот, – бормочет отец.
Она испепеляет его взглядом и велит мне есть суп, пока горячий. Я пристально смотрю на отца сквозь облако пара, поднимающегося от тарелки. У него запавший рот, сощуренный взгляд за круглыми стеклами очков; указательный палец он держит на кнопке выключения дистанционного пульта.
– И последнее, – продолжает ведущая, поднося микрофон к уху. – Только что стало известно об исчезновении знаменитого ученого из Академии наук, профессора Леонарда Пиктона.
На экране появляется фотография. Я роняю ложку в тарелку с супом.
– Да будь же аккуратнее, в конце концов! – кричит мать. – Рубашка только из стирки!
– Физик-ядерщик восьмидесяти девяти лет, создатель мозговых чипов и Аннигиляционного экрана вышел из дома в четырнадцать часов, чтобы прогуляться на пляже Лудиленда – морского курорта города Нордвиля, – и пропал. Мы разделяем беспокойство родных и надеемся на скорейшее возвращение выдающегося ученого…
– Выдающийся мерзавец, вот он кто, – ворчит отец. – Сотрудничает с властями, придумал систему, которая контролирует наши мозги!
– Суп стынет, – напоминает мать.
– Я читал его «Мемуары» и знаю, о чем говорю! К счастью, эту книгу запретили.
– Продолжаются активные поиски, – объявляет ведущая, – и власти пока рассматривают все гипотезы: амнезию, похищение, несчастный случай – профессор мог утонуть. Напомним, что в этот час на пляже Лудиленда дует ураганный ветер, море штормит и волны очень опасны… Если вы встретите Леонарда Пиктона или у вас будет какая-то информация о нем, немедленно позвоните по этому телефону…
Цифры появляются под фотографией, на которой профессор недовольно кривит рожу. Ложкой я быстро рисую номер в гуще на дне тарелки. Ученый, вот оно как. Я убил самого великого ученого в стране.
Фото исчезает.
– На этом мы заканчиваем нашу программу, – улыбается журналистка. – Всем хорошего вечера и до встречи…
Экран телевизора гаснет.
– Да подожди хотя бы, когда титры появятся! – орет мать.
– Итак, Томас, – продолжает отец, – как прошло воскресенье?
Я делаю вид, что поперхнулся, и говорю еле слышно, что всё нормально, ничего особенного.
– ХR9 хорошо летал?
Я кашляю и киваю.
– Пора заканчивать с этим баловством, – вмешивается мать. – Ему надо развивать мускулатуру.
– Думаешь, при таком ветре она не развивается? – парирует он.
– Ураган унес его воздушного змея.
Мрачное молчание повисает над столом. Мы встречаемся с отцом глазами. Он огорчен из-за меня и чувствует себя виноватым перед матерью. Похоже, XR9 обошелся ему недешево.
– И слава богу, что унес, – мать убирает свою тарелку. – Это знак, что детство кончилось: пора заняться серьезными вещами.
– Какими, например? – брюзжит отец.
– Я собиралась записать его в фитнес-клуб…
– Ты бредишь, Николь? У нас нет денег, к тому же…
– …но теперь это неактуально, – заключает она. – Благодаря инспектору из Министерства игры я получила возможность попасть на прием к доктору Макрози.
Ложка отца застывает над тарелкой. Мать оборачивается ко мне, и в ее взгляде впервые светится что-то похожее на гордость. Слава богу, она не знает, кого я укрываю в своем плюшевом медведе.
Мать вытирает рот и объявляет торжественным тоном, глядя на отца:
– Сообщаю тебе прекрасную новость. Твой сын будет принят в лагерь лечебного голодания, где станет подтянутым и стройным, притом совершенно бесплатно. Это невероятная удача.
– Об этом не может быть и речи, – медленно произносит отец сквозь зубы.
– Напоминаю, что твоя зарплата в два раза меньше моей и родительские права принадлежат мне.
Отец опускает голову. Ему нечего возразить: таков Закон о защите детства. Внезапный прилив любви и грусти охватывает меня, на глаза наворачиваются слезы, но он их не видит. Он смотрит на комки синтетических овощей, плавающие в супе.
– Когда мне ехать?
– Надеюсь, с началом летних каникул, – говорит мать. – Доктор Макрози скажет точнее после того, как осмотрит тебя. Мне должны позвонить и назначить консультацию. Но с рекомендацией господина Бюрля тебя обязательно примут, не переживай.
Я и не переживаю. По крайней мере, из-за этого. Я думаю о призраке ученого, который ждет наверху, внутри моего медведя, и хочет, чтобы я спасал планету. Я скорее доволен, что могу сбежать от этого кошмара. Но до лета далеко. А сейчас мне надо укротить профессора Пиктона. Еще не хватало, чтобы всякие посторонние портили мне жизнь: с этим отлично справляется моя мать. И потом, что он пристает со своими вычислениями, когда у меня поднимается температура при виде самого пустякового квадратного корня? Я не собираюсь становиться секретарем мертвеца! Теперь, когда я знаю, кто он, я возвращу его семье. А если он расскажет, что я его убил, то это будут слова плюшевого медведя против слов человека. Вот так-то. Призраки не существуют, а я существую официально. Я нахожусь под опекой Закона о защите детства. Меня он защищает, а его – нет.
Я встаю из-за стола и собираю тарелки, оставляя свою наверху. На кухне я переписываю номер телефона с тарелки на клочок бумаги. Теперь я неплохо справляюсь с ситуацией. Мне не страшно – наоборот, я всё время размышляю, как выбраться из этого положения. Такое ощущение, что я разом повзрослел, стал мужчиной. Может, так всегда бывает, когда совершишь убийство.
Я возвращаюсь к столу за пирожным из цельного зерна и обезжиренным йогуртом. С тех пор как родители объединились в отношении моей диеты, еда становится всё скучней и скучней. Ято не потерял ни грамма, зато они худеют на глазах. Наверное, мне и правда пора ехать в лагерь.
Отец допивает пиво, отодвигает стакан и, глядя на меня мутными глазами, ехидно улыбается:
– Знаешь, чем Иисус занимался чаще всего, согласно Евангелию?
– Только не за столом, – предупреждает мать.
Я пытаюсь найти разгадку. И высказываю предположение, имея в виду то, что приходится терпеть от матери:
– Прощал тех, кто его обидел?
– Нет, он занимался экзорцизмом. Изгонял бесов из человека…
– Иисуса никогда не было, слава богу! – возражает мать. – Хочешь пирожное, Робер?
– Не хочу, но это не мешает твоему пирожному существовать. Так же и с Иисусом.
– Я верю только в одного бога, и зовут его Счастливый случай, – изрекает мать, – а твой так называемый Сын Божий, даже если и существовал, появился в результате игры случая.
– Что ты заладила, как заезженная пластинка! Иисус пришел на землю, чтобы освободить человека от его неправильного представления о Боге.
– Тогда он – ненормальный извращенец, как и остальные персонажи этой легенды! – раздражается она. – Всех нас создал Случай, и мы, играя, выражаем ему свою признательность. Ешь йогурт, Томас.
– Играя, мы выражаем признательность Дьяволу, – возражает отец. – Бог игры – библейский Маммона – это и есть Дьявол!
– Как ты можешь говорить такое в присутствии сына? – возмущается мать. – Не слушай его, Томас. Мы поклоняемся Рулетке, потому что она – символ Земли, которая вращается и в своем круговороте заставляет Шарик падать на счастливый номер! Очко в игре – вот самое главное!
– Сынок, если ты сложишь все числа, написанные в клетках игрового поля Рулетки, получится 666. Число Зверя, знак Дьявола!
– Прекрати, Робер! Дьявол – это просто невезение, его не существует! Случай всем дает на старте одинаковые шансы, и каждый может заставить его работать на себя!
– К черту случай! Иисус пришел доказать, что мы живем благодаря любви, а не случаю.
– Оставь нас в покое со своими выдумками! И без этого неприятностей хватает! И прекрати пить в присутствии сына!
– Мне это не мешает, мам.
– А тебя спрашивали? – взрывается она, как и каждый раз, когда я защищаю ее жертву. – Ешь йогурт, если хочешь избавиться от своего жира.
Отец допивает пиво, отодвигает стакан и, упираясь руками в стол, со вздохом встает:
– Ite, missa est.
Я спрашиваю, что это значит.
– Что он идет спать, – переводит мать.
– Это означает: «Идите с миром, месса окончена».
– Латынь?
– Хватит! – прерывает нас мать. – Хорошо, что здесь не установлены микрофоны…
– Да кому это интересно, бедняжка Николь?
– Я защищаю будущее нашего сына от опасностей, которые ты на него навлекаешь!
– Какие опасности? Разум, культура, критическое мышление?
– Твой извращенный ум, тяготеющий к самоубийству! Твое нежелание лечиться!
– Меня нельзя вылечить! Со мной это не пройдет – промывание мозгов! Я останусь с грязными мозгами и этим горжусь! «Чтоб счастливо прожить – невежественным быть»? [2] Я говорю: нет! В гробу я видал такую жизнь!
– И поэтому портишь жизнь нам? Хочешь, чтобы тебя арестовали как нервно-депрессивного?
– Уходите, я хочу спать.
Пошатываясь, он делает три шага, опускается на колени и вытаскивает из-под дивана подушку и одеяло. Хлопает дверь: это мать пошла плакать в свою комнату.
Я не люблю, когда они говорят о Боге: это всегда заканчивается одинаково. Кстати, поэтому правительство и отменило религию. Однако она не исчезла бесследно, особенно в нашей семье. Проблема отца в том, что он слишком много знает, потому что работал в Цензурном комитете. А чтобы запретить книгу, надо прочитать не только ее, но и другие, уже запрещенные, чтобы понять, подпадает ли она под запрет. Это дает новые знания, которыми мало с кем можно поделиться. С тех пор как отца уволили из Комитета за пьянство, он не читает новых книг, но помнит всё ранее прочитанное. И передает мне. Он говорит: «Ты сливная труба моей эрудиции». Я понимаю далеко не всё, что он рассказывает, но впитываю как губка. Не будь меня, он бы просто захлебнулся.
Вдруг я понимаю, что старик-ученый, поселившийся в моем плюшевом медведе, – это, возможно, шанс для отца. Может, теперь ему будет с кем поговорить – с кем-то такого же уровня. И тогда он бросит пить.
Я кусаю губы, стараясь унять возбуждение. Не вижу особого интереса в спасении планеты, а вот спасти собственного отца было бы здорово. Но для того, чтобы он мог услышать голос профессора Пиктона, я должен ему признаться, что стал убийцей.
Ладно. Для начала помою посуду.
8
Я не спешу вымыть тарелки и навести порядок на кухне. Нарочно тяну время. Как только подумаю о том, что ждет меня наверху, тут же хочется всё отдраивать до блеска и расставлять по местам. Может, профессор Пиктон тем временем заснет. Если бы перед ужином мы с отцом остались одни, я бы мог спросить его, нужен ли сон мертвым. Но когда он достает подушку и одеяло, это значит, что сейчас появится бутылка, и разговаривать с ним уже бесполезно. Как он говорит, алкоголь – его огнетушитель.
Выйдя из кухни, замечаю свет в комнате матери. Заглядываю в замочную скважину. Она сидит, положив локти на туалетный столик, и рассматривает свои морщины на компьютерном изображении. Это зеркало будущего. Две камеры на уровне глаз, программное обеспечение для проектирования и коррекции, и вы получаете собственный портрет в том возрасте, который зададите в программе.
Программа может рассчитать и будущий вес. Вы указываете свой рацион, каким спортом занимаетесь, и вам пишут, сколько кило вы прибавите. Не буду рассказывать, каким я увидел себя через десять лет – настоящий жиртрест. А вот когда в зеркало будущего смотрится отец и перечисляет всё, что пьет, программа показывает скелет. Ну ничего, вот уже три года компьютер предупреждает, что ему осталось жить всего месяц… Поэтому я не отчаиваюсь.
– Как же задолбало! Дерьмовая жизнь! – бормочет сквозь зубы мать, глядя на свое отражение. – Я теряю весь свой запас молодости с этим ребенком!
Она резко встает и выключает свет.
Часы показывают без двадцати одиннадцать, когда я на цыпочках поднимаюсь по лестнице. Я немного приободрился, увидев, как сильно мать постареет в будущем, переживая из-за нынешних морщин. И говорю себе, что тело, в котором мы находимся, неизбежно влияет на нас. Вот, например, мне, подростку, сон нужен гораздо меньше, чем ребенку, которым я когда-то был. Старики тоже мало спят. Но когда они переселяются в медведя, это совсем другое дело! Медведи впадают в зимнюю спячку.
Я приоткрываю дверь своей комнаты, стараясь сделать это бесшумно. Ученый, сложивший лапы на груди, встречает меня пронзительным криком:
– Куда ты провалился, черт возьми? У меня сейчас мозг взорвется от идей! Записывай, живо!
Да, похоже, этому медведю зимняя спячка не грозит. Я тихо открываю свой сундук с игрушками, вынимаю плитку шоколада, которую прячу под журналами с голыми девушками, и предлагаю ему кусочек.
– И чем, по-твоему, мне ее переваривать, идиот? Может, у твоего медведя есть желудок?
Не отвечая, поворачиаю его мордой к стене и начинаю раздеваться. Попробую быть любезным.
– Так значит, вы – профессор Леонард Пиктон? – говорю я почтительно.
– Лео, а не Леонард! Никто, кроме моей жены, меня так не называет. Обо мне сообщили по телевизору?
– Ну конечно.
Я застегиваю пижаму и добавляю еще любезнее:
– Очень рад знакомству.
– Радоваться нечему, – мрачно отвечает он. – Мое тело уже обнаружили?
– Нет-нет.
– Уф, слава богу, – вздыхает он с облегчением. – Я опасался именно этого.
Мне приятно, что он как будто повеселел. Хотя я замел следы и меня ни в чем не заподозрят, его реакция повышает мою самооценку. Я кладу в рот шоколадку.
– Очень приятно, что вы беспокоитесь обо мне.
– Речь не о тебе. Пока они не нашли моего тела, я существую.
Я несколько секунд обдумываю, что он сказал, потом с трудом говорю:
– То есть я слышу ваш голос, потому что вы еще считаетесь живым? А когда люди узнают, что вы умерли, это вас убьет окончательно? Так?
– Не надейся. Так легко ты от меня не отделаешься, парень, у нас слишком много работы. Открывай тетрадь.
Я резко хватаю его, прижимаю к письменному столу и изо всех сил давлю на живот.
– Что на тебя нашло? Отпусти!
Я вспоминаю то, что прочитал в Евангелии, которое отец тайком дал мне прошлым летом и которое сейчас спрятано за подвесным потолком в туалете. Зверски выпучив глаза, я провозглашаю, подражая Иисусу:
– Заклинаю тебя выйти из этого медведя и вернуться туда, откуда ты пришел!
– Прекрати! Что за ребячество! Если душа покинула тело, она не может в него вернуться!
– Ладно, тогда выйдите из моего медведя и вселяйтесь в своих домашних!
Я изо всех сил давлю на плюшевый живот, мну его, чтобы изгнать оттуда непрошеного гостя. Он извивается в моих руках.
– Перестань… мне щекотно!
Растерявшись, я ослабляю хватку.
– Щекотно?
Он самостоятельно садится.
– Разумеется! Мой мозг создал связи с молекулами плюша: ты мнешь мой живот, и мне щекотно. Это же логично! Имей в виду: информация действует в двух направлениях! Я воздействую на материю, следовательно, испытываю ее воздействие на себе.
Он встает на четвереньки и начинает отжиматься. Я озадаченно смотрю на него.
– Что вы делаете?
– Разминаюсь. Если мне суждено остаться в этом теле, мне нужно научиться им пользоваться, чтобы быть самостоятельным.
Он перекатывается на бок, потом встает. Вращая вытянутыми вперед лапами, подходит к самому краю стола.
– Я иду! – ликует он. – Конечно, движения пока не скоординированы… Сказывается ревматизм в прошлом. И потом, откровенно говоря, включить двигательные реакции в молекулах плюша – нелегкая задача… С нервами и мышцами гораздо удобнее, во всяком случае, такое конструктивное решение стоит признать более удачным.
– Но… как вы это делаете?
– Технически? Я представляю себе, что иду, проецирую этот образ, а электромагнитные волны передают информацию молекулам лап, как если бы медведем дистанционно управляли с помощью пульта. Только пультом являюсь я сам и управляю собой изнутри, если так понятней. Это называется власть духа над материей.
Подойдя к краю стола, он разбегается, гордо объявив, что ему достаточно просто визуализировать приземление. Потом прыгает вниз. И с размаху шмякается об пол.
– Вы в порядке, профессор?
– Нет, – ворчит он, уткнувшись носом в ковер.
– В следующий раз визуализируйте заодно и парашют.
Он пытается встать, но отказывается от этой затеи. И сидит, облокотившись на лапу.
– Ладно, на чем я остановился? Ах да. Записывай: таким образом, нужна мощность семь на десять в двенадцатой степени протонов в цикле, чтобы высвободить энергию в семьдесят миллиардов электронвольт.
– Для чего?
– Для протонной пушки. Когда ты меня убил, я как раз заканчивал разработку этой идеи; теперь мы сконструируем ее вместе.
– Пушку? Но это же нехорошо! Я не хочу делать оружие!
– Это не оружие, а средство спасти человечество.
– Но оно уже в безопасности, профессор! У нас есть Аннигиляционный экран!
– Вот именно. Его надо уничтожить, и ты мне поможешь.
Я нервно сглатываю. Этот медведь просто ненормальный. Вероятно, так оно и бывает: когда ты умер, всё кажется каким-то сном. Придумываешь себе всякие истории и уже не знаешь, где правда, где ложь. Дружески, не торопясь, я напоминаю ему реальность: когда другие страны собирались на нас напасть, Освальд Нарко Первый, дедушка нашего нынешнего президента, решил объявить Превентивную войну без предупреждения. Он приказал запустить баллистические ядерные ракеты во всех направлениях и сразу после этого развернул Аннигиляционный экран над нашей страной, который укрыл нас, как колпак. Мы стали называться Объединенными Штатами и с тех пор спим спокойно. Остальной мир стерт с лица земли, но даже если бы случайно выжившие попытались запустить в нас ракету, Аннигиляционный экран немедленно уничтожил бы ее.
– Это пропаганда, – бурчит медведь. – На самом деле всё не так. Всё гораздо страшнее.
– Но это же вы придумали Аннигиляционный экран!
– Я дал себя обмануть, как и другие, и жалел об этом всю жизнь. Теперь твой ход. Или ты мстишь за меня и спасаешь человечество, или довольствуешься тем, что едешь в лагерь лечебного голодания в ожидании конца света. Выбирай.
Я смотрю на плюшевого медведя и молчу.
– Записывай, – продолжает он. – Проект электронпозитронного коллайдера мощностью в один тераэлектронвольт…
– Я хочу спать, продолжим завтра.
– И речи быть не может! Завтра понедельник, ты будешь весь день в коллеже! У меня нет времени.
– У меня тоже.
Я хватаю его, кладу в бельевой шкаф на груду футболок и закрываю дверцу.
– Не смей! Слышишь? Ты передо мной в долгу! И перед человечеством тоже! Время не ждет! У меня нет руководства по эксплуатации загробного мира! Вдруг завтра я забуду всё?! Если мы не сконструируем протонную пушку, чтобы разрушить Аннигиляционный экран, человечество погибнет из-за одного придурка!
Я открываю шкаф, заклеиваю медвежью пасть пластырем и запираю дверцу на ключ. Хотя бы ночью можно поспать спокойно? Наконец я залезаю в постель и выключаю лампу.
Минуты текут, а сон не идет. От мысли, что призрак сейчас бьется в своей плюшевой темнице, внутри всё сжимается. Меня беспокоит не стук за дверцей. Он может колотить своими лапками сколько угодно – мне достаточно накрыть голову подушкой, чтобы не слышать, а дверцу он ни за что не откроет. Но если убитый профессор сумел оживить плюшевую игрушку, чтобы наладить со мной связь, значит, его дух вполне может выйти из медведя, войти в подушку и просверлить мне мозг говорящим пухом и пером!
Я включаю лампу и поспешно отпираю дверцу шкафа.
– Ай! – орет медведь, когда я срываю пластырь.
Этот крик меня немного успокаивает. Если ему больно, значит, он всё еще составляет с медведем одно целое.
– Предлагаю сделку, профессор. Вам надо поговорить, а мне – поспать. Будем делать это одновременно.
– Ты будешь записывать во сне, дурень?
– Может, хватит меня оскорблять, чучело плюшевое? Я ложусь спать, а тебе даю магнитофон: ты наговариваешь на пленку, а завтра, если окажется, что ты всё забыл, прослушаешь запись.
– И как, по-твоему, мой голос можно записать на подобном устройстве?
– Сообрази сам! Тебе же удалось заставить говорить медведя.
– Но у меня нет времени для…
Одной рукой я зажимаю ему рот, другой беру магнитофон и иду в ванную в конце коридора, где запираю обоих в аптечном шкафчике, чтобы до меня не доносилось ни звука.
Я уже готов снова лечь, как вдруг меня осеняет. Если я хочу окончательно решить вопрос, то это надо делать сейчас или никогда. Я снова спускаюсь с лестницы, медленно и бесшумно. Подхожу к двери столовой и прижимаюсь к ней ухом, затем так же прислушиваюсь у двери спальни. Судя по всему, родители спят.
Я проскальзываю в рабочий кабинет отца – это кладовка, в которой раньше хранились швабры. Швабра стоит там и сейчас, между компьютером и принтером. Прикрыв дверь, я набираю номер, который объявили по телевизору. Если я разбужу всю семью покойника, тем хуже для них, но завтра я буду весь день в коллеже и не успею позвонить.
– Служба пропавших без вести, слушаю вас.
Я кладу трубку. Выходит, это не домашний телефон, и я попал на копов. Не может быть и речи, чтобы всё им рассказать. Я пытаюсь найти в электронном справочнике адрес ученого, поселившегося в моем медведе. Бесполезно. Пиктона там нет. Он в закрытом списке, где собраны все знаменитости, как я сразу не догадался? Тем хуже; остается одно: послать медведя почтой в Академию наук. Пусть там сами с ним разбираются. А если они решат, что их разыгрывают, и выбросят своего коллегу на помойку, это не моя проблема.
Я уже собираюсь переписать адрес секретариата Академии, как вдруг у меня начинает колоть в животе. Я не имею права так поступать. Я не могу избавиться от профессора, просто отмахнуться от него. Я в долгу перед ним, он прав. Единственное верное решение – и оно первым пришло мне в голову – это вернуть его родным, чтобы они успокоились и позаботились о нем. Ведь он сам сказал: когда домашние узнают о его смерти, они установят контакт с его сознанием. И тогда им останется только записать его расчеты и по ним сконструировать пушку: это уже их забота. Но если они вздумают сдать меня полиции как убийцу, я пригрожу им обвинением в терроризме за то, что они хотят проделать дыру в Аннигиляционном экране. Вот так-то.
Мне сразу становится легче. Благодаря этой идее с шантажом я вновь чувствую себя в согласии со своей совестью. Единственная проблема – узнать, где живет профессор. Очевидно, в Лудиленде, недалеко от пляжа и казино, учитывая, что он вышел прогуляться, а в его возрасте не ходят на марафонские дистанции. Вот только мне совсем не улыбается перспектива ходить из дома в дом с плюшевым медведем, спрашивая жильцов, не их ли это родственник.
Внезапно на меня находит озарение. Книга! Пиктон же написал книгу! И мой отец читал ее, когда был цензором. Значит, у него должна быть справка. Я щелкаю мышкой по папке «Робер Дримм», где хранятся личные материалы. Появляется надпись: «Введите пароль». Вот тебе и на! Наугад печатаю свое имя. Безрезультатно. Имя моего воздушного змея. Никакого эффекта. Дату моего рождения. В точку! Я запрашиваю список книг, прошедших цензуру, и щелкаю по строчке «Пиктон Лео».
Страница, посвященная моей жертве, сразу открывается. Я угадал: адрес указан между его дипломами и заболеваниями. Лудиленд, проспект Президента Нарко Третьего, 114. Из любопытства я прокручиваю текст вниз. И от прочитанного холодею.
9
Сюжет книги: изобретатель мозгового чипа и Аннигиляционного экрана Лео Пиктон хотел спасти общество от непредвиденных эффектов своих изобретений, обвинив Бориса Вигора, министра энергоресурсов, в том, что тот украл эти изобретения.
Объективные причины для цензуры: клевета, паранойя, разглашение государственной тайны, угроза общественному порядку, национальной безопасности и благополучию населения.
Официальные причины: слабоумие.
Решение комитета: публикацию запретить, книгу уничтожить. Отказаться от юридического преследования автора во избежание любой публичности. С целью пресечь возражения Пиктона наградить его орденом Рулетки за заслуги перед наукой, повышенной пенсией и гарантировать национальные похороны.
С тяжелым сердцем я выключаю компьютер и неслышно возвращаюсь в свою комнату. Теперь я смотрю на дело совершенно иначе, и мне это не нравится. Я испытываю нечто вроде чувства солидарности. Лео Пиктона заставили молчать в его собственных интересах, потому что он говорил правду; меня хотят ради моего же блага сослать в лагерь лечебного голодания, потому что я слишком толстый. Вот забавно, как могут быть похожи люди из двух самых далеких слоев общества. Я беден, он богат; я мальчик, он старик; я живой, он мертвый, и всё же я чувствую наше сходство.
В ванной я открываю аптечный шкафчик и нахожу профессора между упаковкой аспирина и сиропом от кашля, с магнитофоном в лапах, в том же скрюченном положении, в котором его оставил. Я шепчу:
– Ну как?
– Ничего не вышло, – вздыхает он. – Мой голос не записывается.
Действительно, красная сигнальная лампочка автоматической записи загорелась, когда я произнес «Ну как?», и погасла, когда он мне отвечал. Вообще-то это логично. Я слышу профессора Пиктона, потому что думаю о нем, испытывая чувство вины, а магнитофону на это наплевать, он ничего такого не чувствует.
– Я ведь совершенно одинок, – говорит он.
Я открываю рот, чтобы возразить из вежливости, но вдруг вижу то, от чего слова застревают в горле. Из его пластмассового глаза выкатывается слеза и извилисто течет по шерсти, постепенно впитываясь в нее.
– Как вы это делаете?
– Как я делаю что?
– Из вас жидкость вытекает. Ее же нет в игрушке.
– Я описался? – пугается он.
– Нет, вы плачете.
Он отворачивается. Его морда, покрытая шерстью, выражает одновременно тоску, беспомощность и чувство собственного достоинства. Я повторяю немного мягче:
– Как вы это делаете?
– Не знаю. Должно быть, ощущение грусти разложило молекулы водорода и материализовало слезу, чтобы ты почувствовал ко мне жалость. Какое свинство эта смерть! Какое унижение… Будь я жив, никогда не распустил бы нюни перед мальчишкой. Ладно, беги. Закрой дверцу и отправляйся спать.
– Если для вас это действительно важно, давайте я запишу что-нибудь…
– Я уже не хочу! Иди спать, говорю тебе! И перестань меня жалеть: терпеть этого не могу!
Я не возражаю. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, я беру кусок туалетной бумаги и, вытирая с морды невесть откуда взявшиеся слезы, безжалостно и даже с ехидцей советую ему лечь баиньки, как положено послушному плюшевому медвежонку.
В ярости он тычет мне лапой в глаз. Я инстинктивно отшвыриваю его от себя – и попадаю прямо в унитаз. Какую-то долю секунды я борюсь с искушением спустить воду. Потом вытаскиваю медведя обратно и сконфуженно прошу прощения, добавив, что завтра утром обязательно спрысну его одеколоном, прежде чем вернуть родным.
– Родным? Еще чего! Я всю свою жизнь пытался удрать от этих идиотов! И не собираюсь после смерти торчать в манеже вместе с игрушками моих внуков!
– Нельзя быть таким эгоистом! Надо же их успокоить…
– Ты думаешь, их успокоит дедушка, ставший ершиком для унитаза? К тому же я их разорил своими исследованиями, только они еще этого не знают. И я предпочел бы не присутствовать при вскрытии завещания – я оставил им в наследство одни долги.
– В любом случае вы мой медведь, и это я решаю, что с вами делать.