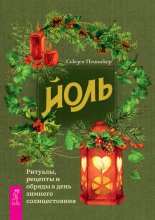Дневник Волкова Паола

Смотрел сцены из разных спектаклей, а также концертные номера полупризрачного еврейского театра. Мощное впечатление оставил худрук: жирноватый, большеголовый, волосатый иудей, который всё умеет и всё делает блестяще: играет на рояле, поет, пляшет, лицедействует, разговаривает, хотя последнее — с какойто провинциальной спесью. Он сам москвич и все актеры москвичи, а театр считается биробид жанским — очередной вольт наивной, бессмысленной, непонятно на кого рассчитанной хитрости. Изумительная музыка — мелодичная, изящно — печальная, какойто нескончаемый нежный стон; поразительно пластичные танцы, а «Лошадка» — такой номер, равного которому нет в мире. Ко всему еще «лошадка» дивно одета женой Ильи Глазунова: поперечно — полосатое трико с меховыми вставочками подчеркивает гибкость молодого, упругого, ловкого тела артистки. А плюмаж на гордой головке, а чудный хвостик над круглой улыбающейся попкой! Я не видел более эротического зрелища, причем без тени похабства. Впечатление такое, будто побывал в сказочной стране. Неужели это можно увидеть у нас, в нашем тупом и мрачном городе? Какое дерьмо рядом с этими странствующими евреями театр Любимова — плохие актеры, надсадная, заимствованная режиссура, копеечное поддразнивание властей. А «лошадка» вообще над властью, она отрицает ее каждым взбрыком, вскидом полосатой попки, встрясом плюмажа.
На днях случайно узнал, что толстый худрук был любовником жены теннисиста Лейуса, который задушил и расчленил неверную. Говорят, расправой над изменницей Лейус спасся от валютного дела, грозившего ему куда худшими неприятностями, ибо задушил он частное лицо, а долларовой спекуляцией обесчестил государство.
Дорогие папочка и мамочка, Ваш сын, которого вы так легкомысленно зачали в 19–м, так серьезно пытались выкурить, а по нежелательному появлению на свет пылко возлюбили, готовится стать атомной пылью.
Дико, родившись при извозчиках, свечном свете в деревнях, керосиновом — на даче, умирать от нейтронного взрыва. Наука чересчур быстро развивается.
Так ли «блажен» тот, «кто посетил сей мир в его минуты роковые»? Думаю, что ответ должен быть отрицательным.
Как горестно и страшно, что гдето за Марьиной рощей медленно и неотвратимо уходит Лена. Она почти без сознания, бедная. Но, слава Богу, не чувствует боли, если только мне не врут. Господи, Боже мой, и до этого пришлось дожить. А ведь были улочка Фурманова и Лопухин переулок, и маленький дом на Остоженке, и молодость, и жалкие радости посреди кромешного мира, и не оставлявшее меня желание, что не помешало мне поступить с ней так жестоко.
Дробно и много сплю. Выносливости никакой. Над самой пустой работенкой, вроде рецензии, просиживаю больше недели. Скромная повесть о капельмейстере Голицыне, давно задуманная, представляется непосильной тяжестью.
Сразу, без разгона началась зима. Со вчерашнего дня валит густой снег, метель. Порывы ветра сдувают снег с деревьев, и он вскипает какимто дымчатым облаком, закрывая даль. Гулял по неуютному нашему микромиру, видел перепуганную за своих сыновей Дашку. У нее был вид матери времен войны, конечно, не плакатной, а истинной, горячей от боли. Все делают вид, будто никакой войны нет. Война идет уже не первый год, бессмысленная до помрачения рассудка, и убивают каждый день мальчиков, да не просто убивают, а калечат, ломают позвоночники камнепадом, оскопляют и ослепляют, зверствуют — с полным правом народа, подвергшегося коварному нападению. Какое смятенное лицо было у жалкой Дашки! А протестовать она должна против нападения на Гренаду, о которой никогда не слышала. Те же, что слышали, уверены, что это навязшая в зубах светловская «Гренада, Гренада, Гренада моя!».
Она сказала о том, что стало ясно и мужичью: «Ничего у энтого не вышло, народ уж ничем не проймешь, воруют, пьют и прогуливают по — прежнему». И всетаки, наш новый Заибан не теряет надежды привести народ под конвоем в светлое будущее.
Читаю прелестные письма дочери Марины Цветаевой. Как глубоко проникла Марина Ивановна в своих близких, как пропитались они «духом Цветаевой». Они и думали и говорили по — цветаевски. Ну, предположим, у дочери это наследственное, а у сестры — там, где она на подъеме? Ее легко спутать с Мариной, а ведь она человек бытовой и порядком осовеченный. Аля же просто дубликат матери. Ее письма к Пастернаку — это неизвестные письма Марины Ивановны; совсем по — Марининому звучит обращение «Борис», а налет влюбленной требовательности и вся игра на равных, на которую Аля не имела морального права! Видимо, спасая остатки своей личности, Эфрон пошел в шпионы и террористы, вступил в партию. Хоть через подлость, через убийство, но сохранить чтото свое, мужское, ни с кем не делимое. Он не просто негодяй, он фигура трагическая, этот белоглазый Эфрон.
Марина Ивановна и Ахмадулину на какоето время подмяла под себя. Та общалась с Ахматовой, не обладавшей этими змеиными чарами; поэтически, казалось бы, делила себя между двумя, на деле же, была в полном плену у Цветаевой, у ее интонации, даже синтаксиса. И спаслась приверженностью к Лиэю, как называл это божество Аполлон Григорьев.
Интересно, каким психологическим трюком сумела Ариадна Сергеевна обелить для себя отца? Ведь она, в отличие от матери, обязана была всё знать. Анастасия Ивановна — просто старая советская приспособленка, приживалка с горьковского подворья, но Аля — другая, чистая. Как ловко умеет человек оставаться в мире с собой и договариваться с Богом!
Наши бездарные, прозрачно — пустые писатели (Софронов, Алексеев, Марков, Иванов и др.) закутываются в чины и звания, как уэллсовский невидимка в тряпье и бинты, чтобы стать видимым. Похоже, что они не верят в реальность своего существования и хотят убедить и самих себя, и окружающих в том, что они есть. Отсюда такое болезненное отношение баловня судьбы Михалкова к премиям. Медали должны облечь его тело, как кольчуга, тогда он будет все виден, тогда он материален. В зеркале вечности наши писатели не отражаются, как вурдалаки в обычных зеркалах.
Сегодня, гуляя, видел, как возле магазина какойто щуплый и задиристый мужик сшиб с ног другого и неумело, размашисто лупил его по башке, шее и спине. Тот не пытался встать с покрытой первым девственным снегом земли, рядом лежала его фетровая шляпа. Впечатление было такое, что он не возражал против этих вялых и не слишком болезненных побоев. Окружающих экзекуция тоже не занимала. Когда же усилок отошел поздороваться с другими алкашами, притащившимися в магазин, пострадавший поднялся, нахлобучил шляпу и с грязной спиной деловито зашагал по своим делам, тяжеленькая авоська оттягивала ему руку. Ни возмущения, ни обиды в нем не ощущалось. Водка («андроповка») осталась при нем, бутылки не побились, и он бодро шагал к своему уютному, теплому дому, глава семьи, отец и муж, старый производственник, отличник труда и обороны, строитель коммунизма.
А до этого я видел, как двое подростков третировали своего товарища. Уж не знаю, чем он им не угодил, но они время от времени пытались сшибить его с ног, а когда он отбегал, кидали в него чем попало. Он всё принимал, как должное. Мне мучительно видеть даже не самое издевательство, а гнусную покорность жертвы. Русские люди всегда знают за собой какуюто вину и безмолвно принимают наказание.
Прочел роман Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом». Странное впечатление. Написано несомненно умным и талантливым человеком, а чтото не получилось. Раздражает его кокетливая игра с языком, который он недостаточно знает. Но дело не в этом, среднехороший редактор без труда устранил бы все огрехи. Он не может выстроить характер. Все герои сшиты из ярких лоскутьев, словно деревенское одеяло, ни одного не ощущаешь как живой организм, и налиты они клюквенным соком, не кровью. Много хороших описаний, превосходных мыслей, органично введенных в ткань повествования, а ничего не двигалось в душе, и самоубийство героя не только не трогает, а вызывает чувство неловкости, до того оно литературно запрограммировано. Так много написать и ни разу же коснуться теплой жизни!..
Позавчера выступал на заседании Клуба книголюбов, посвященном Асиной «Книге книг». Минут двадцать говорил о ней так, как никто не говорил ни о Сафо, ни о Жорж Санд, ни об Ахматовой и Цветаевой. Под конец, чувствуя, что становлюсь смешон вместе с моей героиней, в крайне осторожной форме сказал о чрезмерном захлебе, с каким она пишет о всех деятелях культуры, независимо от их величины и значения. Нельзя же писать об унылом Перове теми же словами, что и о божественном Леонардо. Это то, что Чехов называл «хмелеть от помоев» (о Стасове). Из всего мною сказанного Ася запомнила только эти слова и смертельно обиделась. Но я рад, что сказал. Ася открылась мне с неожиданной стороны: подхалимка и деляга. В разгар прений ввели под руки в дым пьяную старуху Прилежаеву. Она кутила в связи с присуждением ей премии Ленинского комсомола. Гиньоль! Ася только что на колени не стала при виде этой фантастической комсомолки.
После этого Ася и «Ювочка» Яковлев в ресторане подымали кубки во здравие комсомольской праматери. Оказалось, что умный, талантливый и честный Яковлев глубоко прези — рает Асю и не может взять в толк, почему я с ней вожусь. Она платит ему тем же: стукач, убийца, бездарь. Вообще, советские писатели и «ученые» в области искусства относятся друг к другу, как челядь: каждый истово презирает другого, считая коллегу разбойником и вором и не понимая, как только барин его терпит.
Ася мне недавно сказала: «Это я с тобой такая милая, а вообщето я стерва». Тут не было ни игры, ни преувеличения. Покончено еще с одной иллюзией. Чистая и восторженная энтузиастка оказалась обычной карьеристкой.
А ЦДЛ по — настоящему страшен. Грязные, засаленные старые официантки — жулябии плохо и хамски обслуживают грязных скупых злобных оборванцев — жуликов от литературы.
Возле стола администраторши сидел некто страшный с плохо забинтованной головой. Торчали неопрятные клочья ваты, бинт был захлестнут и вокруг шеи, жалко, по — собачьи глядели из серой марли насмерть раненые глаза. Это писатель, которого я по ошибке принимал за спившегося, постаревшего и охромевшего Калиновского. Официантка сказала мне, что ему сделали какуюто чудовищную операцию, и сейчас он очень страдает, что никто не хочет водить с ним компанию. Я и раньше не замечал, чтобы он был окружен друзьями и поклонниками, но ему кажется, что прежде все искали его общества. Он бесконечно жалок, но и противен в своем унижении. Случилось несчастье, заползай в нору и зализывай свои раны, зачем ты навязываешь другим свои язвы, нельзя требовать от измученных людей подвига доброты, сострадания и небрезгливости. На кого я злюсь — на него или на себя, что не уподобился доброму самаритянину?
Замечательная встреча с Камшаловым в «Молодой гвардии». Обдриставшись на «Председателе» (вместо того чтобы помочь нам отметить двадцатилетний юбилей фильма, он сделал попытку запретить фильм, ставший классикой), Камшалов испугался моего появления в редакторском кабинете. Держался льстиво, робко и предупредительно. Но когда, прощаясь, я по ошибке взял его чемоданчик, вместо своего, точно такого же, раздался железный окрик (следователя, прокурора, конвойного): берите свой! С перекошенным лицом он вскочил на ноги. Я со смехом сказал, что использовал старый кинотрюк, дабы узнать его тайны. Он не улыбнулся. Чтото волчье появилось в его широкой, наигранно простодушной морде. До чего же художественно завершенным было это самораскрытие.
А всё дело было в том, что его кейс был набит бутылками водки.
Приехал в Узкое. Тут всё осталось неизменным, только «Березы» Бакста переместились с одной стены на другую. Те же нянечки, те же сестры, та же безумная, с горящими глазами Татьяна Александровна, тот же пузатый врач Борис Семенович у бильярда, той же серой мышью скользнула с чайником в руке фиктивная жена девяностолетнего математика, те же ученые шаркуны — оборванцы в коридорах, — одуряющее ощущение, что время остановилось. Есть в этом что-то жуткое и вместе — привлекательное. И охромевшая библиотекарша ничуть не изменилась после больницы, и по-давешнему несу я в номер мемуары Хвощинской. Наверное, это хорошо, недаром англичане культивируют такую стабильность, считая, что она сохраняет нервную систему, но в нашей жизни — неизменной и неподвижной в целом и утомительно динамичной в мелочах — это производит давящее впечатление.
Спал плохо, в кошмарах снов легко вычитывается страх за Аллу, снова вверившую свою жизнь коварству воздушного океана.
Опять бездельничал. Играл на бильярде, ходил в парикмахерскую. Понял, почему парикмахеры самые глупые и пошлые люди на свете — они никогда не выключают радио. Эго была странная парикмахерская — из фильма ужасов. Меня обслуживала сонная расползшаяся старуха в глубоком склеротическом маразме, усиленном глухотой. На самое простое движение она затрачивала несколько минут. Томительно и страшно было смотреть, как тяжело давались ей такие несложные действия, как налить воду в стаканчик, направить бритву, повязать салфетку. Но работала вполне уверенно, еще раз подтвердив, что склероз щадит профессиональные навыки. При этом она была мрачно — игриво настроена и всё пыталась выяснить, зачем я бреюсь и стригусь ни с того, ни с сего. Жену, небось, ждете? Я сказал, что жена улетела в Армению. Значит, дамочками санаторными увлекаетесь? Нашим «дамочкам» я гожусь в сыновья. Не может этого быть, у вас ктото есть. Бремя от времени она отлучалась в прилегающее помещение, чтобы покалякать с девушкой — гигантом. То была парижская Рита из Венсенского леса — «самая большая женщина в мире». Она носила короткое платье, из-под мятой юбки обнажались чудовищные ляжки, каждой достаточно, чтобы построить женщину средней упитанности. А лицо красивое и разговор нормальый. Потом откудато возник парикмахер вдвое толще ее, довольно молодой, видимо, ее брат. Кто же производит таких монстров, какие Голиафы? Мне было здорово не по себе, не люблю когда меня заигрывают в брокенские игры. Ну вот, сказала моя парикмахерша, сдирая с меня «пеньюар» — так красиво называется грязноватая простынка, — теперь и к дамочкам можете идти.
Ходил гулять и вышел к Ясенево. Одуряющее однообразие девятиэтажных коробок. До чего плохо и бездарно устроились люди на земле. Животные заняты поиском пропитания, устройством логова и сезонной любовью. Человек, в конечном счете, занят тем же, только любовь не лимитирована. Отличают нашу жизнь от животной, делая ее значительно хуже, лишь водка, папиросы и телевизор. Животные не знают войн, мы же беспрерывно воюем, а в антрактах измышляем новые, все более зверские способы уничтожения друг друга. Но нельзя же думать, что причина войн коренится в том поверхностном отличии от животных, которому мы обязаны нашим пороком. Нет, природа выдумала нас для познания самой себя. Делаем мы это, как и все остальное, из рук вон плохо, и природа нас время от времени убирает, то с помощью нашествий, то войн, то стихийных бедствий, и нанимает других, столь же бездарных слуг. Похоже, сейчас могучий органический и неорганический мир постигло полное разочарование, — институт, именуемый «человечество», будет закрыт навсегда. А земля, отмывшись в воздушном океане, поплывет дальше в своей изначальной чистоте.
Сколько бы ни орали о сохранении мира, сколько бы ни проклинали войну, а на дне души никому не хочется пропустить термоядерный фейерверк. Такого зрелища не было и не будет. К тому же так приятно, что тебя никто не переживет, а главное — получат по заслугам зажравшиеся, те, кому достался весь пирог.
На всех балконах многоэтажного Ясенево развешано жалкое, заношенное, проссанное белье, половички, коврики, какието цветные тряпки — печальные флаги полной капитуляции.
Четверг не подарил мне никакой серьезной думы. Верстка вышибла меня из колеи. Тяжело править набор книги, обреченной на растерзание цензором. (Так и случилось: из двадцати пяти печатных листов осталось шестнадцать.)
Ходил в лес. Много лыжников — по — спортивному хорошо одетых, очень умелых, длинноногих. Это всетаки совсем иная юность, чем выпавшая мне на долю. Мы были под стать приютским детям из убежища им. Андерсена — Нексё: полугодные, низкорослые, неухоженные оборванцы. И как странно, что я совсем не знаю нынешних молодых, они дальше от меня, чем австралийские аборигены. От их опрятного облика веет вызывающей бездуховностью.
(В этот день — как я узнал лишь в канун Нового года — скончалась Лена.)
Вожусь с версткой. Настроение неважное. Ходил гулять с доктором биологических наук — океанологом, дамой средних лет, объехавшей полмира, избороздившей все моря и океаны. Почемуто от нее не веет свежестью пространств. Она не лишена мозгов, даже симпатична, и всё равно — духота. Поразительная неосведомленность во всём, что не связано впрямую с ее делом. Считала, что учителем Нерона был Аристотель (!). Никогда не сышала ни о графе Баранове, ни о рок — опере, сводящей с ума всех московских образованцев.
Но вышколена на диво. Ни одного вольного высказывания, всё по газете, полный отказ от собственного мнения, умение выключать слух, если разговор вдруг «уклонился» в сторону. По — моему, мы близки с созданию образцового гражданина социалистического общества. Головы, души, моральные ценности — всё сдано на склад и едва ли когда востребуется. Поразительное свойство у таких людей: говорить без умолку ни о чем. Смысл этой трепотни — не дать коснуться серьезных тем. Этих картонных людей ничто не мучает, не заботит, у них нет сомнений, колебаний, желания хоть както разобраться в окружающем. Они запрограммированы, как роботы. Этим оплачено право беспрепятственно ездить за бугор; и какого черта они рвутся туда, где им всё не нравится? Ну и сидели бы в своем раю. Ведь не только изза джинсов, ползунков, дамских сапог и электротоваров рвутся эти праведники за кордон, хотя магазины и стоят на первом месте. Естественный для человека порыв к свежему воздуху превратился у нас в источник дополнительного угнетения, обуздания и принуждения. Ради того чтобы ездить, люди идут на отказ от собственной личности, на немоту, на предательство.
Неожиданно явилась Надя и привезла с собой симпатичного болгарского журналиста Любе на Георгиева, Олю Кучеренко и какуюто рыжую бабу из Грузии. Оля поразительно хорошо сохранилась. Ей лет пятьдесят пять, а у нее легкая, стройная фигура, нежный цвет гладкого (без подтяжки) лица, живые блестящие глаза. Беспредельный эгоизм замечательно сохраняет молодость. Смерть мужа, уход любовника, общее неблагополучие — ничто не коснулось забронированного сердца Оли. Надя не так юна и прелестна, но человек добрый, даже растроганный. Сказала, что помнит каждую малость наших далеких дней. Странно, но я запал в некоторые души. И еще есть в ней хорошее — она несет с собой праздник. Ее Москва — это не вонючая помойка, которая так пугает нас с Аллой, а дивный город, исполненный веселья, тайны, соблазнов. Я понял, как мог терпеть ее чуть не целый год. Она — с карнавала, а все остальные мои знакомые — из морга. Они просидели у меня часа полтора, мы не пили, только разговаривали — легковесно, поверхностно, но тепло осталось. Даже чемто поэтичным пахнуло — безбытным, беззаботным. Болгарин привез прекрасно изданное в Пловдиве «Царскосельское утро», которое я тщетно пытался получить через паразитарный ВААП.
Всетаки тяжеловато мы с Аллой живем. Наши сборища почти всегда надсадны, не легки и не веселы, и слишком много оберегающих указаний, профилактической опеки, напоминающей о старости, болезнях, расплате за легкомыслие. Наверное, так нельзя, хотя изредка надо быть беспечным.
Дурацкий день. Три с половиной часа у меня сидела журналистка из «Известий», и я бесстыдно, в который раз, талдычил о школьной дружбе, об измепе футболу ради литературы, о советском рассказе, который поддерживается только изнемогающими усилиями Соротокиной и Наумова. С огромным трудом удержал на устах готовое сорваться имя Беломлинской — Платовой, которую все считают моей выдумкой. А она — номер 1. Зачем я так растрачиваю время и силы? Что у меня — вторая жизнь в запасе? До прихода журналистки я два часа правил другое интервью — для «Семьи и школы». Великий воспитатель, Песталоцци, сукин сын! А потом поездка в Москву, возня с версткой, никому не нужное выступление, повесть заброшена. А все дело в том, что я беспокоюсь за книгу, за новые рассказы, за всё литератур ное будущее, поэтому мне кисло, неуверенно пишется, поэтому меня тянет к сублимации работы. Надо, взять себя в руки. Вечно я кудато заваливаюсь: то в кинохалтуру, то в телерадиовыступления, сейчас вот интервьюерная горячка. Как мне не стыдно срамить своим равнодушным бормотанием детство, мать, школьных товарищей, Чистые пруды? Нельзя же так опускаться.
Сегодня гнилой день: дождь не дождь, какаято квелая сочь из серого упавшего на деревья неба, гололед. Сразу стал хуже себя чувствовать. Не сердце, даже не давление, а слабость, бескостность какаято, не было сил пойти погулять. Но работать силы были, и я полдня просидел над интервью, а полдня — над мерзким режиссерским сценарием Палашти. До чего же упрямый и душный человек! После всех разговоров, скандалов, ссор, объяснений опять всё сделал по — своему. А может, я зря на него злюсь? Он просто не может иначе. От совершенной неспособности выйти из своих пределов. Он от чистого сердца разводит всю эту низкопробщину. Как только у меня прорывается высокая нота, он затыкает уши и старается заглушить меня голосом ярмарочного Петрушки. Но есть, конечно, и чисто режиссерское стремление к самоутверждению, неистребимая ненависть к сценаристу. Тоска зеленя!.. И непонятно, что делать. Все слова сказаны, все доводы приведены, все оскорбления выплюнуты, остается плакать или… плюнуть. Всё же я сделаю последнее усилие: избавлюсь от самой махровой пошлости. Вторая половина, где он сблизился с литературным сценарием, куда опрятнее.
Качество интервью зависит на девяносто процентов от того, кто его ведет, на десять от того, кто его дает. Катаеву в «Известиях» здорово повезло. С ним имел дело талантливый и умный журналист. Недоброе и фальшивое катаевское брюзжание обрело тон достоинства, которое начисто отсутствует и в его жизненном поведении, и в его нынешних писаниях.
Ездил в Москву. Сквозь чудовищный туман, мокрядь, серую склизкость. Мрачный путь. Мрачный город. Мрачная полуразрушенная ремонтом квартира. Удручающие послания из Союза писателей: какието призрачные отчеты, никому не нужные обсуждения, бесконечные перевыборы в недейственные органы. Впрочем, так ли уж все это никому не нужно? Достаточно открыть бюллетень МО СП, чтобы убе диться в обратном. В результате липовых мероприятий, пустого шума, грязной суеты зачинщики этих «мероприятий» разъезжаются по разным странам Европы с мифическими целями и реальной пользой для себя, своих жен, детей и внуков. Плащи, кожаные пиджаки, вельветовые джинсы, магнитофоны, ползунки — вот навар пленумов, заседаний, совещаний и перевыборов. На фоне этого циничного разгула уничтожают гнездо Пастернака и никому, кроме надорванной Ахмадулиной, до этого дела нет.
До чего убого выглядят наши издательства и редакции журналов. Сразу видно, что они непричастны серьезной жизни контингента, тех, кто пользуется кремлевской больницей и кремлевской столовой. Марков, Бондарев, Маковский, Иванов и иже с ними не затрудняют себя посещением издательств и редакций, что приходилось порой делать даже Шолохову, не говоря уже о Симонове или Льве Толстом. Они всё имеют с доставкой на дом и печатают их в иноземных типографиях, на веленевой бумаге и облекают шагреневой кожей. Фантастически изменилось наше бытие, в котором прежде при всем ножебойстве существовало некое подобие этического начала (пусть лицемерное), сейчас — откровенный разбой.
Наша грубая, примитивная и назойливая пропаганда достигает цели. «Врите, врите — чтонибудь да останется», — мы взяли это на вооружение. Нет ничего проще управления с позиции силы, особенно когда этой силе ничего не противостоит. Талдычь без конца одно и то же, рассудку вопреки и правде наперекор, и народ, ослабленный страхом, с бациллой рабства в крови, примет эту ложь за истину, большей частью — искренне. Ну а для тех, кто не сразу принял, есть удавка. Так всех убедили, что американцы умирают от голода. Массажистка мне на полном серьезе сказала: «У нас денег полно, а купить нечего, а у тех всё есть, а купить не на что». Потом, правда, добавила задумчиво: чегойто безработные одеты больно хорошо. И снова провалилась в свой рабский идиотизм. Народу и не нужно другого строя. Как испугались в исходе шестидесятых тощего призрака свободы и с какой охотой кинулись назад в камеру, где не надо ничего решать, не надо выбирать, не надо отвечать за свои поступки, где всё отдано надзирателю, а твое дело жрать, спать, срать, гулять, трепаться о погоде с однокамерниками, мечтать о выпивке и отрабатывать легкий, необременительный урок. Воистину — быдло. Был ли когданибудь народ насто лько покорный, безмозглый, доверчивый, несмотря на все обманы? И всетаки, это не врожденная безмозглость, а сознательный отказ от ума — из страха перед удавкой.
Наконецто из ножен извлекли самое старое и заслуженное оружие: бдительность. Неважно, что оно проржавело, затупилось, другого нет, вернее, есть, но оно не по руке пасущим стадо. И ведь сами отлично знают, что оружие это легко обращается против тех, кто его поднял, но окостенелый рассудок не может изобрести ничего нового. Бдительность, экономия, оптимизм — три цвета нынешнего времени. На деле и «е: подозрительность, разгильдяйство, обреченность.
Выступал в Калининграде. До этого продиктовал Ахмадулиной письмо по поводу пастернаковской дачи. Умеет она очаровывать и обманывать людей. Эта интонация плавящейся доброты, беспомощности, доверия, мольбы о снисхождении, и из темных зрачков нет — нет да и глянет дьявол. Я чувствовал по телефону этот нечистый зырк. Но люди, видевшие ее лишь в искусственной душевной прибранности, наотрез отказываются верить в ее холод, жестокость, самомнение, беспощадность ко всему, что не она. Ох, и умеет же она обманывать!
В Калининграде все обычное: смесь убожества, трогательности, энтузиазма. И ужасно много некрасивых людей, особенно, женщин. Как выродился физически русский народ!
Сегодня услышал последние светские новости. Группа грузинских юношей и девушек (в большинстве — дети привилегированных родителей) пытались угнать самолет. Убито несколько человек команды, ктото из пассажиров, трое угонщиков, один, вроде бы, застрелился. Всего погибло восемь человек. Расстрелян директор крупнейшего Елисеевского магазина. Директор Смоленского гастронома застрелился сам. Еще трое выдающихся московских гастрономических директоров арестованы. Есть и достижения: снижены цены на бриллианты, меха, ковры и цветные телевизоры определенных марок, которые никто не брал, потому что они взрываются. Последнее — просто накладка. Чтото перепутали. Зато по некоторым «ракетам» можно смотреть третью программу.
Вообще, за торговлю взялись крепко. Но если подымать ее таким образом, то надо расстрелять всех, без исключения, директоров, завмагов, даже овощников из пустых смрадных палаток, потому что все воруют. Не забыть и пивников, почти официально разбавляющих пиво. И, разумеется, всех работников общественного питания.
Если же распространить этот метод лечения общества на другие сферы, то надо казнить врачей, в первую голову хирургов, получающих в лапу за любую операцию, ректоров университетов и директоров институтов, а также членов приемочных комиссий — без взятки к высшему образованию не пробьешься, прикончить надо работников ГАИ, авторемонтщиков, таксистов, театральных, вокзальных и аэропортовских кассирш, многих издательских работников, закройщиков ателье, жэковских слесарей и водопроводчиков, всю сферу обслуживания. Если же кончать не только тех, кто берет взятки, но и тех, кто их дает, то надо ликвидировать все население страны.
По счастью, внимание нашего руководства как всегда устремлено на литературу. Главное — исправить литературу, ибо она вечна, а жизнь бренна и скоротечна — черт с ней.
Говорил по телефону с несчастной Репиной. Хотел узнать, вышла ли моя рецензия. Она, конечно, понятия об этом не имела. Живет словно не в Москве, а в своей костромской дыре. Как только дотянула она до сегодняшнего дня при такой неприспособленности!
Вдруг она принялась рассказывать о своей шестнадцатилетней дочери — акселератке. Она выкуривает мать из квартиры. В полночь сходится ее компания, начинаются танцы до трех — четырех утра, звенят бокалы, стоны любви раздирают ночь. Она на втором курсе ПТУ, но на занятия почти не ходит. Интересов, кроме танцев, водки и парней, никаких. Репина уступила ей большую комнату, а сама перебралась в боковуху, но и здесь мешает дочери, особенно же — ее великовозрастному любовнику. Зина Александрова оставила внучке капитал в пять тысяч рублей; та не может получить всей суммы до совершеннолетия, но может получать на жизнь через опекунов. Она требует, чтобы мать очистила квартиру и забыла о ее существовании. «Она не любит вас?» — спросил я наивно. «Ненавидит», — устало ответила Репина. «А вы ее?» Долгое молчание, потом: «Я помню, как несла ее из роддома… Жалко!» — в голосе слёзы. Ее бывший муж, отец девочки, поэт — переводчик, пытался лишить дочь наследства, грозил Репиной выколоть глаза, но в конце концов угомонился, получив заверения, что его оставят в покое с алиментами, которые он и так не платил. «Вот тот мир»…
div class="book__subh2">3 декабря 1983 г.