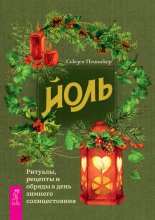Дневник Волкова Паола

ОТ АВТОРА
Эта книга названа: дневник. Но является ли она таковой на самом деле? В слово «дневник» заложено понятие фиксации прожитых дней, он ведется изо дня в день. Конечно, возможны пропуски — по болезни, занятости автора или по другим причинам, но в принципе — это жизнь, прослеженная в днях, а не как Бог на душу положит, с пропусками порой в целый год. И непременно указывается дата каждой записи; четкая хронологическая последовательность фиксируемых событий и переживаний автора — непременное требование, предъявляемое к дневнику. Классический дневник — это объемистый труд известного цензора Никитенко, бесценный документ эпохи, благо автор прожил долгую, спокойную, сосредоточенную жизнь, был свидетелем многих важных событий в общественном, политическом и литературном бытии своей страны, не шапочно знаком с крупнейшими писателями и другими выдающимися современниками. Он мало и глухо пишет о себе, много и подробно о том, что его окружает; из чего складывается историческая жизнь России. Никитенко сознавал значительность своего труда для будущего, он писал с огромной внутренней ответственностью за каждое слово и с прямым прицелом на публикацию.
Не исключал возможности опубликования своего дневника — куда более личного — и Лев Толстой. Это ограничивало свободу самовыражения, потому он вел еще один дневник, очень интимный, предназначенный только для самого себя.
Мои записи в большинстве своем носят сугубо личный характер, и я долго сомневался — стоит ли их публиковать, особенно при жизни. Ведь это разговор с самим собой, какое дело до него читателям. После смерти писателя — да и не только писателя — его записи приобретают интерес как документ эпохи. Недаром же издательство «Academia» публиковало в свое время, кроме дневников и мемуаров знаменитых людей, «Записки пропащего человека» никому не ведомого пьяницы и бедолаги, или — начисто забытого ныне литератора Перцова (не путать с советским литературоведом — сервилистом Виктором Перцовым), на мой взгляд, одного из умнейших и острейших людей предреволюционной России. Мой дневник переходит иногда в мемуары, ибо случалось, я писал не по свежему следу, а по воспоминаниям, пусть и не слишком давних, событий. Порой я указывал даты, порой забывал об этом. Изредка, это я обнаружил только сейчас, перепечатывая рукопись, события меняются местами: более поздние опережают те, что случились раньше. Я не стал наводить порядок, выстраивать и редактировать текст, это лишило бы дневник непосредственности и подлинности, в чем я вижу его, быть может, единственное достоинство. Читатель не может не почувствовать, что тут отсутствует литературный расчет, мысль о реализации, что он имеет дело с неподкупной правдой переживания. Я писал не по взятой на себя обязанности, а по эмоциональному велению. Мои записи — это прежде всего порыв к отдушине. Я хватался за свою тетрадь, когда чувствовал, что мне не хватает воздуха, и, чтобы не задохнуться, выплескивал переживание на страницы, которые, кроме меня, в чем я был уверен, никто не увидит. В этом и сила, и слабость моей книги. Сила — в искренности, слабость в том, что многое важное осталось за ее пределами, ибо я так странно устроен, что вещи объективно значительные, меня зачастую почти, а то и вовсе не трогают.
Да, я твердо уверен, что совершенная искренность и беспощадность к себе этого полудневника — полумеМуаров могут заинтересовать других людей, ибо помогают самопознанию. Истертая, как старый пятак, мысль Паскаля, что человеку по — настоящему интересен только человек, истинна именно в силу своей банальности, то есть общепризнанности. Но из всех людей человеку наиболее интересен он сам. Есть писатели вовсе чуждые самокопания, они изображают объективный мир, начисто самоустраняясь. А есть писатели, неудержимо стремящиеся разобраться в самом себе. И вовсе не от преувеличенного представления о собственной личности, скорее наоборот — от горестного сознания ее несовершенства, дурности, несоответствия тому образцу, который носишь в душе. И такие писатели должны относиться к себе с беспощадностью ученого, препарирующего кролика, или вскрывающего головной мозг собак, или — это, пожалуй, точнее — испытывающего новое, неизвестное лекарство и ради этого прививающего себе смертельно опасную болезнь. Тут не надо щадить себя, думать, а что скажут о тебе люди, ведь в конечном счете ты рискуешь, даже жертвуешь собой ради общей пользы. Человек не остров, эта мысль стара, как и афоризм Паскаля, и столь же справедлива: познавая себя, ты познаешь материк, имя которому человечество.
При этом я прекрасно понимаю, что такая «разнузданность перед вечностью» будет многих раздражать. Более полувека прожили мы застегнутые на все пуговицы, но, когда появилась возможность ослабить застежки, предстать в своем собственном виде, блюстители литературной нравственности тут же завопили о душевном эксгибиционизме. На ярлыки у нас все скоры и умелы. Скажу на это лишь одно: самая потрясающая по искренности книга о себе — «Исповедь» Жан — Жака Руссо может быть припечатана этим бранно — научным словом с полным основанием. Любопытно, что великий писатель грешил в юности непристойным обнажением и в прямом смысле слова, о чем пишет с полной откровенностью, присущей и вообще этой единственной в своем роде книге. Современники Руссо — люди второй половины восемнадцатого века — все поняли и не отказали в уважении автору «Элоизы», напротив, его слова достигли пика. Но «совки» в моральном смысле куда требовательнее и нетерпимее, нежели томные европейцы эпохи, предшествовавшей Великой французской революции. Себе они прощают все: беспробудное пьянство, доносительство, любое непотребство, но от литературы требуют порядка и целомудрия, как в пансионе для благородных девиц. Я говорю о взрослых «совках», юная поросль не знает никаких запретов.
Пусть такие моралисты не читают мой дневник, хотя ему в смысле интимных откровенностей куда как далеко до признаний Жан — Жака.
Кому адресован дневник? Себе самому. Это разговор с собой, с глазу на глаз, иногда попытка разобраться в собственной мучительной душевной жизни, иногда просто взрыд, и это бывает нужно. Но случается, и не так редко, что внешняя жизнь становится для меня интересней изнурительной душевной работы; чаще всего это бывает во время поездок, особенно «за бугор», вот почему я их так любил. Хоть ненадолго избавляешься от возни с собой. До чего же справедливо есенинское: душа — непосильная ноша, под которой падаешь. Еще спасительнее для меня всегда была и есть природа, поэтому ее немало в дневнике, но она никогда не предстает чисто пейзажной живописью, всегда связана с фигурой, оживляющей пейзаж, то есть со мной.
Повторяю, ведя свои записи, я не думал о читателе, как, скажем, К. Симонов, который явно готовил дневник на вы нос, поэтому иные места окажутся не вполне прозрачными, хотя и понятными в контексте. Наверное, тут маловато наших знаменитых соотечественников, а ведь волей обстоятельств я пребывал в литературно — художественной среде с детских лет, знал многих и многих, даже Маяковского перевозил однажды на плоту через речку Учу, а потом выяснил, что он давнишний и близкий друг моих родителей.
Вплоть до восемьдесят пятого года, когда началась перестройка, я жил вне общественной, социальной, политической жизни из соображений гигиены. По той же причине я, как мог, избегал литературной среды, хотя у меня было немало друзей — приятеле#среди писателей. Я человек без стадного чувства, поэтому всегда избегал толпы, собраний, обсуждений и, даже будучи членом редколлегии некоторых журналов, никогда не мог высидеть заседания до конца, что неизменно портило мои отношения с главным редактором и коллегами. Они видели в моих уходах пренебрежение, а это была клаустрофобия, их вязкие дебаты создавали у меня ощущение замкнутого, безвыходного пространства. По моему дневнику видно, что природа, узкий круг близких людей, охота, рыбалка, собаки были для меня значительнее и важней иных эпохальных событий. Мне эти события, кроме короткого продыха так называемой оттепели, казались зловещим шутовством. Моей единственной задачей было уцелеть, сохранить в себе те хрупкие моральные ценности, что были подарены мне генетически и воспитанием.
Надо помнить, что военные страницы писались на фронте, в тетрадочке, которую очень легко найти, и при кажущейся ныне безопасности по тем временам тянули на «десять лет без права переписки». На этот риск я шел, но расстрела мне не хотелось, поэтому я опустил всю печальную эпопею 2–й Ударной армии, разгром под Мясным Бором, окружение, пленение генерала Власова, чему сам был свидетелем. Эта позорная страница войны целиком на совести Сталина, ибо и Власов, и Мерецков, командующий фронтом, не раз предупреждали его о роковых последствиях попытки прорвать кольцо Ленинградской блокады по линии Чудово — Любань, где у немцев была самая глубокоэшелонированная оборона.
Не писал я и о том единственном бое, в котором участвовал, и о полетах на бомбежку, где я скидывал не бомбы, а листовки и газету для войск противника, которую мы издавали, — обо всем этом есть в моих повестях и рассказах.
Вообще, этот дневник при всем его личностном характере не является ни в малейшей мере моим жизнеописанием. Я никогда не ставил себе такой цели, потому здесь никак не отражены многие важные — и радостные, и печальные — события моей жизни. Вы не найдете даже намека на скандал вокруг второго номера «Литературной Москвы», героями которого были Яшин, Нагибин и Жданов. Нас с Яшиным сразу взяли в оборот, его за «Рычаги», меня за «Свет в окне», а после, видимо, отдавая дань тринитарной системе, к нам присоединили Жданова с его талантливым, но вовсе безобидным рассказом. На двухдневный погром в Доме литераторов я просто не пошел, потому у меня нет живых впечатлений о разыгравшемся там шабаше, о мужестве В. Каверина и М. Алигер, защищавших и альманах, и нас — бедолаг, о подлости цепных псов партийного и писательского руководства.
Ничего нет и о трагическом вечере памяти Андрея Платонова, окончившемся тем, что по рукам пошел лист с требованием освободить узников совести. Впрочем, кончилось не этим, а исключением Юрия Карякина, делавшего доклад о Платонове, из партии, изгнанием отовсюду скульптора — писателя, друга Андрея Платоновича, Сучкова, строгим партийным выговором Борису Ямпольскому за текст его выступления и Межирову за то, что он этот текст прочел со сцены, — автор лежал на больничной койке, — а также внесением в черный список Ю. Казакова, выступавшего, и Ю. Нагибина, председательствовавшего на вечере. Мы с Юрой были неуязвимы по партийной линии, ибо не состояли «в рядах».
Нет здесь и ужасающей эпопеи со сценарием «Председателя», завершившейся общественным судом надо мною «за клевету на «маяка «Орловского» — прообраз героя фильма, и постигшим меня в результате всех преследований в сорок два года инфарктом. Но об этом я когданибудь напишу документальную повесть.
Для других важных событий моей жизни не нашлось места в дневнике, ибо я знал: они станут материалом рассказа или повести.
Выше я чтото сказал о радостном в моей жизни. Что имелось в виду, мне самому не слишком ясно. Выход моего первого собрания сочинений в издательстве «Художественная литература», стоивший мне нескольких лет жизни, встреча с Аллой?.. Много радости шло от леса, поля, реки, но об этом вроде бы достаточно много сказано. Остальные мои радости — избавление от несчастья.
Перепечатывая дневник для издания, я не добавил в нем ни строчки, но коечто изъял, щадя порой людей, не заслуживших доброго слова. В справедливости первого я убежден (изначальным выбором руководило подсознание — самый чистый источник), в справедливости второго — не очень. Почему скверные поступки позволительны, а разговор о них — табу? Если у тебя хватало мужества быть дурным в жизни, не пасуй перед своим изображением в литературе.
Итак, кому нужны мои записки с их отдаленностью от столбовой дороги нашей сияющей жизни? С их нытьем, слезами, злостью, иногда радостью, с их удивлением перед бытием, с их самокопанием? За пятьдесят пять лет профессиональной писательской работы я приобрел читателей, оставшихся мне верными и в наше неблагоприятное для литературы время. Мои книжки по — прежнему расходятся, независимо от того, дает ли издательство тираж в тридцать, пятьдесят, сто и более тысяч экземпляров. Значит, этим читателям я нужен, и вполне естественно, что им захочется увидеть подлинное лицо автора, остающееся в тени беллетристических ухищрений. Появились у меня и новые, довольно молодые читатели (сужу по письмам), им тем паче интересен будет незнакомый автор, ведь «Зимний дуб», который они проходили в четвертом классе, давно выветрился из сознания вместе с остальной школьной премудростью. Добавьте к этому недоброжелателей, их тоже скопилось предостаточно за долгие годы, и можно не сомневаться, что «Дневник» найдет спрос на книжном рынке.
Альфред де Мюссе, «второй величайший поэт Франции», как окрестил его Виктор Гюго, оставив тем самым первое место за собой, написал замечательную прозу «Исповедь сына века» — не событийную, а духовную историю молодого человека середины девятнадцатого столетия. Смешно было бы мне претендовать на столь глобальную задачу. Но Мои записки тоже принадлежат сыну века, нынешнего, идущего столь бесславно к своему завершению, и в этом их объективная, пусть незначительная, ценность, не связанная с моей личностью, ибо через меня, как и через каждого человека, отваживающегося жить, а не тлеть, говорить, а не молчать в тряпочку, отражается время, эпоха, хочешь ты того или нет.
Я ничего не имею против художников, писателей, поэтов, считающих, что искусство и литература ничему не служат, что они сами по себе, игра свободных внутренних сил, никак не касающаяся жизни, не отвечающая перед ней. Но всегда помню слова Шарля Бодлера, одного из зиждителей теории искусства для искусства, что литература, всетаки, для чего-то нужна, что она чемуто служит, даже вопреки намерениям творца. То есть не бесцельна и не безответственна. Но это ровным счетом ни к чему не обязывает и не должно обязывать писателя и поэта. Они поют вольно, как птица. Кстати, птица никогда не поет вольно. Поют самцы весной, в брачный период, заманивая самку. Это очень «направленное» пение, имеющее конечной целью продолжение рода, то есть главное предназначение всех живущих существ. Мы не понимаем голосов птиц и для нас это бессмысленный милый щебет.
Для меня нет ничего важнее в жизни, чем литература, я имею в виду не собственное писание, а чтение, и я никак не могу считать ее щебетом, игрой. То же относится и к искусству. Человек, нарисовавший быка на скале (ни Гойя, ни Пикассо даже не приблизились в экспрессии к древнему художнику), решал какуюто задачу, а не просто водил рукой от нечего делать. Он или подчинял себе это опасное животное, или пытался умилостивить лестным портретом, а может, хотел передать комуто, что он есть в пустынном и враждебном мире, и как бы предлагал партнерство. Во всяком случае, первобытное творчество — не искусство для искусства, а сцеп человека с миром, жизнью, себе подобными. Отрыв искусства от цели и смысла шел от лукавого, разочарованного и недоброго ума.
Пусть этот дневник — прерывистый след одной жизни — будет моим быком в нашем отнюдь не потеплевшем мире.
Юрий Нагибин2 июня 1994 г.
1942
Снова, словно Селин[1] в ночь, послан в день, туманный, с белым, тяжелым небом день. На попутных машинах, пешком добираюсь до военного — аракчеевского — городка Селищево, заведомо зная, что мне в нем делать нечего.
Красные, кирпичные дворцы николаевского стиля разрушены. Нигде разрушения не являлись мне в столь чистом виде. Белое небо, редкий снег тихо садится на деревья, тишина непередаваемая, хотя она то и дело нарушается залпами двух дальнобойных пушек. Она всасывает в себя этот случайный шум, и кажется, что тишина нерушима. Посреди городка пруд, обнесенный деревьями, а дальше так странно, неожиданно — эти большие, николаевские «дворцы»,аккуратно и основательно разрушенные. Так не похоже на сумбур разрушенных деревень — там торчат обуглившиеся стропила, черные балки, голые трубы, сор, щебень, непорядок. Здесь — печальный, строгий покой камня, чтото античное. Все достойно, все молчаливо…
Были здесь и люди — раненые, шоферы, артиллеристы. Но сейчас мне кажется, что там был лишь один человек — капитан с автоматом через плечо. Он стоял один рядом с «ветеринарным пунктом», расположенным в одной из античных развалин, и медленно обводил взглядом разрушения.
— Все разрушено… — говорил он тихо, затем посмотрел в другую сторону и повторил те же два слова.
Капитан приехал на грузовике за досками. Я попросил его подвезти меня на обратном пути. Он ответил молчаливым кивком головы и перешел на другое место. Я последовал за ним, боясь, что он в своей высокой скорби забудет обо мне. Он снова медленно, как английский король в Ковентри, оглядел развалины и произнес:
— Все разрушено… А ведь это… это были… казармы!..
Я никогда не видел скорби в более чистом виде.
Я отыскалтаки нужную мне часть. Красавица — часть — рота, только рота регулирования. Я прошел к седому капитану и попросил его предоставить трофейный материал мне — представителю 7–го отдела фронта. Он выпучил глаза и пролепетал, что трофеев у них нет, они всего — навсего регулируют движение на дорогах. Но мне это неважно: в отчете Рощину я могу написать, что «спустился до роты»…
По дороге шел лыжный батальон, хорошо снаряженный, вооруженный автоматами, клинками, с шанцевым инструментом на ремне и свернутыми плащ — палатками за спиной. Дети лет семнадцати. Они были все без исключения малорослы, трогательны и измучены. Они то и дело останавливались и бессильно ложились в снег, в странных, беззащитных позах — один на локте, другой на спине, ноги подогнуты, третий свернулся калачиком, как в своей детской постели. И все же я опять возвращаюсь к своей теме: если писать о них — неверно изображать их, как только безнадежных, малолетних страдальцев. Я вижу сквозь всю их усталость и тоску, как они метко бьют изза брустверов, как с криком «Ура!» наступают под огнем противника, именно — наступают, то есть участвуют в этом сознательной силой, а не как стадо ягнят…
Всюду валяются трупы лошадей. Иногда трупы зашевеливаются и даже подымаются на шаткие ноги. Лошадь стоит пять, шесть часов, день; я не знаю, что бывает с ними потом. Верно, снова валятся на снег. Почти все трупы разделаны, мясо снято с ребер, груди. Лошади на дорогах войны — не кавалерийские кони, а тягловые, грустные лошадки, самое печальное, что только можно вообразить. Шкура висит, словно непомерно большой чехол на кукольной мебели, черные мутные глаза на длинных мордах с детской слезой, шаткий шаг, — у людей я пока что этого не видел. Вот в чем загвоздка!
Записывать необходимо всё, только тогда начинаешь давать себе отчет в своих поступках. Если бы я записывал раньше, я бы знал, что могло меня толкнуть на это мое решение. Ведь я никогда не жил среди чужих людей. Стрельба, бомбежка, вообще немалые опасности моей нынешней службы не слишком меня смущают. Мне мучительно трудно без своих, без Маши. Я — домашнее животное, и мне в лесу не выжить.
Но какоето чувство продолжает говорить мне, что это нужно было сделать. Ведь не пропадет же все это, в конце концов! Нельзя же было так и писать всю жизнь о выдуманном, надо было иметь собственный душевный материал, пробиться к настоящим словам, а эти слова — я чувствую со всей ясностью — едва не отдалились от меня навек.
Ведь не может пропасть даром — е. ж. б.[2]— Селищево, дети — лыжники, восемь верст через ночь, ночь, Волхов. «Из тяжести недоброй и я когданибудь прекрасное создам».
Одиночки войны. По дорогам, вернее, по тропинкам — дорог они избегают, — ходят одинокие люди. Бойцы в задымленных шинелях, закутанные в тряпки, с кроткими измученными лицами. Иногда при оружии, чаще без него, с одним лишь шанцевым инструментом, бредут они кудато, не зная своей части, ни соединения, забыв номер полка, роты. Подсаживаются к чужому огню, разводят свой, питаясь невесть чем, и всё идут, идут. Это не дезертиры, у них словно и в мыслях нет бежать до родного дома, они както выпали из частей. Они не возращаются в часть, даже не пытаются, сколько бы ни говорили, что ищут своих, но непреодолимая сила удерживает их вблизи фронта. Они не могут вернуться туда, но и не имеют силы уйти совсем. То ли это особое, страшное очарование войны, то ли простая человеческая нерешительность, — ни уйти, ни остаться, как все мы. Но сперва мне казалась более притягательной первая мысль: что они не в силах сами оторваться от войны, пока она не выбросит их за негодностью. Это чистейшая «липа»: могут, хотят, но нет решимости на прямое «преступление».
Ночью в лесу можно видеть огоньки костров, трупы лошадей искромсаны, чьято тень мелькнет на дороге, перехваченная фарами. Это всё следы одиночек войны…
Всё движется между двух полюсов: расхлябанностью и ужасным, невероятным трудом, никому другому, кроме русского человека, неподсильным.
Ашер Айзикович Шапиро. Он пошел добровольцем, когда решил, что его отец, от которого он в течение трех месяцев не получал писем, погиб на фронте. Матери у него нет. Когда я спросил его, как он думает распорядиться своими деньгами, он ответил, что ему есть кому посылать. По ответу судя — какаянибудь девушка. У него это звучало удивительно трогательно. Я уверен, что он с ней не живет. Он — сама деликатность. Впрочем, меньше всего верю я деликатным людям, достаточно послушать, с какой грубостью говорят они об отсутствующих. Он выдержал и эту проверку: он говорил, что думал, но деликатность ему не изменила. Он касается жизни, словно врач — тела больного, согретыми пальцами. Серьезность, забота, словно он сильный, трогательность и беззащитная открытость при молчаливой, но не злой погруженности в себя. Это такой человек, что в жалостливой нежности к нему можно потерять всю душу без остатка. Я невольно защищаюсь от него стенкой иронии. Иначе можно стать хорошим и добро бессильным, а этого нельзя.
А как внешне неустроенно, неуютно ему живется!
На автомобиль, чтобы он ехал, надо кричать гораздо больше, чем на лошадь.
Хозяйка печет хлебы. В доме тяжелый дух ржаной опары, пахнущей душно и плотно, словно разопревшее человеческое тело. Тесто дышит в кадушке, ночью выходит за края и тяжело шлепается на пол, теплое, живое. А в прихожей спят шесть бойцов — хлеборазвозчиков, шесть огромных, смирных детин. Они потеют хлебом, вкусно рыгают хлебом, ночью согласно дышат и поворачиваются на другой бок.
Бессмысленный вопрос солдату: устали ли вы от войны, хотите ли вы домой? Солдат устает от войны сразу же после получения повестки и с того же момента хочет домой.
Что я здесь такое? Нерадивый канцелярский служащий, на плохом счету у начальства, — приходит в десять, уходит в пять, но за это время успевает получить больше попреков и взысканий, чем другой за месяцы круглосуточной службы. Повелевать мне не дано, надо хоть подчиняться уметь.
Залог мужской бодрости на войне: жены не могут попрекать мужей тем, что они мало зарабатывают.
Добродушный, толстый, хороший человек посылал меня на смерть.
Первый ребенок, которого я увидел в этом городе[3] военных и взрослых. Дети — одна из вечных иллюзий человечества. Наивность, показывающая, что человек еще не до конца испорчен. Ведь никто не ждет, что из куриного яйца вылупится страус, что из щенка шакала вырастет большой бегемот, но все ждут, что из младенца выйдет обязательно не такая сволочь, как мы все, а нечто «порядочное». Забывают, что из младенца может выйти только человек, и умиляться тут абсолютно нечему.
Боже мой! С какой удивительной отчетливостью вспоминается мне кусок моего детства: паркет, залитый солнцем, голубое стекло окна и мать, оющая «Шумом полны бульвары…». В моем детстве не было ничего более прекрасного, чем «Мюр — Мерилиз», Кузнецкий мост, когда глядишь на него от Рождественки, и этой песни в освещенной солнцем комнате.
Есть ли вообще чтолибо лучшее в жизни, чем воспоминание о молодой матери!
Сегодня я снова вернулся к мысли, вернее к муке: а надо ли было идти на такую войну? Это не война, а канцелярия под бомбежкой. Вся наша пшебуршня не стоит выеденного яйца. Неужели наша писанина и радиотрёп могут хоть както повлиять на немецких солдат? Но поди скажи об этом вслух. Шапиро попросил у Рощина, чтобы его отозвали в часть, так его чуть не растерзали. Даже начальник ПУ Горохов заинтересовался дезертиром. Ему грозили штрафбатом. Он сказал, что не возражает. А я понимаю, чего они так разошлись: его поступок разоблачает нашу паразитарность, ненужность войне. В результате бунтаря Айзиковича навечно прикрепили к оформлению отчетных папочек. Это то, что батальонный комиссар Кравченко называет умением показывать свою работу.
Абсолютное счастье на фронте: налопавшийся солдат садится на стульчак…
Прекрасный сюжет. Добрый охотник — золотое сердце — идет по лесу и встречает старую женщину. Он дает ей милостыню — всё, что у него есть. И в награду за его доброту старая женщина, оказавшаяся феей, открывает охотнику способ мгновенно по — царски разбогатеть. Надо ему пройти шагов двести в сторону солнца. Он увидит большое раскидистое дерево, а на нем множество птичек. Пусть он выстрелит из своего верного ружьеца, и когда одна упадет, он вскроет ей грудку, там найдет золотую горошину, проглотит ее, и каждый день будет находить у себя под подушкой сотню талеров.
— Спасибо, старая женщина…
Добрый охотник быстро отсчитал двести шагов в сторону солнца, увидел раскидистое дерево с множеством птичек на ветвях, вскинул свое верное ружьецо, выстрелил и… промахнулся. Птички вспорхнули и улетели…
Ведь бывают же неудачи!..
Воспоминания дороги. За Валдаем. Северная деревня. Вместо вонючих приземистых избенок, в которых мы обогревались и ночевали, — чистые, светлые, деревянные хоромы. Высокое, желтое, теплое дерево. Высокая печь с лежанками на каждую из четырех комнат, тоже чистая, без единой тряпочки, чувствуется уважение к ней, воздух пахнет теплым смолистым деревом и едва приметной обжитостью помещения.
В сенях на соломе лежит еще влажный голенастый новорожденный теленок.
После нищеты, грязи, разрухи и придавленности пройденных нами деревень это жилье буквально поразило нас чистотой и основательностью своего уюта.
В избе были только женщины: две старухи, две на возрасте и трое детей — девочек. Мы были смущены. Мы не могли разуться, страшно было обнаружить нашу грязь в этой священной чистоте.
Хозяйка подала на стол большую миску жирного серебристого супа с бараниной и глазурные ложки. Хлеб она разломила, — хлеб был горячий и словно дышал. И нам показались до того ненужными и грубо бессмысленными наши почерневшие ремни, наганы в кобурах, запах дорожного пота и бензина, и запах дорожного тщеславия, — каждый путник кажется себе немного героем, — всё, что мы, мужчины, военные, принесли сюда, что сидели мы тихие и пришибленные.
В этом прочном человечьем устройстве было куда больше жизненной силы и крепости, чем в наших судорожных дорожных усилиях.
На окраине Торжка. Зашли в хату, где жил только один старый железнодорожник. Это был высокий тощий человек, одетый в промасленный авиационный комбинезон. Комбинезон стал словно его второй кожей, он обрисовывал все контуры его тела — ребра, углы локтей, лопаток и колен, впалый живот с торчащими тазовыми костями, грыжу в паху. Человек молчал и улыбался, обнажая белые десны и один — единственный желтый, огромный резец. В доме было пусто. На печи — засохшие тряпки, близ печи — сор от дров, на буфете — крошки хлеба, в блюдечке на полу запеклась полоска молока. Этот человек был всем и всеми забыт, покинут. Потерянный человек. Он улыбался бессильной доброй улыбкой об один зуб, когда мы к нему обращались, даже чтото отвечал, но голос его както таял в воздухе, не достигая ушей, и было видно, что он мог бы и не отвечать, он слушал нас, но мог бы и не слушать. Когда мы уходили, он не взял деньги, которые мы ему давали.
Кругом всё разбомблено, а он уцелел. Зачем? Нет, он но работает, ничего не осталось, работать негде. Дети на фронте, коекто погиб при бомбежке. А жена? Он не отвечает, улыбается доброй, уродливой улыбкой.
Что же он ест? Пьет? Курит?
Мы ушли. Он не вышел нас проводить…
Солдаты бодрости не чувствуют. Ее чувствуют здоровые, розовощекие люди из штабов, которые через день бреются и меняют воротнички на гимнастерке. Эти люди пишут бумаги, обедают в столовых, пугаются каждого самолета, подымают панику при каждом удобном случае, в остальное же время полны бодрой воинственной активности.
Сражаются больные, изнуренные и грязные неврастеники с обмороженными носами, усталым взглядом, и такие слабые, что их может осилить ребенок. Здоровые толстые бодрые люди пишут бумаги, посылают других в бой и достают обмундирование в военторгах.
Жизнь движется вечной наивностью людей. Любой скептик, вроде меня, всё зная, думает, что именно его жена не будет изменять, что на войне есть чтото хорошее. Может быть, я мало внимания уделял Маше, что около нее появился чистенький и утомительный А. и похотник Р., который стал там чемто вроде олицетворения постоянства и страсти. В то же время в его положении нет ничего более простого, как дожимать недожатое раньше… Это делается уже походя, само время играет на него. Он нисколько уже не мучается, преспокойно живет с другими бабами, ему достаточно только появляться раз в неделю и раз в неделю звонить. И уже: какое постоянство, какое страдание, он заслуживает награды!.. А если бы я был более внимателен, всё полетело бы к черту еще скорее, пресытилась бы и уже активно стала бы лезть к другим. Так, всетаки, и меня надо удерживать. И происходит всё это незаметно. Чуть — чуть попустил, и уже привыкаешь, что такой может и должен (!) быть рядом, и становишься добрым, деликатным, нелюбопытным, и готов с ним выпить вино за ее здоровье. Извечная мягкотелость мужчин, оттого, что они не целиком в этой стороне жизни. И всегда мужчина найдет в своей будущей жене именно те качества, которые, по его мнению, сделают из него исключение, то есть не рогоносца. Жена легкомысленна — отлично, она ни к кому более не привяжется; жена привязчива как собака — тоже хорошо, ее привязанность к нему пересилит все другие привязанности! То же война. Почти нет мужчины, даже самого трусливого, который бы в глубине глубин не стремился бы чуточку к войне. Вот две мужских иллюзии, которым, непонятно каким образом, — всё понимая, — отдал и я дань. Теперь пожинай плоды.
Вчера полковник, бодрый, с серебряными зубами и гладними полными щеками, улыбаясь, посверкивая серебром во рту, рассказывал о бомбежках. Я ненавижу эти рассказы, это удальство, которое рождает не окончательная трусость.
На днях я сделал не то чтото очень хорошее, не то чтото очень современно человеческое. Когда началась бомбежка — а каждая бомбежка здесь означает несколько умираний, — я не торопился положить последние буквы в наборную линейку, потому что мне не хотелось умереть, не кончив набора какойто пустенькой, но, очевидно, нужной статейки[4]. Я вложил буквы, закрепил, переменил шпацию, снова закрепил и лишь после того задрожавшими руками стал сдергивать шинель, пояс, чтобы бежать вниз. Я думаю, тут дело не в бескорыстии, это новое обязательное душевное качество, вошедшее в плоть даже самых нерадивых. Нынешний человек весь раздавлен долгом, или, можно сказать, растворен в огромной стихии долга, понимаемого в самом широком смысле — народ, государство, дело. Мы все из людей превратились в людей дела. Дело долговечнее нас, оно преемственно, а людей у нас много. Мы все взаимозаменимы, потому что мы люди дела, а не творчества. Нельзя центь своего существования в стране, где столько людей. Поэтому мы и воюем хорошо.
Дикая фраза: товарищ техник — интендант второго ранга, валушки нельзя бы? (в АХО).
Интересная вещь: освоение полуразрушенных нежилых домов. Дом без людей холодней и дичей природы. Мы въехали сегодня в двухэтажный дом. В комнатах висят оборванные провода, поломанная мебель, фикус, иссохший до того, что, когда его тронули, он рассыпался, на полу книги — по медицине, инженерии, справочник Хютте[5] и т. и. Масса стабильных учебников, тетрадок, исписанных аршинным детским почерком, членские книжки: профсоюза, МОПРа[6], об — ва «Друг детей»… И всюду говно, даже на столе, печи, подоконнике, в колпаке висящей лампы. Я вначале не понимал эту страсть людей гадить на покинутых местах — домах, садах, дворах. Потом попробовал сам и нашел в этом удивительное удовольствие. В разрушенном доме приятно накласть не в одном углу, а всюду, насколько хватит, положить свой человеческий след. То ли приятно делать запретную в обычных условиях вещь, то ли в этом выражается презрение человека, его вражда ко всякому хаосу, неустройству. Людей тянет испражняться на развалины.
Мы протопили печь, законопатили окна — стало тепло и возможно жить. Надышали. Провели электричество. Поставили мебель. Но дом становится домом, человечьим жильем, когда в нем ктонибудь переночует. Тогда он разом приобретает обжитой вид, люди ему доверяют.
Опять бомбили. До чего паскудное ощущение, этот треск, вой, свист. Противная сушь возникает внутри. И ничего нельзя сделать, и пересилить это нельзя. Утром глядишь в небо и, если видишь по — весеннему прозрачно — голубой свод, на душе делается паршиво. Когда унылая серятина покрывает небо, сочится полудождь — полуснег, — испытываешь спокойный, бодрый подъем. Противоестественно и противно.
Я начинаю думать, что вовсе не так уж умно вел себя здесь. Поддерживал, поддерживал свое достоинство, отбрыкивался, ругался, а в результате оказался на положении обижаемого, которого все чувствуют себя вправе обижать. Этого я боялся больше всего. На чем я сорвался? Больше всего я боюсь, что жизнь меня обломает. Чтото в моем поведении ложно, отсутствие внутренней свободы, что ли? Сейчас я какоето ни два, ни полтора, ни бунтовщик и ни служака — обиженный мальчик. Я не веду линии, я вихляюсь, боюсь стать чемто определенным.
Он не решается снять шинель и вступить в сложный мир гражданских отношений.
Со смехом, шутками, криком красноармейцы волочили труп павшей лошади. Эта работа почемуто радостно возбуждала их. Каждый старался сострить, сказануть чтонибудь этакое. Они тащили лошадь на веревке, обвязанной вокруг морды. Лошадь была вся мокрая от предсмертного пота, с раздутым животом и впалым пахом.
Три бойца с автоматами ведут двух пленных. Ночь. По горизонту розовая полоса. Звезды. Тонкий серпок, словно кусок скорлупы на черном ядре луны.
Пленные — немец и чех. Немец ранен в ноги. Одна нога обмотана по ступне тряпками, кажется круглой и огромной, как копыто в лубке. Чех тащит его на закорках. Чех узкогруд и слаб, он согнулся почти до земли, чтобы сохранить равновесие. Немец, раскорячившись, висит на нем. Часовые острят.
— Раньше он тебя воевать заставлял, а теперь ездит на тебе.
Чех понимает, виновато улыбается и, отдышавшись, снова подставляет товарищу спину.
Инструктор Крупник вдруг сказал, и его голубые глаза напомнили мне глаза моего отца в печали, чуть вытаращенные, безобидные и недоумевающие:
— Вот, товарищ Нагибин, я сегодня очень скучаю по моей жене и дочке. Моей дочке через два дня исполнится два года…
Сказал простую вещь, но так человечно по интонации.
Вот это то, что мне хотелось услышать на войне — простоту мужской печали, без щегольства, бодрячества и прочих мужских штучек. Он мне стал очень близок, но разговор сошел на социологию, и он, как ни в чем не бывало, понес пошлости. Мне кажется, что в этот момент уже не скучал он ни по жене, ни по дочери.
Крупник погиб три месяца спустя, при выходе из окружения под Мясным Бором.
Кравченко[7]— плохая голова, тяжелодум, вечно в дурном настроении. Сам клеит аппликации и «лично» оформляет папки с формулярами, входит во все мелочи (почему и состоит на хорошем счету у начальства), но совершенно не видит целого и не догадывается, что оно есть.
Усердие, плохое настроение и полное отсутствие таланта в работе, желчная посредственность, в качестве начальника — настоящее «не повезло».
Шесть месяцев спустя его наградили орденом Красной Звезды.
В армейских политорганах особенно ценятся люди, которые работу подменяют учетом.
Разговор с Левошкой[8], страдающим авитаминозом. Расслабленное состояние и пробуждающаяся наглость. Вернее, не наглость, а крестьянская злость, что его заставили недоедать. Злость от любви к своему брюху. Это гнусная фраза, но я ее всетаки написал, потому что из нашего разговора с ним мне хочется сохранить этот оттенок.
Он плачет, когда замечает свою слабость, плачет злыми, ненавидящими всё и вся слезами, говорит расшатанным голосом и, уже раз начав жаловаться, не может остановиться.
Покончил самоубийством год спустя.
С грустью должен признаться, что я не умею поймать вошь.
Когда я вижу эту преемственность приказов — передачу их словно по ступеням лестницы, — от высшего к низшему: вы, обеспечьте, тов. генерал…, вы обеспечьте, тов. полковник…, вы обеспечьте, тов. лейтенант… старшина… сержант… боец такойто, чтоб завтра было выполнено! — мне становится жутко. Я вижу этого «такогото» бойца, на которого со всех сторон валятся все дела, порученные десятку «больших начальников»…
Военные люди ненавидят, когда им выдвигают какието препятствия и соображения при исполнении их приказаний. Это называется «философствование». У них на плечах и так задача почти непосильная: заставить людей умирать, приучить их к мысли о необходимости смерти…
В машинописном бюро невыносимо пахло женщинами.
Из ПУРа приходят бумаги на имя редактора Алексеева. Много бумаг: приказы, матрицы, статьи, инструкции с пометкой — Рощину для передачи тов. Алексееву, редактору «Фронтовой Солдатской». А Алексеева никакого нет, не приезжал, и всё тут! А может быть, его сняли еще до выезда из Москвы. Но в голове начотдела Рощина это вызывает настоящее потрясение — целая груда бумаг скапливается у него, а он должен был бы передавать их Алексееву. Но ведь Алексеева нет. Однако начальства это не касается, бумаги продолжают накапливаться, и приказа он не выполняет. А гора всё растет, растет, и всё сильнее давит на слабую психику Рощина. И вдруг блестящая идея! В отделе есть сотрудник, ничем не примечательный, скромный человек, пешка, но фамилия его Алексеев! Спасение! Рощин назначает этого Алексеева редактором. Отныне он может быть спокоен: все бумаги, адресованные Алексееву, он может передавать Алексееву.
Война идет, чего только не произошло. А я еще не пережил первой потери: Альфарки[9]. Я еще не нашел ей места в своем сердце. Мне кажется, что должно сделать так: после войны сжать голову руками и думать, долго думать. Если бы человечество так сделало, а не перешло бы спокойнейшим образом к очередным делам, то войн больше не было бы.
Я писал домой, что открыл в себе неизвестные мне доселе запасы грубости. Я верил в эту новую свою жизнестойкость. Но вчера я узнал от наборщика Борисова, что меня считают «голубой душой», простачком, застенчивым и способным по наивности и доброте душевной вляпаться в любую глупость. Верно, так оно и есть, я еще не имею представления о настоящей жизненной грубости.
Я часто принимал небольшое проявление душевной активности за действительную внешнюю самостоятельность, котору чувствуют и с которой считаются люди.
Случайно открыл дневник Андре Жида. Меня всегда угнетало, что есть умный человек, которого я не знаю. Сегодня утешился. Прав Бодлер, что Бог избавляет своих любимцев от бесполезного чтения. Куриная голова, этот Жид. Наивность совсем не французская. Плоскость абсолютная. Дурак какой!
Сегодняшний день ознаменовался рядом великих событий. Во — первых, я получил посылку из дома, такую замечательную, что можно только мечтать: две бутылки прекрасного вина, одеколон, шоколад, брус масла, печенье. Кроме того, есть письмо и карточки. Пил вино — розовый мускат и вспомнил фразу Филиппа[10]: «Он пил вино и удивлялся, что оно так вкусно, он не знал, что вино так вкусно». В Москве я тоже не подозревал, что вино вкусно, как вкусно печенье колбаса или шоколад. Я пил его, морщась, любя в нем только конечное ощущение опьянения. Оказалось, что оно, действи тельно, замечательное по вкусу, даже пить жалко.
Машинистка, которая передавала мне посылку, сказала, что Вера[11] просила мне кланяться. Она сказала это так, что я мгновенно представил себе, как трогательно и настойчиво просила ее Вероня передать мне привет, если эта посторонняя женщина не забыла.
Я стал уже таким взрослым и старым, что не стесняясь говорю, что у меня есть нянька.
Пил чай у хозяев избы. Как все местные жители, они смертельно боятся бомбежки. А должны, казалось бы, привыкнуть. Но их страх углубляется тем, что они домовладельцы. Этого нет у москвича, который всетаки живет в казенной квартире.
Второе великое событие: разбомбило нашу редакцию. Бомба хрястнула метрах в тридцати, большого калибра. Я пил вино с Борисовым, когда это произошло, и видел из окна своей комнаты сноп искр, взлетевший над местом разрыва. Побежали туда. Высадило рамы, стекла, перевернуло столы, загасило электричество. Жертв, к сожалению, нет, а в комнате находились Верцман, Могилевер и др. Все сгрудились у стола Мишина, который этот старый фронтовик благоразумно перенес в глубину комнаты, рассадив нас у самых окон, и их задело только осколками стекла.
Работаю в типографии выпускающим. Немного познакомился с сословием, именуемым печатниками. Мне кажется, что это пошлейший вид человечества. Пошлость — их профессиональная болезнь, как и чахотка. Это оттого, что они имеют дело с печатным словом, но воспринимают всё с поверхности, не имея возможности вдуматься в то, что видят их глаза. У них в головах сохраняется накипь идей, слов, накипь гнусная. В этом отношении особенно характерен Борисов, у которого за чудовищной пошлостью чувствуется Известный природный ум.
Из дневника одного убитого. Правильная мысль о том, что в армии необходимы небольшие, но постоянные меры поощрения. У нас так и делается, причем не только в армии.
Жизньто вроде армейской. Этим компенсируется отнятая у людей свобода мысли, слова и передвижения, то есть свобода духа. Все живут под плащом равной несправедливости, все равномерно приближаются к идеалу — «четырем ромбам», но подобно математическому иксу, стремящемуся к бесконечности, никогда его не достигают. Но это неважно — равномерное движение к идеалу, более грубому, человек предпочитает случайностям пути к личному высокому идеалу.
Я начинаю примиряться с тем, что вот это и есть жизнь, а не бред, что так вот и живут до самой смерти, и никакой другой жизни не будет. Что моя женитьба и есть настоящая женитьба, работа и есть та самая работа, воздух и есть тот самый воздух и т. д. И главное: писание и есть то самое писание. В этом отношении можно вполне успокоиться: нигде и никогда литература для себя не сольется с литературой для печати. Надо четко разграничить ящики стола: налево для себя, направо для всех. Это нужно для душевной гигиены, иначе путаница, из которой никогда не выберешься.
Вчера и сегодня ночью работал в поезде — типографии «Фронтовой правды»[12]. Впервые видел весь процесс матрицирования и отливки стереотипа. Странно, что для того, чтобы произвести тоненький газетный листок, надо отливать свинцовые болванки, похожие на фугасные стаканы. Работали двое старых печатников с сорокалетним стажем, работали они скверно. Четко, беззвучно и бездарно. У одного из них лицо, словно матрица, в оспенной чеканке. Моя работа заключалась в том, чтобы разложить клише, проверить одну строку, которую перекладывали из верстки в верстку, и всё — для этого я должен был провести бессонную ночь. Я лежал на огромных и жестких рулонах бумаги, изогнувшись, как пленка в киноаппарате. Хрустела резальная машина, шумел котел, в котором переплавлялись стереотипы, да изредка слышался матерный лай Рохленки, начальника типографии.
К семи часам все было кончено, мы пошли с Борисовым домой. На улице ни души. Луна смотрит из светового просвета на темном сером небе. Слепо шарит прожектор. Гдето очень далеко разрывы.
Ходил искать наборщицу. Она живет на самой крайней улице[13], за линией, за разрушенной некрасивой, но, как всегда, поэтичной церковью. Я никак не мог найти улицу и постучался в один из домов, чтобы узнать, где она находится. Мне открыла заспанная девка в валенках на босу ногу и голыми коленками.
— Да она сгоревши, — равнодушно сказала девка и поглядела кудато мимо меня. Но улица сгорела не вся. Я нашел дом наборщицы. Половину его занимал питательный пункт для раненых. Подлое неуважение к раненому бойцу. «Не давай себя, дурак, ранить, когда ты должен быть цел». Питательный пункт для «еще не раненных» находится посреди города, для раненых — на самой окраине. Я видел, как туда тащились хромые, с ногами, обвязанными тряпками, с забинтованными головами, руками на перевязи.
В доме тесно, раненые стоят в длинной очереди и ругаются. В темноте я наступил на одного. Он нехорошо закричал. Они все в шинелях без ремней, без оружия, вид опустошенный, жалкий и страшный.
Хозяева имеют вид людей, медленно умирающих с голоду, но при этом, когда я вошел, они ели горох с комбижиром. Они лишний раз подтвердили мою догадку, что для человека еда содержится во всем, даже в прутьях частокола и в снегу. Никто ничего не получает, не имеет запасов, не покупает, и все всетаки едят.
Другое дело ленинградцы: Левошко, наша машинистка, полиглот и другие. Расслабленные и какието не от мира сего, кажется, что вся ткань их тела переродилась, стала податливой, прозрачной и квелой. Страшно представить себе целый город таких людей.
Если тебе дан приказ взять город, а в нем достать, между прочим, тушь, то ты можешь взять город и всетаки получить взыскание, если ты при этом забыл о туши…
В последнее время мне снятся вещие сны. Сны возмутительно прозаические и реальные. В них нет никакой фантазии, не только фантастики сна. Никакого смещения действительности и вымысла, которые любишь во сне. Так, например: мое возвращение домой и все те разочарования, какие будут у меня, когда я вернусь. Тут я накрутил, намудрил, намечтал; мне кажется, что моя значительность растет пропорционально моим страданиям; в действительности же — и в приснившемся мне нынче сне — ничего подобного нет, скорее наоборот. Сон был удивительно реальным, даже в деталях, и принес мне чувство пустоты наперед пережитого. Затем сон о бомбежке. Тоже без преувеличении, так же просто и страшно, как оно не раз бывало и, верно, не раз еще будет.
Отправляли сухари и консервы в части прорыва Гусева. Один мешок развязался. Грузчики сразу же схватили по банке сгущенного молока и пачке сухарей. Шапиро сказал:
— Что же вы еще не берете?
Возмущение:
— Надо же совесть знать, ведь ребятам на передовую везем.
Ну вот, так и живу. Суета. Мышиная возня. Игра в дловитость. Во всем преобладает показная сторона. Трудно понять размеры этого. Уродство какоето! Казалось бы, где — где, но уж не в армии. И что же: главное тут не суть работы, а как подано. И так повсеместно. Хорошо поданный минимум предпочитается небрежно поданному максимуму. Листовки. То время, которое Шишловский[14] мог бы потратить на придумывание новых листовок, он тратит на подклеивание старых, давно отосланных, полученных и позабытых — бессмысленный и обидный труд. И конца этому не видно. Рощин[15] в какомто сладострастном исступлении шлет всё новые и новые папочки. «Еще одна папочка, и враг будет разбит!»
— Пойдите на базу и принесите табурет.
— На базе табуретов нет…
— Не философствовать!..
«Не философствовать!» — это крик летит над всем фронтом. Его орут крепкоголовые младшие лейтенанты, бывшие профессора и кандидаты наук из работников политотделов, эти последние особенно охотно и часто. Сморщившись от надсада, наслаждаясь собственной тупостью.
То, что на фронте тупость не только позволительна, но и узаконена как положительное явление, составляет для многих главную отраду фронтовой жизни. Ради этого окрика и приятного чувства, с ним связанного, все эти бывшие профессора и кандидаты готовы, чтобы война длилась сто лет.
Замначальника 7–го отдела Кравченко — тупица, лицемер и садист. Докторант географических наук. «Не рассуждать» и «не философствовать» не сходит у него с языка. Л ведь, казалось бы, по долгу гражданской деятельности он мог бы свыкнуться с такими вещами, как «рассуждение». Представляю, как он должен был мучиться в «гражданке», когда ему каждый день приходилось «философствовать».
Эти мордастые холуи, случайно попавшие в науку, а сейчас вернувшиеся к тому, что было их настоящим призванием, — самое отвратительное, что есть на фронте.
— 10 папочек, 24 папочки, 40 папочек, черт возьми! Мы должны показывать нашу работу!!
Плохо, что лишь противотанковым расчетам засчитываются в актив уничтоженные танки. Нечто подобное должно было бы быть и в работе политотделов. Я бы завел так: каждая папочка — это такойто отрезок времени, отнятый от дела агитации и пропаганды. За каждую папочку — взыскание Рощину, Кравченко. После десяти папочек — разжалование на один чин и т. д.
Корреспондент Бровман пишет только о поварах.
Сижу и зверски расчесываю мучительно зудящее тело. Читаю «Westostlicher Divan»[16] и другую лирику Гёте. Прочту, запущу руку под мышку; извлеку вошь, и к ногтю.
Уж если слишком донимают, подпаливаю рубаху под лампой. Если стихотворение слабо, зуд сильнее, и борьба с гнусом ожесточенней; когда попадается действительно прекрасное — вошь почти незаметна.
Вот истинная, без дураков, оценка лирики.
Таким образом я выяснил, что не очень много остается от Гёте, — вошь сильно донимала, но вот «К Миньоне», «Der Konig in Thule»[17], «Hei mich nicht reden…»[18] и коечто Другое — превосходные вещи, настоящий пиретрум!
Когда же дело дошло до «Дивана», паразиты меня буквально замучили.
Приехал с передовой инспектор по комсомолу. Рассказывал, что на переднем крае нет никаких укреплений. Так, только шалашики стоят из еловых веток. Он разводил руками:
— Ведь какие ленивые ребята, окопаться не хотят!
Это черта русского народа: не ценить свою жизнь. Слишком нас много — подумаешь, десятком меньше, десятком больше. Все мы слишком взаимозаменимы. Тем, кто думает, что мысль эта абстрактна, поскольку ничего подобного не может быть в психологии каждого отдельного человека, нужно учесть, что это чувство не столько врожденное, сколько воспитанное в нас государством. Воспитанное — в самом широком смысле, включая и то неуважение к нам государства, которое переходит в личное неуважение, в отсутствие уверенности в том, что ты, действительно, имеешь право на существование.
Храбрость и трусость. Когда бомбят, надо уходить в укрытие или в щели. В здании Г1У остаются лишь двое дежурных. Я побывал разок в подвале и разок в щели. Понял, что это не для меня. Я не выношу ни тесноты, ни скученности, особенно в темноте. Я стал всякий раз подменять одного из дежурных. Пошли разговоры о том, что я выставляюсь — хочу показать, какой я храбрый. Инструктор Алексеев сказал мне злобно: «Зачем вам этот выпендреж? Что вы хотите доказать?» А ничего: просто в щели и в подвале мне страшно. Даже без бомбежки. Но попробуй это объяснить. Я даже работать продолжаю во время налетов, настолько это меня не волнует. А при мысли о подвале у меня начинается сердцебиение.
Я суеверен. Вначале расстроился, а потом решил, что не суеверны только ослы и посредственности, которые с жизнью запанибрата и считают, что всё зависит от их личной ловкости, сметливости и осторожности.
Воспоминание: в Калинине страшная, косоглазая и круглощекая девка пялила на меня буркалы, закусывала нижнюю губу желтыми резцами и собиралась сожрать, как кошка — мышь.
По нашей улице ходят на лыжах партизаны[19]. Они одеты в чистые, стираные, белые балахоны, укрывающие их от макушки до щиколоток. Вокруг лба, запястий и щиколоток тесемчатые завязки. Партизаны кажутся горбатыми: на спинах, под балахонами — вещевые мешки. На груди чернеют стволы автоматов. Они выезжают на угол улицы и дружно замирают перед глазком фотоаппарата, затем снова продолжают разминаться. Ходят они как будто плохо, неумело, но чувствуется, что таким вот утиным шагом они могут пройти бессчетное количество верст. Среди них была девушка с серыми глазами и пятнистым румянцем.
В большинстве это ленинградцы, студенты института Лесгафта, но есть и коренники.
Встречается и другая разновидность партизан, тоже в белых, но только грязноватых халатах и в странных демаскирующих ушанках: с фиолетовым верхом и лисьей, вернее, под лису, опушкой. Непонятно, что это — верх продуманности и расчета: шапки будут сливаться с багряно — фиолетовым многоцветьем сосновой коры и весенней прелостью почвы; или же это скверное разгильдяйство: не было белого меха и поставили эту рыжатину.
Может быть, если бы у нас не были так «заобыднены» живые и подчас прекрасные явления (к примеру, партизаны), человек, от которого зависело сделать эти шапки, подумал бы, что шапка должна прикрывать голову юноши, пожертвовавшего своим личным счастьем для блага всех людей; может быть, он подумал бы о прекрасной и ужасной жизни, которую ведет этот партизан, и тогда расшибся бы в лепешку, но не выпустил такой губительной шапки. Но высокие слова заношены, за ними не чувствуется никакого живого наполнения, а на условное понятие можно и не такую шапку, а ночной горшок надеть.
Говорят: литература… А ведь всё залганное в литературе — нашей литературе — рано или поздно обращается в живое бедствие…
Мне последнее время не хочется писать. Может, и не стоит себя насиловать? Ведь мне — страшно подумать — заниматься этим всю жизнь.
В столовой — боевое пополнение, три новых подавальщицы из Москвы. Одна — кругложопая, с полными икрами, плоским миловидным лицом и слабым, жирным плечевым поясом, сразу заставила вспомнить, что вот уже два месяца мы без жен. Ощущение было настолько явственным и сильным, что Шишловский сказал с грубым раздражением: «На кой эту б…. сюда пустили…»
И всё же ни я, ни мои сверстники не принимаемся «за работу». Целомудренное, деловитое, сухое поколение! Работу без кавычек мы принимаем всерьез и всерьез считаем, что на нее мы и должны ухлопать жизнь. Карьера, четкая и ограниченная, — вот смысл нашей жизни, и я чувствую, что мне тоже не избежать этого. Н хотелось бы скорее пройти положенные мне ступени и освободить душу.
Сегодня наша переводчица Килочицкая, святая курица, подходит ко мне и говорит:
— Юрий Маркович, я хочу вас предупредить — о вас очень плохого мнения. Говорят, что вы циничны, развращены и к тому же трус. Мне больно за вас, как за русского юношу.
— Любовь Ивановна, — сказал я, — к сожалению, это всё святая правда.
— Но как же так? Я ничего этого не вижу.
— Вы слишком доверчивы. Умные люди проглянули меня в самую глубь.
Ну, насчет трусости это понятно — не хожу в убежище. Развращенность тоже — не ухаживаю за подавальщицами и машинистками. Но откуда — цинизм? Я ни с кем не общаюсь, кроме Шишловского, а он человек надежный и преданный в дружбе. К тому же между нами сроду не было циничных разговоров. Я даже не очень понимаю, что это значит.
Любопытный перепад: голубая душа и трусливый, развращенный циник. Интересно, как работает механизм общественного мнения? Ктото должен дать первый толчок, но кто?..
Трусливый — это противно, но развращенный циник — в этом чтото есть. Я даже себя на минуту зауважал — лопух несчастный.
Вчера вечером играли в карты, пили спирт и болтали. Верцман[20] шел только на рубль, ставил в банк рубль и бросил играть, проиграв рубль. Мы были возмущены такой скаредностью. Гуманист Мишин сказал:
— Что вы от него хотите, у человека нет желаний, он чувствует себя почти трупом.
— Да, — сказал я, — он чувствует себя трупом и хочет отложить на жизнь.
Шапиро сидел совершенно бледный, с блестящими глазами и неожиданно начал упрашивать Верцмана, чтобы тот отпустил его в армию за материалами, убежденно, страстно. Тот лепетал, что он человек маленький (он даже не подозревал, насколько был прав на этот раз), но Шапиро умолял не отказать ему в его просьбе. Потом он блевал, и мы стаскивали с него штаны. Мне было забавно, что бывший строевик Шапиро такой же «нервяк», как я, иначе откуда такой надрыв?..
Мишин, в одном белье, пьяный, говорил о «Мистериях» Гамсуна и о том, как ночью спят все враги, и всем наплевать на дневную вражду. Кеворкова, уставившись на него, орала, что ей противно на него смотреть.
До этого Мишин говорил, что у меня квадратная жена и что если ткнуть в нее пальцем, то получится чтото несоответствующее его идеалу женской красоты. Ситуация, в которой во всех случаях оказываешься в смешном положении: и если реагируешь на это пощечиной, и если делаешь вид, что ты стоишь выше этого и любишь свою жену только за красивую душу.
Да, я наделал ошибок. Но это было правильно. Иначе я никогда бы не знал о возможности этих ошибок и не получил бы теперешнего опыта. Я думал, что дело важнее отношений, что начальнику импонирует правда, что надо отстаивать свою точку зрения, даже если ты в меньшинстве. Это кромешная глупость. Важны только личные отношения, начальству нельзя противоречить, не надо грубо льстить и не надо выбиваться из стада. Это всё не для меня. Я могу слинять, сдержаться, отойти в сторону — не больше. На активную низость я не способен. Мне будет нелегко в любом человеческом обществе. И с этим ничего не поделаешь.
Всё в жизни имеет ложный вес, ложную длину, всё измерено неправильной линейкой, и в то же самое время это и есть правильный вес и длина, это точная линейка…
Великое равновесие жизни. Война будет идти до тех пор, пока равновесие не будет утрачено. Тогда спохватятся. А до того: люди привыкают к разлуке, к одиночеству, к бомбежке, к смерти, компенсируя это чемто, достигают какогото равновесия внутри себя. Когда выйдут наружу силы, которым уже не сыщешь компенсации, силы разрушения, которые окажутся сильнее не только одного человека, но и всех людей, вместе взятых, — тогда война кончится.
Я постепенно привыкаю к тому, что не увижусь более ни с кем из своих родных и близких, и только изредка хитрое подсознание говорит мне, что это суеверная страховка.
Когда ночю я вышел во двор, мне в сердце пахнуло чувство детского страха.
Я написал в рассказе о том, какие замечательные люди здесь на фронте, на передовой, разумеется, а не в военных ведомствах. И тут же испугался лжи и мысленно сказал себе: ничего замечательного, люди как люди.
И то, и другое — пошлость. Второе — даже большая. Люди— бойцы и командиры — конечно, в тысячу раз лучше, чем они же были в гражданской жизни; душевнее, грустнее, мягче. Вчерашний бандит и громила здесь, под давлением ожидания близкой смерти, обретает поэтическую мягкость обреченности. Надо видеть эту склонность к дружбе, откровенности, мужество, с которым они идут на смерть (не мужество, это чушь — относительное равнодушие), но в то же время помнить, что, сними с него военную форму, и он превратиться в себя прежнего. Будет бить по головам людей на улицах, матюгаться, хвастаться, скандалить и хлестать водку. Поэтому не стоит прислушиваться ко всем этим патетическим возгласам: «Какие люди!», «Вы посмотрите, какие люди!», «Есть ли где такие люди!»… Дайте кончиться войне, тогда и увидим, кто есть кто.
Русский человек прекрасен на войне, потому что смерть рождает у него не страх, а покорную грусть и старинное «не поминайте лихом». Да и вообще, при нашей жизни переход в иной мир не столь уж труден.
Вчера по улице пронесся грузовик с высоким бортом. В нем стоял немолодой боец в ватнике и с трехгранным штыком. А впереди, придерживаясь рукой за верх кабины, сидел молодой, выбритый до кости красавец — немец. Он был без шинели, но даже не сутулился от ветра. Если таких осталось много, то война будет долгая. Но даже тех грязных и оборванных, которые нам попадались раньше, достаточно, чтобы затянуть войну. Ведь и у них хватает сил держать винтовку.
Мне нравится в нашей жизни то, что так легко можно заявлять во всеуслышание о своих нуждах — физических, в первую очередь, и так просто перейти к хамству. Никаких околичностей, люди общаются друг с другом по прямой, а прямая, как известно, кратчайшее расстояние между двумя точками.
Мне снился печальный и жестокий сон: я отшлепал маленького щеночка так, что он упал на трамвайные рельсы и не мог подняться, а вдалеке звенел трамвай… Что это такое? У меня в жизни не было сходного переживания. Так может быть этот щенок — я сам?
Мы работаем. В соседней комнате плачет, стонет, кричит и сморкается наша низкорослая, забавная хозяйка. Она получила извещение: на фронте погиб ее муж. Рядом с ней на кровати плачут, по — взрослому голосят и причитают ее маленькие дочки. Плачут безнадежно горько, потом поочередно выбегают во двор поссать и опять плачут, обращаясь друг к ДРУгу: «Ох, доченьки!», «Ох, мамынька!»…
И странно, в такие моменты, вместе с болью, чувствуешь какоето облегчение, даже радость. Кажется, что еще одно страдание упало на чашу весов, и теперь она перевесит чье-то равнодушие, и война кончится. Ведь нельзя же, в самом деле, думать, что эти слёзы напрасны…
Между прочим, лишний раз выяснил, что бывший строевой офицер Мишин в смысле трусости может дать всем нам сто очков вперед. Он, оказывается, в столовую ходит с невероятной мукой, потому что столовая — в районе бомбежки. Я понял, почему Хемингуэй столько занимался мужской трусостью. Это, действительно, основное содержание жизни мужчины: бороть и бороть это чувство. Тема великого насилия над человеческой душой. Трагизм современного человека: сердца мягкие и вялые, а поступки требуются такие, по сравнению с которыми подвиги Ланцелота — игра в бирюльки. Мужчина живет в вечном страхе: война, начальство, статьи, жена, борьба за существование. Мы все великие трусы и великие храбрецы. Мы имеем силу не сойти с ума, вернее, сойти с ума только наполовину!..
Жизнь состоит из приливов и отливов. Надо уметь не обольщаться приливами, хотя и не бояься получать радость от них, надо уметь спокойно выжидать их возврата и тяжкие моменты отливов.
Я этого почти совсем не умею делать. Чуть прилив, или даже тень прилива, — я делаю вызывающие глупости; чуть отлив — впадаю в отчаяние. Трудно жить с такой кривой и спазматической душой.
Пришла черная весна… За один день была уничтожена длительная и упорная работа зимы.
У раскрытой двери землянки. Снег залетает. Холодно. Буду писать, пока не закоченею. Сегодня день моего рождения. Я почти всегда плевал на это и лишь дважды в жизни устраивал встречу, но сегодня мне хочется плакать, что в этот день я не дома, а шляюсь по изломанному, гнусно исковерканному снарядами лесу, под завывание и свиристение мин на передовую и обратно, причем совершенно бесцельно. Какая сволочь во мне заставила меня сменить милый любящий дом на этот унылый авантюризм мужской жизни!
Е. ж.б., то буду писать только об одном: не выходите из своей семьи, не обольщайтесь мнимой «широтой» мира. А может быть, вру? Приеду домой и с чувством счастливо избегнутой опасности начну славить мужественную мужскую жизнь? Ведь приятно втравить своего ближнего в ту же гадость, из которой сам с трудом выбрался!
Боже, избави меня от «ярко прожитой жизни». Как пахнут щеки жены утром, днем, вечером, когда она немного устала. Вдыхать этот милый запах, смотреть на ее пальцы; пусть мать ходит по комнате, рассказывает о своем детстве. Как двигаются домашние, что они говорят — нет, этот мир бесконечно богат и разнообразен, а в «широком мире» от скуки едва можно выдержать неделю…
Крест. На кресте с искусством бушмена нарисован танк. Надпись: «Иван Трофимыч Коростеньков погиб от руки фашизма. Брат».
Когда он снял шапку, у него оказалась бритая, непрочная голова человека, который должен погибнуть в первом же сражении.
Чем больше я сижу в этой грязи, вони и страхе, набираясь вшей и впечатлений, тем сокрушительней, больней, печальней, пронзительней и милей встает передо мной образ мамы.
И мне приятно в то же время, что она сама не одобрила бы моей расслабленности. Она так умна и проницательна от любви, что хочет мне широкой жизни поверх разлуки и сильных, но маленьких перед всей жизнью сожалений о даром пропавших возможностях.
Татаринов[21]— холодный и любознательный человек. Всё видит и всем интересуется, начиная от коробки изпод разряженной немецкой мины до глисты в помете на дороге. Иногда даже высказывает неглупые мысли за счет того, что знает очень много вещей, которые както невольно упорядочились у него в сознании, образовав подобие ассоциативного мира.
Здоровые люди от рюмки водки краснеют, перед боем чувствуют подъем, возбуждение. Я от рюмки бледнею, перед опасностью меня охватывает сонливый упадок сил.
— Атака начнется в тринадцать пятьдесят!..
Конечно, было и тринадцать пятьдесят, и четырнадцать десять, двадцать, сорок, — а танков всё не было. Артиллерия отговорила и замолкла. Куда девались танки? Их должен был отправить начальник штаба, но, оказывается, его видели… на лошади, мчащимся в сторону подива[22]. Начальник штаба должен был посадить на танки десантников. Он беспечно послал людей во вторую просеку. А танки стояли в четвертой. Люди пришли — танков нету. Ну, сели, покурили. Покурили — и ушли довольные. С этого всё и началось. На танки посадили разведку. Танки пошли, когда противник уже успел оправиться после обстрела. Их встретили термитными снарядами. Наши всетаки ворвались в лес и закричали «ура». Пять блиндажей раздавили, а шестой никак. Из него и заклепали люки термитным снарядом. Четырех разведчиков сожгло на танке. Я их видел, когда их отодрали от брони и сбросили совсем рядом с НП. Они дымились и воняли горелым сладковатым мясом. У одного вместо лица страшная кровавая каша, торчат окровавленные мослы, у второго сорван череп и вырван весь мозг, и кожа с темени завернулась, как пергамент, на лоб, третий лежал кверху задницей. Штаны сгорели. Задница голая, вощеная и завиток кала. Распухшая мошонка. Мертвые сраму не имут, но эта унизительно похабная смерть невыносимо отвратительна и гнусна, от нее тошнит и нет никакой жалости — бешенство на то, что так унижают человека.
Итак, танки отступили. Пехоту расстреляли. А немцы сбросили с парашютом снайпера, который, казалось, опустился прямо на сосну и тут же стал обстреливать наш НП.
Мало этого, немцы пошли в контратаку. Четыре танка, за ними автоматчики. Они двигались прямо на НП. Вот так совсем недавно погиб журналист Михаил Розенфельд — вражеские танки разутюжили НП.