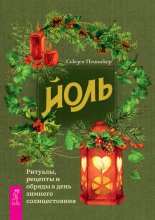Дневник Волкова Паола

Надо сказать, что шорты у меня длинноваты. Сама же сидит в куцем сарафанчике, и страшная, необъятная грудь выпирает даже из подмышечных разрезов, а толстые вены просматриваются не только на икрах, но и на ляжках. Но считается, что она одета прилично. Правда, в добрые сталинские времена на Крымском побережье женщинам в сарафанах не позволяли даже в волейбол играть. На редкость чистое и целомудренное было время. Сейчас куда свободней, но до шортов мы еще не дошли. Крепко сидит татарщина в русской душе.
Сегодня был странный гром в низком, сером, сплошь заволоченном тучами небе. Как могли возникать сухие электрические разряды в свисающих чуть не до самой земли влажных серых шмотьях? Но ведь за этой наволочю было небо — голубое и просторное, и там сшибались тучи, творя огонь и гром. То была гроза в верхнем ярусе неба.
Вчера зашел далеко, в незнакомые места, откуда просмат ривается взлетная площадка Внуковского аэродрома, и вдруг увидел впереди поле, накрытое белой пеной. Ничего подобного я не видел да и не ждал увидеть в скудном Подмосковье. И пока не подошел вплотную к полю, не понимал, что это за диво… Оказалось, чайные ромашки. Гектаров десять покрыто ими. А за оврагом чуть меньшее поле спошь синее — васильки. Это не обычные наши васильки, скромные цветочки, прячущиеся во ржи, а какието васильковые джунг ли, кусты васильков в пол человеческого роста. И лежат себе рядком два дивных поля — белое и синее посреди такой неяркой России.
Позже местные люди объяснили мне невеселый смысл этого дива. Там были два клеверища, но колхозники не вышли на прополку, и сорняки задушили клевер. Между собой разбойники договорились, поделив зоны влияния. Печальный секрет красоты.
А потомласка перебежала мне дорогу. До чего ж изящна, изысканна, жеманна и до чего ж свирепа! Я никогда не встречал в окрестностях ласок.
Лето меж тем уходит: в грозах, сменяемых зноем, а ныне в печальных затяжных дождях. Приметно укоротился день, и уже ясно, что то прекрасное и необыкновенное, чего ждешь от каждого лета, опять не случилось. И как странно, что в пятьдесят три я так же жду летнего чуда, как ждал в двадцать, тридцать. Но тогда, все же, чтото случалось, каждое лето приносило маленькое открытие — в окружающем или в себе самом. Теперь открытий не бывает. Верх счастья — новая лестница в дачном доме. А так, каждое лето для нас — очередное жестокое заболевание или мамы или Я. С. И Алла не прочь скрасить лето мучительно прорезавшимся вкось десны — на старости лет — зубом мудрости. Летом активизируется кино, чтобы лишить меня и тени покоя.
Домбровский, как гоголевский всадник из «Страшной мести», затмил полнеба, — до чего надоел мне этот польский авантюрист, упорно, после всех запретов рвущийся на экран. Я могу загореться от любого, даже самого слабого огонька, но не могу затлеть от тусклых образов революционных демократов, или как там они называются. Я настолько чужд мнимостям, что даже терминологией не в силах овладеть. И затаился таинственный Куросава, приславший неправдоподобно скверный, беспомощный вариант сценария. Какова будет разгадка этого сфинкса?..
Десять дней тому назад нас пригласили к Яковлеву «на Кинга». Этого несчастного льва снимает Эльдар Рязанов в советско — итальянской картине. Льва привезли в Москву на автобусе, почемуто не из Баку, где он живет у прославившихся на весь мир Берберовых, а из Алма — Аты. Насколько я понял, он там тоже снимался. Четыре тысячи километров по бездорожью много даже для человека, а не то что для льва. В наш поселок его доставили якобы для того, чтобы порадовать больных детей в сердечном санатории, на деле же, чтобы участвовать в телерекламе Яковлева. Реклама же послужит подспорьем двухсерийному фильму хозяина дома, который тот почти навязал «Ленфильму». Так что Кинга ждет путешествие на берега пустынных невских волн. В автобусе вместе со львом и Берберовыми прибыли папа — Хофкин (отец писателя Яковлева), наиболее выдающиеся родственники, оператор «Ленфильма» и еще двое киношников. На заборе было написано: «Привет Кингу!» Лев был явно растроган. На встречу со львом были приглашены все наиболее уважаемые жители нашего поселка.
Лев, большой и несчастный, лежал под деревом в саду, его трогательно охранял крошечный файтерьер Чип. С одного взгляда было ясно, что этот печальный зверь — существо ущербное, больное, неполноценное. Так оно и оказалось. Он родился рахитиком, уродцем, и мать — львица хотела его ликвидировать, очевидно, в порядке искусственного отбора. Она успела разорвать ему бок, когда львенка отняли. Берберовы взяли уродца и выходили. Он переболел всеми видами чумок, инфекционных и простудных заболеваний. У него изжелта — коричневые гнилые зубы которыми он всё же уминает 8 кг парного мяса в день.
Живут Берберовы в двухкомнатной квартире, где кроме них и льва, еще двое детей, бабушка, собака, две кошки и еще чтото живое — еле живое. Всё, что они делали со львом, было подвигом и течение четырех лет, а сейчас началось нечто иное, весьма пошлое, с коммерческим уклоном.
Гадок и страшен был этот сабантуй. Поначалу лев развязал в людях все самое пошлое и низкопробное в них. Солодарь превзошел себя в пошлости, Крепе — в краснобайстве, Люся Уварова — в фальши, Жимерины — в палаческой сентиментальности, Байбаков — в лицемерии и лукавстве, Яковлев — в жутковатой разбойничьей умиленности, я — в пьянстве. А позже было вот что: фрондеры вдруг почувствовали, что «с ними» можно жить, а стукачи и власть имущие ощутили прилив бунтарского безумия. Рядом с этим жалким-больным, но настоящим львом нельзя было оставаться собой обычным, надо было чтото срочно менять в себе, чтото делать с собой. И каждый постарался стать другим. Всех опалило чистотой пустыни, первозданностю. Происходило очищение львом. Жимерин плакал навзрыд, слушая рассказ Берберовой о детстве Кинга, Байбаков, утирая слёзы с толстых щек, обещал Берберовым квартиру, дачу и мини — автобус. Люся Уварова предложила провести подписку в пользу Кинга. Хозяйка, «мама» Кинга произнесла заученный монолог с точно рассчитанными паузами, взволнованными обертонами, своевременными увлажнениями глаз о горестной и поучительной жизни Кинга, спасенного человеческой добротой. Под конец плакали все, кроме меня. Я был просто раздавлен мерзостью этого шабаша на худых благородных ребрах Кинга. И вот что любопытно — я сказал Алле: «А вдруг Кинг возьмет да и помрет, и развалится весь берберовский бизнес». И как в воду глядел! Будь оно неладно это провидчество.
Очумевшая от тщеславия и заманчивых перспектив семья выпустила льва изпод наблюдения. Они жили в пустующей по летнему времени школе напротив «Мосфильма». Льву отвели физкультурный зал, семья разместилась в классах этажом выше. Во время обеда с вином и тостами произошло следующее. Мимо школьного сада шел студент и захотелось ему полакомиться незрелыми, дизентерийными яблочками. Недолго думая, он перемахнул через решетку, и тут его увидел Кинг. Лев выпрыгнул в открытое окно и с рычанием направился к ворюге. Тот заорал от ужаса и кинулся бежать. Кинг нагнал его, сшиб на землю и придавил лапой. Больше он ничего дурного ему не сделал, но проходивший мимо бравый милиционер, чуждый всем средствам информации и потому ничего не знавший о ручном льве, выхватил пистолет и разрядил обойму в голову Кинга.
Хороши все участники этой истории, кроме безвинного
Кинга. Берберовы, которые так загуляли и забражничали что оставили льва без надзора. Пусть он неопасен для окружающих, но окружающие крайне опасны для льва. Студент (вспомним старого русского студента — книжника, бунтаря, бессребреника, готового жизнь отдать за идею) — мелкий воришка, хулиган. Идиот — милиционер, умудрившийся ничего не знать о том, чем живет вся Москва; Кингом набиты газеты, о нем кричало радио, он не сходил с телеэкрана. Впрочем, милиционеру его неосведомленность принесла удачу: он награжден медалью «За отвагу». До чего дурной вкус — публиковать указ о награждении в газетах, ведь все москвичи знают, какого льва убил этот милицейский Тартарен.
На другой день сдох Чип, не переживший гибели друга.
Кинга похоронили на участке Яковлевых. На скорую руку собрали поминки. Две племянницы Яковлева обходили участников первого банкета и требовательно спрашивали вина и водки. Мы дали бутылку, но на поминки пе пошли. Хоть бы удержались Берберовы от этого визита, зачем проигрываться до грязного белья. Их существование разом обесценилось, погас ореол, остались два скучных, заурядных обывателя. Да они и были обывателями, на миг поднявшимися над своей малой сутью, а сейчас вернулись к естественному образу. Накрылась квартира, дача, мини — автобус — повезло Байбакову, давшему поймать себя на приманку из сладких соплей. Берберовы получили по заслугам, ибо предали суть Кинга. А льва жалко.
Но жизнь сложнее и богаче, чем кажется. Вскоре нам прислали фотографии Кинга, сделанные в саду Яковлевых; набор, включавший и постороннее фото, где Кинг играет с голенькой дочкой Берберовых — снимок так и просится на обложку гнусного журнальчика «Лолита», — стоил четвертной. Оказывается, деньги пойдут на покупку нового льва для Берберовых. Затем последовала уже незамаскированная складчина, и мы имели низость в ней участвовать, хотя Берберовых нельзя подпускать к львам на пушечный выстрел. И льва купили, и какаято часть этого льва принадлежит нам с Аллой: лапа, коготь, кисточка хвоста. И квартиру Берберовы всетаки получили, и дела у них опять както закрутились (кинохалтура в том числе). Но теперь всё пошло хуже, в полнакала, окружающие догадались, что имеют дело вовсе не с природолюбами, а с хитрыми спекулянтами. У нас нет общественного мнения, которое создает и губит репутации, зато есть мощная система доносов. И полетели в разные руководящие азербайджанские инстанции (Берберовы живут в Баку) разоблаительные эпистолы. Чем всё это кончилось, не знаю. Во всяком случае, на переднем крае советского гуманизма Берберовых я больше не встречал.
Конец сентября, дня и числа нет, как у Поприщина, в которого я постепенно превращаюсь. Беззвременье, окостенение, остановка всякого движения. Со свалки выгребаются вонючие, полусгнившие отбросы и подаются на прилавок: ударничество, переходящие стяги, грамоты, ГТО, субботники, массовые проработки, холодные, в полусне митинги, кинохроника с комбайнерами и тучами половы и тупое, мрачное вранье. Растет и ширится раковая опухоль. Есть от чего прийти в отчаяние. Отсюда же всеобщий цинизм, гнилые усмешки, самоуверенность власть имущих, знающих, что от них ничего не требуется, кроме одного: не делать, не двигаться, не пускаться в объяснения, быть просто глыбой на пути всякого развития. Хороший гражданин представляется начальству в виде мумии. Отсюда такая любовь к парализованным — ив жизни, и в литературе, с ними нет хлопот. По идее, всем гражданам не мешало бы уподобиться Николаю Островскому — слепому паралитику. Это совершенный гражданин. Помаленьку к тому и идет. И как тут сохранить рассудок!
Спокойствие, выдержка, работа — таков наказ себе. И помни: твоя судьба не на дорогах международного туризма, а в литературе. Значит, смириться, сдаться, признать свое поражение? Я на это не способен. И никакой литературы не родится в униженной душе.
Нет, не могу я признать, что так всё и должно быть в моей жизни. Не из самолюбия, не Из повышенного представления о собственной личности, просто я не вижу в этом смысла, объективного смысла. Я делаю в кино вещи, которые работают на наш строй, а их портят, терзают, лишают смысла и положительной силы воздействия. И никто не хочет заступиться. Даже не понимают, зачем развожу я бессмысленную суету. Может быть, это отвечает новому правилу, чтобы интеллигенция ела свой хлеб со слезой? То, что делается у нас, так несозвучно всему остальному миру, его устремлениям, его обеспокоенности, его серьезным потугам найти выход. Наш трамвай чудовищно дергает, и пассажиры поминутно валятся то ничком, то навзничь. А смысл этих рывков никто не понимает.
У меня никогда и ничего не выйдет. Одного смирения мало, нужно прямое предательство, активное участие в подлостях, нужно рубить головы стрельцам — так повелось еще со времен Петра. Боюсь, что с моей великой идеей: прожить жизнь до конца порядочным человеком ничего не выйдет. Порядочным человеком ято останусь, но жизни не проживу — загнусь до срока.
Почему бунтари так живородящи? Плодятся себе и плодятся, аж оторопь берет. Тут чтото есть. Какаято биологическая игра, придающая особую силу семени. Стремление распространиться?..
А Саша с Аней[102] наркоманятся. Каким бредом обернулась судьба дочери полкового комиссара, уставного начетчика. Но в этом есть мрачноватая красота. А попробуй рассказать жизнь подавляющего большинства наших знакомых: ничего нет, не было и не будет.
Сегодня весь день за вычетом полуторачасовой прогулки и получасового сна просидел за письменным столом над рассказом о Лескове. Пишется со смаком, что вовсе не гарантирует успеха. И всетаки ничего не осталось, кроме этого. И хорошо, что я так долго и продуктивно могу сидеть за столом. Раньше меня хватало лишь на три — четыре часа, а в молодости и того меньше. Чтото наладилось в башке.
А завтра в пять дня мы улетаем в Японию. Интересно, что нас ждет. Долетим ли? А если долетим, не угробимся, не окажемся в Китае, не взорвемся от пластиковой бомбы, то как встретит нас загадочный и несчастный Куросава и странный, улыбающийся, печальный Мацуэ, и вся Япония, которая после книги Шаброля, деятельности ультралевых и некоторых собственных размышлений уж не кажется мне такой миленькой уютной страной, как после первой поездки. Хотя и тогда сквозь розовые очки, которые я на себя напялил, мне проблескивало чтото тревожное, что и отразилось в рассказах. Мне никак не удается представить себе образ предстоящего нам с Аллой двухнедельного бытия. Мерещится чтото тяжелое, мучительное и скучное. А почему, сам не знаю.
Может быть, я не понимаю Куросаву? — Надо дать ему делать, что он хочет. Ну, на кой мне черт те куски, которые я не придумал даже, а взял у Перова, или у самого Арсеньева? Авторское самолюбие тут ни при чем, а свое ремесленное умение я доказал. Надо отбить лишь то, что необходимо для постановки фильма. А в остальном уступить ему, сохранив, конечно, лицо. Беда в том, что я не стал до конца халтурщиком, которому на всё наплевать. Но может быть, у Куросавы есть какаято своя правда, высшая, чем моя? Он не хочет делать увлекательного фильма, он хочет, чтобы люди смотрели историю дружбы русского офицера — ученого и гольда — проводника с тихим сердцем? Тогда я зря его мучаю. Надо будет во всем этом разобраться в Японии. А здорово начальство скинуло на меня все дела с Куросавой. Вот ловкачи! Даже Аллу пустили, лишь бы я принял на себя удар…
Съездили, погрезили и вернулись. И опять уезжаем. Теперь в Польшу. Зачем? Наверное, надо. За время, минувшее с нашего возвращения, был мосфильмовский бред, положительная, но какаято скверная, недобрая рецензия О. Смирнова на мой двухтомник, были т. и. «друзья», люди из другого измерения, много — много печали. Посмотрим, что даст нам Польша. Здесь, кроме работы и водки, нет ничего. Всё остальное самообман. Надо использовать Польшу для возвращения к себе. Хотя бы на год.
1974
Впервые за всю мою жизнь я встречал Новый год не дома, а в чужой стране. Даже моя короткая и блистательная военная карьера точно уложилась между двумя московскими новогодними встречами. Я пошел призываться 1 января 1942 года и вернулся с Воронежского фронта контуженный и больной в конце того же года.
Новый 1974–й я встречал в Варшаве, в доме режиссера Ежи Гофмана.
Дневника со мной не было, поэтому но подводил итогов. Делаю это сейчас. Можно было бы вообще этого не делать, но я не могу не проводить добрым словом год, который после многих мерзостей, явил мне милость.
Прежде всего, это был первый год без больницы. Во — вторых, семьдесят третий исправил то, что испортил его предшественник. Я получил компенсацию за тот ущерб — деловой и моральный, который мне нанесла «Литературка». Роскошная статья Л. Фоменко в «Знамени», статьи в «Лит. России», «Огоньке» и «Новом мире» хорошо отметили и выход моего двухтомника и повесть о Чайковском. Вышла толстая книга военных рассказов. Напечатаны: «Гдето возле консерватории», «Сон о Тютчеве», «Надгробье Кристофера Марло», «Сентиментальное путешествие». Я съездил в Италию, Чехословакию, Японию и дважды в Польшу. Я вытащил Аллу за кордон, а это чегонибудь да стоит. Была чудесная поездка в Японию, а два с лишним месяца в Польше так значительны, что об этом стоило бы написать отдельно. Написаны два новых сценария: «Дерсу Узала», «Иван да Марья» и вторая серия «Домбровского», оживленного моим упорством и счастливым явлением Богдана Порембы. Опубликован сценарий «Октябрь-44». Я помог Тублину, и это, наверное, наилучшее из всего.
Написал повесть о Чайковском (вторую), большой рассказ о Лескове, очерк о Куросаве и о Варшаве. Посмотрел превосходные фильмы: «Последнее танго в Париже», «Механи ческий апельсин», «Кабаре», «Исчезающий пункт», «Свадьба», «Крестный отец», «Семь самураев», «Холодная кровь», любопытные спектакли по пьесам Ружевича, Мрожека, Ионеско, интересного «Гамлета» с Ольбрыхским, Ханушкевичем и Куцевной. Были хорошие кабаки в Италии, Японии и Польше. Хорошие книги: Ремизов, мемуары. Был Ленинград с театром Товстоногова, прекрасными рассказами Гейченко о Распутине, Николае II, царских министрах, симпатичным Тублиным. И если б не охватившая меня вдруг печаль, я рассказал бы с большей горячностью о минувшем годе.
МАМА У вас еще хорошие ноги, Нина.
НИНА: Какой там!.. Одни копии остались.
— Если упадет атомная бомба, останутся одни рувимы.
МАРИНА: Тогда и Рувимов не останется.
— Вам звонил Антрекот (Тендряков).
— Анка попала в рокфор (Анка — пулеметчица попала в кроссворд).
— Я так разволновалась, что пила аверьяновку (валерьянку — когда пропал Митя).
— Будем готовить сицилию (сациви в связи с приездом гостей)?
Надо жить спокойно и широко. Хватит загонять себя, ставить в зависимость от всякой человечьей потери и свято помнить завет Талейрана: «Поменьше рвения». Пора энтузиазма и горения прошла для всех. Я один, как дурак из сказки, пру против общего движения. Вернее сказать — застоя. Побереги свой пыл для творчества, жертвуй всем, и собой в том числе, лишь для него, а не для кинодел и чужих забот. История с «Ивановыми»[103] должна поставить точку всем иллюзиям, всякому доверию к тому, что говорится с трибун, и всякому бескорыстию. Я всерьез поверил, что нужен живой, человеческий фильм о рабочей семье. Во — первых, он никому не нужен, ну а уж если нужен, то от михалковского клана, а не от меня. И к тому же не оригинальный, а до стона банальный. Главное — не жить мелкими досадами, не думать о них, не травить душу. И еще: довольно благотворительности, довольно тянуть бездарных или малоодаренных людей в печать, в СП, в славу. Ну их к черту! Хватит «откликаться» на просьбы липовых друзей. Сколько раз твердить тебе одно и то же, расслабленный идиот! Обретай мудрую жестокость старости. Всё доделывать, доводить до конца пусть останется моим принципом, но надо научиться отказывать: киностудиям, газетам, радио, друзьям, знакомым и сонму неизвестных претендентов на славу, которые почувствовали мою слабину и лезут, лезут… Есть истинные ценности: рассказы, книги, природа, поездки, Ленинград, музыка и два — три человека.
История — да еще какая! — библейского величия и накала творится на наших глазах. Последние дни значительны и нетленны, как дни Голгофы. Только Христос другой. Современный. Христос-74. Он не просил Отца небесного «чашу эту мимо пронести», а смело, даже грубо рвался к кресту, отшвырнув по дороге Пилата, растолкав саддукеев и фарисеев, всех ратников и лучников, отшвырнув прочь разбойников и прочую сволочь. Он рвался к кресту, как олимпиец к финишной черте. Бог да простит мне эту любовную насмешку. Он; сейчас в безопасности, и я до слез рад за него. И, как всегда, но древнему человечьему обычаю прикидываешь к себе: а ты мог бы так? Да, но лишь в мечтах. И дело не только в отсутствии объективных и субъективных факторов, не в том, что тот характер закалялся в кузне самого Вулкана, и не в трусости, хотя клаустрофобия вяжет хуже всякой трусости. Не может быть бойцом человек, который не переносит запертой комнаты. И здоровым, я не был бы борцом. Я только писатель, ничего больше. У меня нет ясной цели, в этом главное. Куда и как идти — не знаю. Я даже не верю, что существуют цель и путь. Реально для меня лишь пастернаковское «искусство всегда у цели». Всё остальное крайне сомнительно. Но возблагодарим Господа Бога, что он наградил нас зрелищем такого величия, бесстрашия, бескорыстия, такого головокружительного взлета. Вот, оказывается, какими Ты создал нас, Господи, почему же Ты дал нам так упасть, так умалиться и почему лишь одному вернул изначальный образ? Может быть, Ты сознательно недосоздаешь нас, чтобы мы сами завоевали окончательное право быть человеком? Но не отпущено нам таких сил. Он, которого Ты дал отнять у нас, подымал нас над нашей малостью, с ним мы хоть могли приблизиться к высокому образу. Но Ты осиротил нас и мы пали во прах. Теперь нам уж вовсе не подняться. Пуста и нища стала наша большая страна, и некому искупить ее грехи.
Храни его, Господи, а в должный срок дай место возле себя, по другую руку от Сына (о Солженицыне).
Сегодня были у Геллы. Много чужих детей, водки и возбуждения. Гелла в форме — хорошо играет обреченность, всепрощение, смирение перед скудостью жизни. Странен погасший, опустившийся Эльдар, который начинает свой кинопуть с того, чем кончил Салтыков. Галя Е. похожа на пиковую даму: черна, суха, опасна. Очередная жуликоватая старушка ведет, вернее, разрушает утлое хозяйство Геллы. С нами был неистовый фотолюбитель Толя М. Был и герой дня Евгений в красной палаческой рубахе, сильно озадаченный своим подвигом: письмом протеста. Я начал было восхищаться им, и тут меня поразил Толя М. «Неужели ты не понимаешь, что это согласованный протест? Это игра в свободу мнений, укрепление международных позиций нужного человека?» Я сразу понял, что он прав, и мне стало стыдно за мою доверчивость.
Не прошло и полутора лет, а вновь, как по нотам, разыгралась отвратительная история с очередным моим невыездом. На этот раз я даже предположить не могу, кто тут сработал. Мой старый друг Витюша, вроде бы, не мог высунуться, но что я знаю об их бесовских играх? Самый загадочный случай из всех. Плохо это, вредно для души, для усталых, перетертых нервов. А как пробиться к истине, как раскрыть эту тухлую тайну? Поверить трудно, что какимто взрослым, имеющим собственную жизнь людям не скучно преследовать усталого, абсолютно безвредного, а работой своей полезного человека. Ведь для этого необходима шекспировская ненависть. Этим мог обладать Аркашка Васильев — масштабный подлец, отчасти Витюшка — чегото он не может мне простить, презрения, что ли? Но последнюю неудачу трудно вывести из чьейлибо личной ненависти. А может, всё дело в неком бюрократическом раскладе? Просто в КГБевской картотеке я принадлежу к категории, скажем, «Г». Почему к этой, а не к другой — вопрос второстепенный. Скажем, по количеству написанных на меня доносов я и поставлен так низко. Эта группа является выездной, пока не происходит «ситуация Б». Ухудшение отношений с заграницей, усиление вражеской радиоактивности, или некие чрезвычайные обстоятельства, как чейто отъезд, враждебная кампания прессы и т. и. И сразу, без эмоций, без намека на недоброжелательство я попадаю в разряд невыездных. Потом ситуация меняется, и я вновь еду, куда хочу. По — моему, я нащупал чтото очень похожее на правду. Иначе надо предположить, что только мною и занимаются все стукачи и все органы.
Мама становится невыносимо трудной для совместной жизни. Порой в ней появляется нехорошая завершенность литературного персонажа, а не живого человека, который всегда както зыбче, переменчивей, отходчивей. Чтото от матерей Ж. Ренара, Базена, Мориака. Ее неровное отношение к Алле принимает отчетливый характер ревности — ненависти. Для меня нет ничего ужаснее. Особенно невыносимо, когда мама, сцепив зубы, решает быть приветливой, это выглядит так натужно, неискренне и безвкусно, что меня корчит от стыда, жалости и боли. Игра в приязнь хуже откровенной и естественной злобы. Повезло же мне под старость: кошмар международный и кошмар внутренних дел.
Теперь я твердо знаю: каждый активно участвующий в современной жизни человек становится к старости невропатом. Сохранится можно, лишь живя, как Я. С. — в спасительной глухоте, избавляющей от громадного числа раздражителей; ограниченная параличом способность к передвижению тоже служит этой цели, а также выключенность из профессиональной жизни, т. е. из борьбы за существование.
Я — в общемто стойкий экземпляр «мыслящего тростника» — уже полностью закомплексован. Эти комплексы возникли из систематических неотъездов, кинолихорадки (хватает сердце, как только перешагиваю порог «Мосфильма»), из вечного ожидания подлого удара со стороны «Литературки», из напряженности прежней жизни, из боязни мамы. Я уже не тот легкий человек, каким был прежде, чуть ли не до пятидесяти лет, несмотря на все испытания и кошмар предыдущего брака. Я — омраченный человек. Мне водка не дает облегения, не повышает настроения. Я надираюсь, чтобы очуметь, выпасть из окружающего, столь тягостного и непереносимого. По пути к беспамятству я мрачнею и озлобляюсь, а потом провал. Опамятываясь, я испытываю ни с чем не сравнимое отвращение к себе и острое чувство раскаяния, хотя в отличие от прошлых лет, мне каяться, как правило, не в чем. Разве что нахамлю иногда Алле за то, что мешает пить. О выпивке, когда она становится неотвратимой, я думаю с жадностью и ужасом.
Сегодня замечательно свистели синицы. Я никогда не слышал, чтоб они так громко, музыкально и самозабвенно свистели. И я вдруг почувствовал всем, что во мне еще живо — весна! А во мне не так уж много осталось живого. С домом, при всей моей любви и жалости к близким, порвались почти все связи. Они восстанавливаются лишь в болезни, опасности, угрозе смерти. Друзей у меня нет совсем, даже прежних — поддельных. Ленинград перестал быть городом моей души. Тяга к письменному столу, слава Богу, сохранилась, но чтото и тут надломилось. Не берусь сказать, что. Я всегда торопился ответить на все возникающие вопросы, на этот раз повременю, отвечу, когда в самом деле пойму. Тщеславных иллюзий у меня тоже пет. А что есть? Алла. Привязанность к месту, где я живу, и желание сделать его красивым. Идея дома всё еще сильна во мне. И есть тень надежды на какоето чудо. Не так мало.
Любопытно, что другие осуществляют то, что я так злобно и скрупулезно придумываю во время своих летних шатаний по лесу. Осуществляют точь — в-точь, как будто они слышали мои мысли. И у них всё выходит, черт возьми! Но меня должны вышибить с орбиты слишком большого — при всех оговорках — благополучия, чтобы я смог действовать с естественной, а не надуманной решительностью. А без этого сразу поймут, что ты играешь, а не гибнешь всерьез, и скрутят в бараний рог.
Дивная весна! И хочется комуто громко крикнуть: спасибо за весну! — но кому? Бог упорно связывается для меня с неприятностями. Я отчетливо проглядываю Его мстительную руку в делах Ильина и ему подобных, но както не верю, что Он заставил светить солнце так жарко, небо так ярко голубеть, а землю гнань из себя всю эту сочную, густую, добрую зелень. Прости меня, Боже, но милости Твои изливаются только на негодяев, и мне трудно постигнуть тот высокий и упрямый замысел, который в это вложен.
Не часто же обращаюсь я к этой тетради! Миновали Сингапур и Австралия, промелькнула Чехословакия, неопрятно прокатила через душу Польша, а я ни разу не вспомнил о белых листах, ждущих моих признаний. И ведь следовало бы сказать кое о чем. Ну, хотя бы о том, что с австралийским неотъездом я всё нафантазировал: не было никакого «заговора». Был обычный бардак, равнодушие, нежелание расходовать деньги на «чужака». Вялое сопротивление, которое я довольно легко преодолел. О Чехословакии нечего сказать: душевно пустая поездка, с непервосортной работой, с полным охлаждением чешских «друзей». Поездка, из которой я не вынес ни одной серьезной думы, ни наблюдения, ни радости. Плохо себя чувствовал — давление, мало похудел, не встретил ни одного милого лица. Ну а Польша — большой разговор. Фальшивое радушие одних, каменное безразличие других, во всех тайное недоброжелательство, редко — личное. Исключение — загадочная семейка Клавы. Эти связывают с нами слишком серьезные жизненные планы, чтобы считать меня ответственным за все польские беды. Главное в этих планах: легкий отпуск, ставший для членов социалистического общества не только главным, высшим, но единственным смыслом жизни. Есть чтото жутковатое в той серьезности, глубокой озабоченности, трепете и тревоге, с какими люди ожидают наступления пустых, бездельных недель, сменяющих полубездельные недели обычного существования. И ведь знают, что кроме водки, вредного загара и неопрятных связей, ничего ровнешеньки не будет. И все равно трепещут в ожидании и нетерпении. До чего же скудна жизнь! «Где вы отдыхаете?» — этот вопрос начинает звучать с апреля, вытесняя все иные жизненные вопросы. Он произносится без улыбки, с искренней заинтересованностью, какой мы в других случаях вовсе не проявляем друг к другу. Ах, как важен отдых для этих неусталых людей! Курортные знакомства становятся самыми ценными и значительными в человеческих отношениях. Раньше их принято было сразу рвать: «курортное знакомство» было знаком недолговечности, мотыльковой краткости. Сейчас эти знакомства длят изо всех сил. И зачастую вносят в них ту преданность, искренность и бескорыстие, что начисто ушли из нашей жизни. Тут есть своя глубина. Отпускное времяпрепровождение — единственное, что тебе не навязывается извне, курортная дружба не предписана тебе государством, как дружба народов, дружба поколений, дружба однополчан и однокашников, дружба внутри бригады коммунистического труда, спортивная дружба и прочие мнимости. Отпуск частично восстанавливает в человеке чувство собственного достоинства: он отдыхает по своему усмотрению, а не по распоряжению начальства, он едет куда хочет и как хочет, а не по командировочному предписанию и не по этапу — основные способы передвижения советских людей. И он встречается, с кем хочет, сколько хочет — обалдеть можно от такой свободы! Курортные знакомые — живой символ опахнувшей душу свободы. Они видели тебя принадлежащим солнцу, ветру, морю, а не начальству, профсоюзу, парткому, которые в любую минуту могут послать тебя, кавалера, остроумца, гуляку или мудреца, в колхоз на уборку сопревшего в земле картофеля или на овощной склад перебирать гнилые овощи. Да, в отпуске ты — человек, во всё остальное время — крепостной. Поэтому не надо смеяться над отпускниками, лучше — плакать.
По приезде из Польши — ошеломляющее зрелище Я. С., вернувшегося из больницы, как из Освенцима. Даже Мара в Кохме при первой нашей встрече не был так страшен и жалок. Но Мара был неизмеримо более мужественным человеком. И удручающая непробиваемость мамы. И нескончаемый ремонт. И кислый, тошный запах «шпаклевицы». И ранящая мысль, что лето уходит, что оно уже ушло, опять не свершив чуда. И ком в душе.