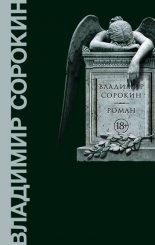Разлука весной Уэстмакотт Мэри

Эверил – Эверил – не поможет ли ей Эверил?
Я твоя мать, Эверил, я всегда…
Но Эверил спокойно вышла бы из комнаты, возможно, сказав:
– Здесь я ничего не могу сделать…
Тони – Тони ей поможет.
Но Тони не мог ей помочь, был в Южной Африке. Очень далеко…
Барбара – Барбара слишком больна… У нее пищевое отравление.
Лесли, подумала она. Лесли помогла бы мне, если бы смогла. Но Лесли умерла. Она страдала и умерла…
Бесполезно – никого…
Она опять побежала – отчаянно, куда глаза глядят, просто лишь бы бежать…
По ее лицу, шее, по всему телу катил пот.
Это конец, подумала она.
Христос, думала она… Христос…
Христос придет к ней в пустыне.
Христос покажет ей путь к зеленой долине.
…Поведет ее с овцой…
…Заблудшей овцой…
…Раскаивающаяся грешница…
…Через долину тени…
…(Но тени нет – только солнце…)
…Веди, добрый свет. (Но солнце не было добрым…)
Зеленая долина – зеленая долина – надо найти зеленую долину…
Путь в нее ведет от Хай-стрит, там, в центре Крейминстера.
Путь в нее ведет из пустыни…
Сорок дней и сорок ночей.
Прошло только три дня – значит, Христос все еще здесь.
Христос, молилась она, помоги мне…
Христос…
Что это такое?
Там – далеко справа – крохотное пятнышко на горизонте!
Это гостиница… она не заблудилась… она спасена…
Спасена…
Ноги Джоан подкосились – она бессильно упала…
Глава 10
Джоан постепенно приходила в себя…
Она чувствовала себя совершенно разбитой и больной…
И слабой, слабой, как ребенок.
Но она была спасена. Гостиница на месте. Теперь, оправившись немного, она могла встать и дойти до нее.
Но пока она еще спокойно полежит и все обдумает. Все тщательно обдумает – больше не притворяясь.
В конце концов Бог не оставил ее…
У нее больше не было этого ужасного ощущения одиночества…
Но я должна думать, сказала она себе. Я должна думать. Я должна во всем разобраться. Именно поэтому я здесь – чтобы во всем разобраться…
Ей надо было раз и навсегда понять, кто же такая Джоан Скюдамор…
Именно для этого она пришла сюда, в пустыню. В этом ослепительном свете она увидит, кем она была. Увидит правду, на которую ей не хотелось смотреть, но которую на самом деле она всегда знала.
Вчера был какой-то ключ. Может, с этого лучше и начать.
Потому что именно тогда ее в первый раз охватила паника?
Она читала стихи – вот с чего все началось.
С тобою нас весна разъединила.
Это было то самое, что заставило ее подумать о Родни, и она сказала: «Но ведь сейчас ноябрь…»
Совсем так же, как Родни в тот вечер: «Но ведь на дворе октябрь…»
В тот вечер, когда он сидел на склоне в Эшелдауне с Лесли Шерстон, – они сидели и молчали, отодвинувшись друг от друга чуть ли не на полтора метра. Даже друзья так не сидят, подумала тогда она.
Но теперь она знала – и тогда могла бы понять, – почему они сидели на таком расстоянии.
Они не смели сесть ближе…
Родни – и Лесли Шерстон…
Не Мирна Рэндольф – Мирна Рэндольф пустышка. Она нарочно пестовала этот миф о Мирне Рэндольф, потому что знала, что за этим ничего нет. Использовала Мирну Рэндольф как завесу, чтобы прикрыть правду.
И отчасти – будь же на этот раз честной сама с собой, Джоан, – отчасти потому, что ей легче было принять Мирну Рэндольф, чем Лесли Шерстон.
Признать, что Родни увлекся Мирной Рэндольф, красивой и чувственной, перед внешностью которой мог устоять только святой, – это меньше задевало ее гордость.
Но Лесли Шерстон – Лесли, которая не была красива, молода, одевалась непонятно во что. Лесли с усталым лицом и смешной, кособокой улыбкой. Признать, что Родни мог любить Лесли – любить ее так страстно, что даже не позволял себе подойти к ней ближе чем на четыре фута, – было выше ее сил.
Отчаянное стремление, боль неудовлетворенного желания – такая сила страсти, которую сама она никогда не знала…
Все это связывало их в тот день на Эшелдауне, и Джоан почувствовала – потому и убежала так быстро и так стыдливо, ни на секунду не признавшись себе в том, что она на самом деле видела…
Родни и Лесли, молча сидящие там и даже не смотрящие друг на друга – потому что не осмеливались сделать это.
Лесли, которая так отчаянно любила Родни, что захотела быть похороненной в городе, где он жил…
Родни, который смотрел на мраморную плиту, говоря: «До идиотизма глупо думать, что Лесли Шерстон лежит под этим холодным куском мрамора». И падающий бутон рододендрона, этот алый всплеск.
«Кровь сердца, – сказал он. – Кровь сердца».
А позже:
«Я устал, Джоан. – И потом так странно: – Мы не можем все быть храбрыми…»
Он думал о Лесли, когда говорил это. О Лесли и о ее мужестве.
«Мужество – это еще не все…»
«Разве?»
А нервный срыв Родни – его причиной была смерть Лесли.
В Корнуолле он слушал чаек, не проявляя интереса к жизни и спокойно улыбаясь…
Презрительный мальчишеский голос Тони: «Ты что, вообще об отце ничего не знаешь?»
Она не знала. Она совсем ничего не знала! Потому что она решительно не хотела знать.
Лесли, глядящая в окно и объясняющая, почему она решила завести еще ребенка от Шерстона.
Родни, который тоже глядел в окно и говорил: «Лесли ничего не делает наполовину…»
Что они видели, эти двое, когда они там стояли? Видела ли Лесли яблони и анемоны в своем саду? Видел ли Родни теннисный корт и пруд с золотыми рыбками? Или они видели луга и смутные очертания деревьев на склонах Эшелдауна…
Бедный Родни, бедный усталый Родни…
Родни с его дразнящей улыбкой, Родни, который говорил: «Бедняжка Джоан…» – и всегда был добрым, любящим, никогда ее не подводил.
Ну, она была ему хорошей женой, разве нет?
Она всегда ставила на первое место его интересы…
Подожди – а так ли это?
Родни, глядящий на нее умоляющими глазами… печальными глазами. Всегда печальными глазами.
Родни, который говорил: «Откуда я мог знать, что мне это так противно?» – серьезно смотрел на нее и спрашивал: «Откуда ты знаешь, что я буду счастлив?»
Родни, молящий о жизни, о которой он мечтал, жизни фермера.
Родни, в базарный день стоявший в своем кабинете у окна и смотревший на коров.
Родни, объясняющий Лесли Шерстон про молочные породы.
Родни, сказавший Эверил: «Человек, который не занимается тем, чем он хочет заниматься, живет только наполовину».
Вот что она, Джоан, сделала…
Она лихорадочно пыталась защититься от этого нового открытия.
Она хотела как лучше! Надо быть практичным! Надо думать о детях. Дело не в ней.
Но возмущение утихло.
Разве дело не в ней?
Может, суть в том, что она сама не хотела жить на ферме? Она хотела, чтобы ее дети имели все самое лучшее, но что было самым лучшим? Разве Родни не вправе был решать, что должны иметь его дети?
Разве не отец должен выбирать, какой жизнью жить его детям, в то время как мать создает для них уют и преданно следует за мужем?
На ферме, говорил Родни, детям хорошо.
Тони там наверняка понравилось бы.
Родни позаботился, чтобы Тони не мешали жить так, как он захочет.
«У меня не слишком хорошо получается, – говорил Родни, – заставлять людей что-то делать».
А она, Джоан, не постеснялась его заставить…
Но я же люблю Родни, подумала она с болью. Я люблю Родни. Так было не потому, что я его не любила…
И внезапно она осознала, что именно потому ее поступок нельзя простить.
Она любила Родни, но тем не менее совершила это.
Если бы она его ненавидела, ее можно было бы понять.
Если бы она была к нему безразлична, это не имело бы большого значения.
Но она любила его и, тем не менее, лишила его права самому строить свою жизнь.
И поэтому, потому что она беспринципно воспользовалась своим женским оружием – ребенком в колыбели, ребенком, который был внутри нее, – она отняла у него нечто такое, что он никогда не смог обрести. Она отняла у него частично его право называться мужчиной.
Потому что по мягкости характера он не оказал ей сопротивления и не подчинил ее себе, пожертвовав своим мужским достоинством…
Родни… Родни, думала она.
И еще она подумала, что не сможет ему этого вернуть… не сможет возместить… не сможет сделать ничего…
Но я люблю его – я правда его люблю…
И я люблю Эверил, Тони и Барбару…
Я всегда их любила…
(Но недостаточно, недостаточно – вот в чем суть.)
Родни – Родни, подумала она, неужели ничего не изменишь? Неужели я ничего не могу сказать?
С тобою нас весна разъединила…
Да, думала она, как много прошло времени… с той весны, с той самой весны, когда мы впервые полюбили друг друга…
Я оставалась той, кем была – Бланш права, – я осталась девочкой, которая окончила школу Сент-Энн. Легко живущей, лениво думающей, довольной собой, боящейся всего, что могло бы причинить боль…
Мне не хватает мужества…
Что же я могу сделать? – думала она. Что я могу сделать?
И ей пришло в голову: я могу пойти к нему. Я могу сказать: «Извини. Прости меня…»
Да, я могу это сказать… Я могу сказать: «Прости меня. Я не знала. Я просто не знала…»
Джоан встала. Ноги подгибались. Они были как будто чужими.
Она шла медленно и с болью – как старуха.
Шаг – еще шаг – одной ногой – потом другой…
Родни, думала она, Родни…
Какой же она чувствовала себя больной, какой слабой.
Это был долгий путь – очень долгий.
Из гостиницы навстречу ей выбежал индиец, лицо его расплывалось в улыбке. Он махал руками и бурно жестикулировал:
– Хорошая новость, госпожа, хорошая новость!
Она непонимающе посмотрела на него.
– Видите? Поезд пришел! Поезд на станции! Сегодня вечером вы уедете на поезде.
Поезд? Поезд, который увезет ее к Родни.
(«Прости меня, Родни… Прости меня…»)
Она услышала, что смеется – дико, неестественно, индиец уставился на нее, и она взяла себя в руки.
– Поезд, – сказала она, – пришел как раз вовремя…
Глава 11
Это было как сон, подумала Джоан. Да, это было как сон.
Они миновали проволочное заграждение, арабский мальчик нес ее чемоданы и громко разговаривал по-турецки с недоверчиво смотрящим на него человеком, который был начальником станции.
А чуть дальше стоял знакомый спальный вагон с высунувшимся из окна проводником в форме шоколадного цвета.
«Алеппо – Стамбул» – надпись на вагоне.
Звено, связывающее место отшельничества в пустыне с цивилизацией!
Вежливое приветствие на французском, дверь ее купе распахнута, постель уже устелена простынями, на ней лежит подушка.
Снова цивилизация…
Внешне Джоан опять стала спокойной, уверенной путешественницей, той же самой миссис Скюдамор, которая меньше недели назад уехала из Багдада. Только сама Джоан знала о той удивительной, почти пугающей перемене, которая произошла в ней.
Поезд пришел в самый подходящий момент. Именно тогда, когда те последние барьеры, которые она сама так старательно возвела, были снесены волной страха и одиночества.
Ей явилось – как это говорили в давние времена – Видение. Видение самой себя. И хотя сейчас она могла казаться обычной английской леди, поглощенной дорожными хлопотами, ее душу терзали боль и угрызения совести, которые пришли к ней там, в тишине и беспощадном свете солнца.
Она почти машинально отвечала на вопросы индийца.
– Почему госпожа не пришла к обеду? Обед готов. Очень вкусный обед. Уже почти пять часов. Слишком поздно для обеда. Может быть, чаю?
Да, сказала она, она бы выпила чаю.
– Но куда госпожа уходила? Я выглядывал и нигде не видел госпожи. Не знаю, в какую сторону ушла госпожа.
Она зашла довольно далеко, объяснила Джоан. Дальше, чем обычно.
– Это опасно. Очень опасно. Госпожа могла заблудиться. Не знать, куда идти. Пойти не туда.
Да, подтвердила Джоан, в какой-то момент она растерялась, но, к счастью, пошла в верном направлении. Сейчас она выпьет чаю и потом отдохнет. Когда отходит поезд?
– Поезд отходит в восемь тридцать. Иногда он дожидается других пассажиров. Но сегодня не будет других пассажиров. Дороги в очень плохом состоянии – в руслах полно воды, – не прорвешься.
Джоан кивнула.
– Госпожа выглядит очень усталой. Может быть, у госпожи лихорадка?
Нет, ответила Джоан, сейчас у нее нет лихорадки.
– Госпожа выглядит как-то не так.
Да, подумала она, госпожа изменилась. Возможно, это отражалось на ее лице. Она прошла в свою комнату и посмотрелась в засиженное мухами зеркало.
В чем разница? Она определенно выглядела старше. Под глазами круги, лицо покрыто желтой пылью и потом. Джоан умылась, расчесала волосы, попудрилась, накрасила помадой губы и снова посмотрелась в зеркало.
Да, определенно что-то изменилось. Изменилось выражение лица, которое смотрело на нее из зеркала. Что-то исчезло – может быть, самоуверенность?
Какой же самоуверенной она была! Она все еще испытывала то острое отвращение к себе, которое пришло к ней там, – отвращение и смирение.
Родни, думала она, Родни…
Она держалась за него как за последнюю соломинку. Рассказать ему обо всем, не щадя себя. Это важно. Вместе они попробуют жить по-новому, если еще не поздно. Она скажет: «Я дура и неудачница. Своей мудростью, своей добротой научи меня жить».
Вот так, и попросит прощения. Потому что Родни есть что ей прощать. И какое милосердие проявил Родни, что он ее не ненавидел. Неудивительно, что Родни так любили, так обожали дети (даже Эверил, подумала она, никогда не переставала любить его), что слуги старались ему угодить, что у него повсюду были друзья. Никогда в жизни, думала она, Родни не причинил никому зла.
Джоан вздохнула. Она очень устала, у нее болело все тело.
Выпив чаю, Джоан прилегла на кровать, пока не настало время поужинать и отправляться к поезду.
Теперь она не ощущала беспокойства или страха, страстного стремления найти занятие или чего-то такого, что ее отвлечет. Уже не было ящериц, которые выпрыгивали из нор и пугали ее.
Она встретила саму себя и узнала саму себя…
Теперь она хотела только отдохнуть, полежать с пустой головой и, как всегда, на дне души со смутной картиной доброго лица Родни…
И вот она в поезде. Выслушав многословные объяснения проводника о поломке на железной дороге, Джоан отдала ему свой паспорт и билет и получила от него заверения в том, что он отправит телеграмму в Стамбул с просьбой забронировать одно место в экспрессе «Симплон Ориент». Она также поручила ему послать из Алеппо телеграмму Родни. «Поездка затягивается все в порядке люблю Джоан».
Родни получит ее до предполагавшегося срока ее возвращения.
Итак, все было устроено, Джоан больше не надо было что-то делать или о чем-нибудь думать. Она могла расслабиться, как усталый ребенок.
Пять дней тишины и покоя, пока экспресс «Таурус энд Ориент» рвался вперед на запад, с каждым днем приближая ее к Родни и к прощению.
Они прибыли в Алеппо на следующее утро. До тех пор Джоан была единственным пассажиром, но теперь поезд был забит до отказа. Из-за задержек и отмен с местами случилась путаница; люди возмущались, спорили, пререкались на разных языках.
Джоан ехала первым классом, а в экспрессе «Ориент» спальные купе первого класса были двухместными.
На остановке дверь открылась, и вошла высокая женщина в черном. За ней следовал проводник, который высунулся из окна и стал принимать у носильщиков чемоданы.
Они заполонили все купе – дорогие чемоданы с отпечатанными коронами.
Высокая женщина разговаривала с проводником по-французски, указывая ему, куда поставить вещи. Наконец он ушел. Женщина обернулась и улыбнулась Джоан заученной улыбкой.
– Вы – англичанка. – Она говорила с едва заметным акцентом.
У нее было длинное, бледное, утонченно подвижное лицо и несколько странные светло-серые глаза. Джоан дала бы ей лет сорок пять.
– Прошу прощения за вторжение. Ужасно, что поезд уходит в такую рань и мне пришлось вас потревожить. Да, эти вагоны, к сожалению, старые – в новых купе отдельные. Но так или иначе, – она улыбнулась доброй, почти детской улыбкой, – мы не будем слишком действовать друг другу на нервы. До Стамбула всего два дня пути, а со мной ужиться не так уж трудно. Если я буду слишком много курить, скажите. А сейчас я оставляю вас спать, а сама пойду в вагон-ресторан, который они только что прицепили, – она слегка кивнула, словно желая придать вес своим словам, – и подожду завтрака. Еще раз извиняюсь, что я вас побеспокоила.
– Да нет, все в порядке, – ответила Джоан. – Обычное дело.
– Я вижу, вы меня понимаете, – это хорошо, мы поладим.
Она вышла, и Джоан из-за закрытой двери слышала, как друзья, стоявшие на платформе, обращались к ней: «Саша, Саша» – и говорили на каком-то языке, который Джоан на слух не могла распознать.
Сама Джоан к этому времени уже совсем проснулась. Проспав ночь, она чувствовала себя отдохнувшей. Ей всегда хорошо спалось в поезде. Она встала и начала одеваться. К тому времени как поезд тронулся, она почти закончила свой туалет. Выходя, она бросила взгляд на наклейки на чемоданах своей попутчицы.
Принцесса Хохенбах Салм.
В вагоне-ресторане ее новая знакомая завтракала и весьма оживленно беседовала с невысоким, полным французом.
Принцесса приветственно помахала ей рукой и указала на место рядом с собой.
– Вы такая энергичная! – воскликнула она. – На вашем месте я бы лежала и спала. Ну а теперь, месье Бодьер, продолжайте ваш рассказ. Это весьма интересно.
Принцесса болтала по-французски с месье Бодьером, по-английски с Джоан, на беглом турецком с официантом и временами обменивалась через проход репликами на таком же беглом итальянском с довольно меланхоличным офицером.
Француз закончил свой завтрак и удалился, вежливо поклонившись.
– Вы просто полиглот, – заметила Джоан.
На вытянутом бледном лице появилась на этот раз грустная улыбка.
– Почему бы и нет? Я сама русская. Была замужем за немцем, долго жила в Италии. Я могу говорить на восьми языках – на некоторых хорошо, на некоторых не очень. Ведь разговаривать – это такое удовольствие, вы не думаете? Все люди интересны, а ты живешь на земле так мало! Надо обмениваться мыслями, опытом. На земле недостаточно любви, я так считаю. Саша, говорят мне друзья, есть люди, которых невозможно любить, – турки, армяне. А я отвечаю – нет. Я всех их люблю. Гарсон, добавки.
Джоан слегка вздрогнула, потому что последнее предложение было словно продолжением предыдущего.
Официант вагона-ресторана уважительно поспешил к ним, и Джоан поняла, что ее попутчица была важной персоной.
Все утро и день они ехали по равнине, потом начали медленно взбираться в горы.
Саша сидела в своем углу, читала, курила и время от времени делала неожиданные и порой приводящие в смущение замечания. Джоан втайне восхищалась этой странной женщиной, обитательницей другого мира, мыслившей совершенно иначе, чем она привыкла.
Смешение общих фраз и вызывающей откровенности придавало ей странное очарование.