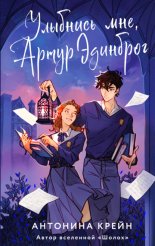Медвежатница Чхартишвили Григорий

– Поглядим, как ты запоешь, когда вернутся те, кого ты посадил, – шепнул сосед слева, хирург Золотников.
Антон Маркович с ужасом повернулся к нему и увидел, что Леонид Сергеевич смотрит на докладчика.
– Говорят, это Митрофанов, скотина, в сорок девятом на Шинделя донос накатал. За космополитизм и низкопоклонство перед западной наукой. А теперь Шинделя выпустили и восстановили. После октябрьских появится. Интересная будет коррида.
Золотников шумно захлопал – выступление закончилось. Потом еще минут пять поотчитывалась заврегистратурой Серебрякова, руководившая кружком политического самообразования: столько-то прослушано лекций, столько-то проведено семинаров, взято обязательство перед райкомом подготовить материалы для конференции «Победа народно-демократических движений в ряде стран Азии и Африки – торжество стратегии и тактики ленинизма».
Всё, пошабашили.
Врачи и сотрудники поднялись, стали расходиться по участкам.
– Бал нищих прошу считать открытым! – пошутил весельчак Лукерьев из реаниматологии.
Врачи и сотрудники, одетые в сапоги, ватники и всякое старье, действительно выглядели массовкой к пьесе «На дне». Антон Маркович тоже был в линялом брезентовом дождевике, в разбитых, еще армейских кирзачах. Это и для поездки за город было правильно. В Коломне после дождей, поди, грязи по колено.
Отделу анестезиологии было назначено подметать листву на главной аллее и покрасить бордюр, но Клобукова поманил к себе директор института Иван Харитонович Румянцев.
Он тоже оделся проще обычного – очевидно, по примеру Ленина собирался показывать личный пример коммунистического труда. Правда, в случае Ивана Харитоновича простота выразилась в том, что сегодня он пришел в полевом военном кителе и защитного цвета брюках с красными лампасами. Помимо прочих высоких должностей и званий Румянцев был еще генерал-лейтенантом медицинской службы. В конце войны он занимал пост главного хирурга одного из фронтов.
– Зайдете, Антон Маркович? – сказал директор. – Разговор есть. Успеете метлой помахать. Да оно и необязательно в вашем возрасте. Помоложе найдутся.
Сам Румянцев был едва за сорок. Свежий, подтянутый, с наголо бритой головой, он был бы похож на комбрига Котовского – если бы легендарный герой носил очки в щегольской заграничной оправе. Иван Харитонович и держался не по-советски. Всегда корректный, сдержанный, никогда не повышающий голоса, со всеми без исключения на «вы», но при этом умеющий внушать трепет. В институте директора не любили, но уважали. Еще бы – он, собственно, и был ВИХР, Всесоюзный институт хирургии имени Румянцева, головное медицинское учреждение страны, работники которого гордо именовали себя «вихревцами».
Имя институту, правда, дал не Иван Харитонович, а его покойный отец, великий хирург Харитон Румянцев. Директорство перешло к сыну по наследству, и Румянцевский институт теперь был институтом Румянцева-младшего. «Инфант», как его раньше называли за глаза, не просто взошел на трон, но превратился в абсолютного монарха. Он занимал три должности – в институте, в президиуме Академии и в министерстве обороны, получал три оклада плюс гонорары за научные публикации, в том числе иностранные. Кто-то подглядел в ведомости, что Румянцев платит партвзносы с суммы в пятьдесят тысяч. Это пятилетняя зарплата участкового врача. А еще Иван Харитонович являлся депутатом Верховного Совета РСФСР.
Остроумец Лукерьев как-то сказал, что институт существует в условиях просвещенного абсолютизма. В российской истории это далеко не худший режим власти, ответил ему тогда Антон Маркович.
Главное, что директор ценил в сотрудниках деловые качества и знания, а не покладистость или подхалимство. К начальнику анестезиологического отделения Клобукову, например, относился с уважением, на сложных операциях приглашал к себе в ассистенты.
Поднялись в кабинет.
Он был мемориальный, как при Румянцеве-первом, с массивной дореволюционной мебелью, с портретами вождей и медицинских светил, с бронзовым бюстом покойного Харитона Александровича, но под Пироговым и Сеченовым на стене висели фотографии лошадей. Директор увлекался верховой ездой, на ипподроме для него держали личного донского рысака. Еще Антон Маркович заметил под вешалкой спортивную сумку, из которой торчали теннисные ракетки. Одним словом, это был деятель нового поколения, не похожий на прежних титанов медицины, что носили круглые академические ермолки и бородки клинышком. На столе потрескивала заграничная лампа дневного света, озаряла старое зеленое сукно холодным сиянием технического прогресса.
Терять время на пустые разговоры Иван Харитонович не любил.
Усадив Клобукова в кресло и сам сев напротив, сразу без предисловий приступил к делу.
– Митрофанов рассказал мне о вашей беседе. Был очень удивлен. На его памяти никто от такого предложения еще не отказывался. Причина?
Антон Маркович вздохнул и повторил то же, что ответил на прошлой неделе секретарю парткома:
– Я не считаю себя созревшим для вступления в партию. А поскольку мне скоро шестьдесят, то, видимо, уже и не созрею. Такой уж я человек. Считайте меня продуктом старорежимной аполитичности.
Еще совсем недавно объявить себя аполитичным было бы рискованно, но сейчас можно себе позволить.
Однако Румянцев не дубина Митрофанов – смотрел пытливо и недоверчиво. Нужно было объяснить как-то более внятно. Но не скажешь же прямым текстом, что неохота на старости лет вляпываться в эту пакость.
– Понимаете, Иван Харитонович…
Запнулся, подыскивая слова, а они всё не приходили.
– Я-то понимаю, – нетерпеливо сказал Румянцев. – Это вы, Антон Маркович, не понимаете. Хорошо, я объясню. Знаете, я почти никогда не разговариваю ни с кем начистоту. Это привычка, выработанная с юности. То есть раньше вообще никогда и ни с кем, даже с женой. Но сейчас изредка стал себе позволять. Потому что наступило иное время и потому что я научился лучше разбираться в людях. Вижу, с кем можно, а с кем нельзя. С вами – можно. Поэтому буду говорить с полной откровенностью, без недомолвок.
Глаза за очками – сверху черными, снизу золотыми – светились умом, решительностью, силой. Антон Маркович внутренне насторожился.
– Ничего не замечаете нового?
Директор кивнул на три самых больших портрета. Клобуков бывал в этом кабинете бессчетное количество раз и никогда не обращал на них внимание. Положено висеть вождям, они и висят. Слева направо Маркс, Ленин, Сталин.
А сейчас посмотрел – Маркс, Ленин, Энгельс. Вот это да…
– Скоро будет съезд партии, на котором прозвучат очень важные, даже исторические заявления, – весомо и торжественно произнес Румянцев. – Пока это хранится в тайне, немногие посвященные дают расписку. Но вам скажу, при условии полного молчания. Обещаете?
Антон Маркович кивнул.
– Мне как члену Верховного Совета РСФСР прислали секретный доклад ЦК о тяжелых ошибках и злоупотреблениях властью, допущенных при Сталине.
Просто «при Сталине»? Даже не «товарище»? – поразился Клобуков.
– Из-за властолюбия и личных амбиций бывший руководитель государства заменил социалистическую демократию культом собственной личности, нарушил заветы Ильича. Партия собирается очиститься от наследия прошлой эпохи и вернуться к великим принципам ленинской партии большевиков, к коллективному руководству. Вы понимаете, что это означает?
– Что всех посаженных, кто еще жив, выпустят! – в волнении воскликнул Антон Маркович. – Не маленькими порциями, потихоньку, а всех и с полной реабилитацией! Это огромное, великое дело!
– Не в том суть, – перебил директор. – Не в том, что кого-то выпустят или не выпустят. Свершается исторический поворот, а то и переворот. Меняется формат государства. Власть теперь будет сконцентрирована не в руках одного человека, а перейдет к группе людей, которую у нас по установившейся традиции называют «партией», хотя это никакая не партия. Зарубежные советологи это сословие называют «номенклатурой», я же внутренне, для себя, определяю его как национальную элиту. Знаете, я на досуге люблю читать книги по отечественной истории. Они хорошо помогают понять, какая у нас страна. Это только детей в школе учат, что с семнадцатого года началась принципиально новая эпоха. На самом деле всё уже было, и нет ничего нового под солнцем, как сказал один классик домарксистского периода.
Иван Харитонович не улыбнулся, он никогда не улыбался, но в глазах сверкнула искра, которая однако сразу же и погасла.
– Нечто очень похожее произошло два века назад, когда Екатерина Вторая издала указ о вольности дворянства. Царица допустила высшее сословие к управлению страной, предоставила ему права и льготы, перестала запугивать жестокими наказаниями – и за это дворянство стало служить империи не за страх, а за совесть. Элита становится элитой, когда избавляется от ужаса перед дыбой и розгой, получает гарантии личной безопасности. Это намного более удобная и приятная модель государственного устройства. При Екатерине вместо ужасного Тайного приказа возникла травоядная Тайная экспедиция. У нас Министерство государственной безопасности, раньше – центральный орган госуправления, превратился в Комитет, существующий всего лишь при Совете министров. Это, Антон Маркович, колоссальная разница. Беспорядочно арестовывать, мордовать в застенках, гноить в лагерях и расстреливать дворян больше никто не будет.
Румянцев хмыкнул.
– Вы поморщились на слово «дворяне». Наши свиномордые секретари обкомов и райкомов не кажутся вам аристократами. И зря. Петровское дворянство поначалу тоже было диким, вшивым, грубым. Но уже следующее поколение болтало по-французски и танцевало менуэты. То же будет и у нас, дайте срок.
«Это допустим верно, – подумал Антон Маркович. – Твой отец родился в деревне, выучился на медяки и до конца жизни, уже будучи вице-президентом академии, пил чай вприкуску, а ты вон какой джентльмен».
– Я всё это вам рассказал, – закончил директор, – чтобы вы ясно понимали: отказаться от вступления в партию – все равно что раньше было отказаться от дворянского звания. Такое никому и в голову бы не пришло.
«Отчего же, Клобуковы отказались», – мысленно возразил Антон Маркович, вспомнив, как дед-декабрист счел ниже своего достоинства восстанавливать дворянство после каторги. Но не стал тратить время на генеалогические экскурсы.
– Что ж, откровенность за откровенность. Меня с души воротит от всей этой трескучей дребедени, которой нас только что кормил товарищ Митрофанов. До физического отвращения. Не нужно мне такого дворянства ни за какие коврижки!
Румянцев ужасно удивился.
– Да не обращайте вы внимания на пустяки! Всякая стабильная государственная система нуждается в сакральных ритуалах. Просто до революции нужно было устраивать крестные ходы и отстаивать в церкви молебны, а теперь – вот это. Слова и обряды другие, суть та же самая. Даже лучше стало. В церкви надо было стоять, а на собрании сидят. И никто не заставляет исповедоваться. Перекрестился на иконы (директор кивнул на портреты вождей) – и ступай себе, занимайся своим делом.
Тут у Антона Марковича появилась возможность спросить о том, что его в свое время поразило и о чем в обычной беседе он заговорить никогда не решился бы.
– В прошлом году я один раз заглянул к вам, когда вы готовились к операции. Вы меня не заметили. И я увидел, что вы креститесь. Причем вовсе не на портреты, а, как мне показалось, на образок. Я тихо прикрыл дверь и с тех пор всё думаю: мне это не привиделось?
– Не привиделось, – спокойно ответил депутат верховного совета. – Образок остался от отца. Лик святого покровителя врачей Пантелеймона Никомедийского, целителя безмездного. Перед операциями отец всегда ему молился, и я это делаю. Потому что в самые ответственные моменты я доверяюсь не мозгу, а инстинкту. Представляю себе, что моей рукой двигает Бог.
Он действительно хирург от бога, подумал Клобуков. Один из первой десятки кардиохирургов планеты и безусловно лучший в Советском Союзе.
– Только при чем здесь моя иконка? – с некоторым раздражением продолжил Румянцев. – Внутренне вы можете верить во что хотите, только общепринятых приличий не нарушайте. Ничего уникально советского в этом нет. Так было во все времена и повсюду. Закон любого социума.
Человек должен соблюдать лишь те законы социума, которые не противоречат его этическому и эстетическому чувству, мысленно возразил Антон Маркович, но говорить этого не стал. Ибо сам, увы, не всегда следовал сему щепетильному правилу. В России двадцатого века оно стало непозволительной роскошью.
– Хорошо, – вздохнул Иван Харитонович после паузы. – Скажу то, чего не собирался. Я вошел в министерство с предложением открыть при нашем институте научно-исследовательский центр анестезиологии – первый в СССР и второй в мире после недавно созданного цюрихского. Это откроет новые возможности – кадровые, финансовые, организационные. Всё, о чем мы с вами постоянно говорим – клинические испытания фторотановой анестезии, разработка нового ингаляционного аппарата и прочее – станет реальностью. И в руководители центра, а по совместительству мои заместители я хочу продвинуть вас. Вы меня устраиваете по всем параметрам. Но замдиректора союзного НИИ – номенклатура ЦК. Человека беспартийного на такой должности не утвердят. Теперь понимаете, почему я велел Митрофанову с вами поговорить?
Антон Маркович был взволнован открывающимися перспективами – и, разумеется, наполеоновским размахом идеи. Если главный анестезиологический центр страны будет существовать под эгидой ВИХРа, Румянцев станет безусловным и неоспоримым лидером всей советской хирургии.
Оценил Антон Маркович и психологический ход. Румянцев не стал соблазнять материальными и статусными выгодами (такая должность сулила и действительное членство в академии, и многое другое), а поманил новыми возможностями, которые были ох как соблазнительны. С другой стороны, если начнется серьезная научно-исследовательская деятельность, кто бы ни стал руководителем центра, работа по фторотану и прочие неотложные исследования все равно развернутся.
– Вы можете назначить Дымшица, он партийный, – сказал Клобуков. – Я отлично поработаю под руководством Якова Григорьевича. По административной части он намного способней меня.
– Яков Григорьевич, к сожалению, еврей, а вы русский. Это важно.
– Но ведь после прекращения «дела врачей» и осуждения «отдельных антисемитских поползновений» ситуация исправилась. Разве нет?
Директор покачал головой.
– Увы. Евреям доступ в элиту затруднен. Совсем как в царской России, где им не давали дворянство. Но тогда причина была религиозная, а сейчас политическая. Создание государства Израиль и антисоветские настроения еврейского капитала США заставляют правительство относиться к гражданам еврейской национальности с осторожностью. Ведь идет война, хоть и холодная. Советские евреи оказались в положении русских немцев после 1914 года. Подозрительны уже одними своими фамилиями. Мне приходится учитывать эти реалии. Кроме вас специалистов-неевреев такого уровня в стране трое. Корнейчук пенсионного возраста и здоровье не очень, Свентицкий – харбинец, у Саакянца невозможный характер. Вы же – идеальная кандидатура. Первопроходец отечественной анестезиологии, буденновец, сын погиб на войне. Мешала мутная история с женой, но теперь это не препятствие. Единственная проблема – беспартийность. В общем, хорошенько подумайте, Антон Маркович.
И разговор закончился.
«Помахать метлой» Клобукову так и не довелось. Сотрудники управились с уборкой-покраской оперативно, за полчаса, чтобы поскорее приступить к празднованию «Эфирного дня». Когда Антон Маркович заглянул в отдел, женщины заканчивали раскладывать угощение, подтягивались и мужчины. На столе были торт «Прага», домашние пироги, конфеты, сыр-колбаса – и нарезанные соленые огурцы, которые при появлении начальника были деликатно прикрыты медицинской салфеткой. В графине якобы с водой, которая при чаепитии не требовалась, наверняка был разведенный спирт. Судя по разрумяненным лицам, в процессе подготовки дамы к нему уже приложились.
Антон Маркович произнес короткий спич, поздравил коллег с праздником, сказал, что «хороший начальник – отсутствующий начальник», и шутливо пожелал подчиненным после его ухода бережно хранить моральный облик советского медработника.
Посмотрел на старшую медсестру Ковалеву, та кивнула и вышла за ним в коридор.
Зинаида Петровна, Зиночка, была незаменимой помощницей по всем оргвопросам, а также украшением отдела анестезиологии. Крупная, сочная, эффектная, немножко перебиравшая с косметикой, но ей это шло. Ярко-алый цвет сочных губ подчеркивал белизну ровных зубов, почти всегда полуоткрытых в улыбке. Полная жизни красивая тридцатилетняя женщина – самый привлекательный образчик биологического вида homo sapiens, любуясь Зиночкой, часто думал Клобуков. К начальнику старшая медсестра относилась с обожанием, подчас даже утомительным. Зато любое поручение, любую просьбу исполняла с рвением.
– Всё выяснила, Антонмаркыч, – скороговоркой доложила она. – Позвонила на Казанский вокзал, спросила про электрички на Коломну и обратно.
Зинины глаза блестели, в них посверкивали возбужденные огоньки. Говорила она заговорщическим шепотом, будто выполнила некое секретное задание, и очень близко придвинулась – полная грудь касалась клобуковского плаща. Антон Маркович слегка отстранился, чувствуя смущение – Зиночка, кажется, была не вполне трезва. От нее пахло духами, пудрой и алкоголем.
– Очень благодарен. Записали?
Улыбка стала лукавой.
– Да. Только бумаги под рукой не было, пришлось на обороте фотокарточки. Ничего? Меня снимали для доски почета, я попросила отпечатать несколько штук.
Протянула снимок. На нем Зинаида Петровна была принаряженная, с красивой прической, при янтарных бусах, которые надевала по торжественным случаям.
– Спасибо. Сохраню на память, – вежливо сказал Антон Маркович. Перевернул. Ближайший поезд отходил в тринадцать сорок пять. «Через два или три часа увижу Баха, о господи», – с содроганием подумал Клобуков.
Сунул карточку в левый внутренний карман.
– Вот я наконец и нашла путь к вашему суровому сердцу, – хихикнула Зина. – Давно об этом мечтала.
Она положила ладонь ему на грудь, словно трогая через ткань фотографию.
– Я немного нетрезвая, поэтому храбрая. Можно дам вам совет?
– Конечно-конечно, – удивился он.
– Езжайте четырехчасовой электричкой. Посидите немного с нашими. Выпейте. Другие начальники отделов это делают, и ничего, авторитет не страдает. Сократите дистанцию, к вам от этого будут только лучше относиться. Я вам это говорю, потому что сегодня нерабочий день. И потому что я хочу, чтобы вас любили.
Антон Маркович растрогался. Да и совет был хороший.
– Обязательно, Зиночка. В следующий раз так и сделаю. Но сейчас мне нужно торопиться. Ступайте, веселитесь. Спасибо вам.
Сапоги действительно пригодились. В Коломне от вокзала до дома на улице Дзержинского путь был неближний, асфальт скоро кончился, пару раз пришлось перебираться через огромные лужи по доскам.
Из-за налипшей грязи ноги стали тяжелыми. Идти было тягостно, как в нехорошем сне. И, конечно, не только из-за чавкающих сапог. Каждый шаг приближал Антона Марковича к ужасному моменту. Валидол не действовал, сердце то учащенно колотилось, то будто замирало.
Перед старым бревенчатым домом с почерневшим номером 66 Клобуков был вынужден немного постоять. Толкнул визгливую калитку. Поднялся на крыльцо. Постучал.
Открыла замотанная в платок тетка.
– Чего надо?
– Як Иннокентию Ивановичу… Он здесь проживает?
– Тут я проживаю. – Баба хотела захлопнуть дверь, но потом что-то сообразила. – Это дед что ли? Он не проживает, он временный. Нету его. Его днем никогда не бывает, шастает где-то.
– Тогда я зайду попозже, вечером, – пробормотал Антон Маркович, решив, что возвращаться в Москву и потом снова проделывать тот же путь – все равно что ампутировать конечность по частям. Лучше посидеть на станции и снова притащиться сюда по грязи, чем откладывать объяснение на другой день.
– Дед и ночует не всегда.
Тогда нет смысла ждать, подумал Клобуков. И потом, где тут ночевать, если уйдет последняя электричка?
Спросил:
– А… какой он, Иннокентий Иванович? В смысле, я с ним знаком, но очень давно не видел.
– Дед-то? Старый. – Тетка пожала плечами. – И того. – Покрутила пальцем у виска. – Всё бормочет чего-то. На кой таких выпускать? Уж сидел бы, пока не помрет. Сколько ему осталось?
– А если человека посадили по ошибке? – возмущенно воскликнул Клобуков. – Тоже пусть сидит, пока не помрет?
– В психбольницу по ошибке не содют. Врачам видней.
– В психбольницу? С чего вы взяли, что Иннокентий Иванович был в психбольнице?
– Он сам сказал, что раньше жил в больнице. Ясно, в какой. По всей евоной повадке видно. Но так плохого про него не скажу. Не пьет, не буянит. Да его почитай никогда и не бывает. Может, побирается, ляд его знает. За комнату плотит, значит деньги есть.
Дверь закрылась. Антон Маркович остался на крыльце.
Понятно, что Бах не стал рассказывать квартирной хозяйке, откуда он прибыл. Иначе не пустила бы.
Тяжелый разговор откладывался. Клобуков чувствовал себя приговоренным, который получил – нет, не помилование, а отсрочку казни. Испытывал облегчение. Постыдное.
Напарник
В воскресенье Самурай в условленном месте не появился. Может быть, не закончил дела в Калинине. Или хреново себя чувствовал и не поехал. С ним часто случалось, он был насквозь гнилой.
Договорились так: ровно в полдень у памятника Пушкину, а число – это как получится. Телеграмму Санин отправил утром в субботу, там только одно слово «Приезжай». В тот же день к полудню было никак не успеть, Санин на Пушкинскую даже не поехал, проверил три адреса из списка. В воскресенье, когда напарник тоже не объявился, добил четыре остальных.
Но в понедельник тощая, как скелет, фигура уже ждала у постамента, сверкала лысой головой. Волос на ней вообще не было, даже бровей и ресниц. Остались в Таджикистане, где Самурай полгода прочалился на урановом руднике.
Кивнул, протянул костлявую руку.
– Санитар-сан. Банзай!
«Санитар» – лагерная кликуха. Ее Санин получил не только потому что одно время работал в лазарете, где и познакомился с припухавшим там Самураем. Санитары в больничке были и другие. Погоняло прилипло, когда у Санина вышла зацепа с одним блатарем. Тот поступил недавно и еще не разобрался, на кого можно сявкать, а на кого нельзя. «Я вор, а ты – мужик, моська» – сказал блатарь. «Я волк, санитар леса», – ответил ему Санин, готовясь врезать пыром в кадык. Но не пришлось. Авторитетные воры заржали, объяснили новому человеку, что Санина трогать не надо, и стал он с того дня Санитаром.
Настоящее имя Самурая было Игорь Викентьевич Шомберг. Из тридцати восьми лет своей жизни, которая по всем признакам подходила к концу, ровно половину, девятнадцать годков, он провел в заключении. Сел еще второкурсником как агент японской разведки – изучал в университете древнеяпонскую литературу. Отсюда и кличка. В сорок первом, правда, был переквалифицирован в немецкие агенты, огреб новый срок за попытку создания в лагере подпольной фашистской организации, но прозвище уже не поменялось. Вместо пули в затылок получил командировку на уран. Кто там за полгода не загибался, тех комиссовали и возвращали в обычный лагерь. Самурай не загнулся, только затылок, спасшийся от пули, стал голым, как коленка.
Самое интересное, что хоть никакой фашистской организации в лагере, конечно, не было, но взяли Самурая не на голой туфте. Он рассказывал, что действительно радовался немецкому наступлению и говорил в бараке: Таракану скоро кирдык. Кто-то настучал куму.
Жизни в Шомберге осталось немного, но была она цепкая, как репей. Всё сулилась вот-вот закончиться, но не кончалась. Хилый, бухающий страшным кашлем, полуслепой, он продолжал коптить небо – такое ощущение, что единственно на ядерном топливе жгучей ненависти.
Санин после трех отсидок и всех мытарств стал каменным и холодным, мягкого и теплого в нем совсем ничего не осталось. Самурай же был будто расплавленный металл. Еще он напоминал ядовитый анчар:
- Природа жаждущих степей
- Его в день гнева породила,
- И зелень мертвую ветвей,
- И корни ядом напоила.
Нет, скорее он был похож на гюрзу, налитую страшным весенним ядом, – так же шипел и без предупреждения кидался на тех, кого считал врагом. В лагере его обходили стороной. Физически слабый, в ярости Самурай выбешивался до пены на губах, не ощущал боли и, пока оставался в сознании, хватки не расцеплял.
– Семеро только? – сказал он сразу после своего всегдашнего «банзая». – А остальные что?
– Мало ли. Война, посадили, переехали куда-нибудь. Тебе что, семи мало?
– Мне все нужны.
Глаза за толстыми стеклами казались огромными, как у филина. Голые красные веки подергивались.
В последнее время у Самурая появилась новая привычка – вертеть во все стороны головой. Очки, сделанные в Калинине, были для него таким же великим событием, как для Санина зубы.
Все минувшие годы Самурай прожил без стекол, как в тумане, и теперь всё не мог наглядеться на мир. Добрее это, однако, его не делало. И то, что вновь прозревший видел, ему как правило не нравилось.
Сошлись они в последние два года, потому что имели общую мечту. Верней, мечта принадлежала Самураю, но он ею поделился с Саниным, увлек, дал загубленной жизни новый смысл.
Раньше, до Самурая, Санин жил, только чтобы выживать. Получалось у него неплохо, накопились навыки. Но так существует зверь в лесу или крот под землей. Человеку нужна большая цель. У Самурая, единственного из всех, кого Санин повидал за десять лет, она была. Ясно сформулированная, тщательно продуманная – и при определенных условиях осуществимая.
Мечта была не такая, как у других зеков. Не о выходе за колючку. Во-первых, мы с тобой пособники, нас не выпустят, говорил Самурай (остальных, кто по 58-ой, в это время потихоньку уже начали освобождать). Во-вторых, даже если выпустят, что нам делать? Доскрипывать сколько осталось до могилы? Ради чего?
Ждать и гадать, выпустят или нет, он в любом случае не собирался. Неторопливо и тщательно готовился к побегу. План у Самурая был такой же, как он сам – безжалостный и безумный. Ночью вскрыть дверь барака (отмычка имелась), затаиться снаружи, убить обходчиков (они всегда ходили парами), переодеться в их форму, чтобы беспрепятственно проникнуть на КПП, заточками (они тоже были) переколоть всех, кто там окажется, сесть в дежурный «газик», догнать до железной дороги, а там ищи ветра в поле. По слабосильности Шомберг работал шнырем, уборщиком в административном корпусе, и однажды сунул нос в секретную сводку, забытую на столе. Там была интересная статистика, он переписал ее на бумажку, выучил наизусть и цитировал по памяти, как стихи: «Органы милиции плохо ведут розыск преступников, бежавших из тюрем, лагерей, колоний и камер предварительного заключения. В настоящее время в розыске находится более 9000 преступников. Кроме того, разыскивается более 20 000 лиц, скрывшихся от ареста, следствия и суда. В числе разыскиваемых 1775 убийц, 2855 бандитов и разбойников, 3940 воров». «Хрен нас найдут, – уверенно заявлял Самурай. – Да и искать не станут».
Санина он посвятил в эту дикую, но совсем не фантастическую затею только потому, что провернуть такую штуку в одиночку невозможно. Главной мечтой напарник поделился позже.
Но с прошлого года пошли слухи, что пособникам сократят срока, лагерные порядки стали меняться, многих расконвоировали, и Санин уговорил товарища обождать. Зачем бегать, попадать в розыск, если можно выйти без шума и пыли? Оно и для мечты лучше.
Мечта у Самурая была самурайская, основанная на целой философии. «Смысл жизни состоит в том, чтобы увеличить в ней количество Добра и уменьшить количество Зла, – говорил Шомберг. Он много об этом думал и излагал красиво, как по-письменному. – Выполнять обе работы сразу невозможно, потому что добро делают добрыми руками, а зло – злыми. Это принципиально разные занятия. Если б меня не выдернули из прежнего существования, я бы остался мальчиком-одуванчиком, вырос бы в тихого интеллигента и высаживал бы на клумбе анютины глазки, от которых жизнь становится красивей и добрее. Милое дело! Но меня развернули в другую сторону – как и тебя. Выпихнули на Путь Зла и преподали эту науку по полной программе, от начальной школы до докторантуры. Жизнь нам с тобой сломали, но смысла ее не лишили. Мы с тобой доктора зловедческих наук, так давай работать по специальности».
Количество накопившегося в мире Зла философ собирался уменьшить простым и эффективным образом: нейтрализовать как можно больше прислужников Зла. Год за годом, обстоятельно и кропотливо, Самурай составлял список самых подлых и жестоких оперов, следователей, костоломов, вертухаев. Опрашивал других зеков, перепроверял и уточнял информацию, заучивал наизусть данные. Отбирал только беспримесных, несомненных негодяев. Нанизывал их жемчужина к жемчужине, как ожерелье. При этом он не включил особистов, которые сажали и мордовали его самого. «Это не личная месть, а возмездие. Мы с тобой не графы Монте-Кристо, мы поправляем баланс Инь и Ян», – говорил бывший востоковед.
Освободили их обоих внезапно, три недели назад. Говорили, что поспешность была вызвана подписанием договора с немцами об окончательной репатриации военнопленных. Не стали разбираться – кто оккупант, а кто пособник. Катитесь на все четыре стороны. Посидели и забудьте.
К этому времени ожерелье Самурая состояло из 78 «бусин». Больше всего, восемнадцать кандидатов, вроде бы проживали в Москве. С нее доктора злых наук и решили начать. «Действуем быстро, но без суеты, по разработанному плану», – сказал Шомберг.
Первый раздел плана назывался «Подготовка». Состоял из четырех пунктов:
1. Матбаза.
2. Глаза и зубы.
3. Разведка.
4. Выход на позицию.
«Матбазу», то есть денежные средства, необходимые для жизни и оперативных расходов, напарники собирались добыть по дороге на запад, в Свердловске. На зоне они потолковали с шофером из тамошнего облуправления МВД. Мужик присел за кражу бензина, и его лагерная судьба зависела от того, будут его считать «мусором» или нет. Погон он не носил, но служил-то в ментовке. Санин с Самураем вписались за бедолагу, а он в благодарность рассказал им много полезного.
Идея была, само собой, шомберговская – простая и отчаянно дерзкая. «Кто не опасается грабителей? Тот, кто их ловит, – заявил Самурай. – Сапожник, как известно, без сапог».
В последний понедельник каждого месяца в облуправление привозили зарплату сотрудникам. На обычной машине – бухгалтер да водила. Какому психу придет в голову нападать на милицейский автомобиль?
Прямо около горбанка, пока бухгалтер ходил за деньгами, Санин вырубил курившего в машине шофера коротким ударом в висок. Прохожие даже не заметили. Просто наклонился человек к окошку прикурить, да разговорился о чем-то с водителем. Когда же приблизился дядя в шляпе, с холщовой опломбированной сумкой, Санин выпрямился, развернулся. Шляпа полетела в одну сторону, дядя – в другую, сумка оказалась у Санина, он рванул в ближайшую подворотню, где поджидал Самурай. Вот и вся операция. Взяли больше ста тысяч. Этого должно было хватить надолго.
Час спустя грабители уже сидели в вагоне-ресторане, пили «боржоми» за удачное исполнение первого пункта Плана. Алкоголя оба не употребляли. Самурай прямо кис со смеху. Его очень веселило, что лягаши остались без зарплаты. А в лагере Шомберг никогда не смеялся, не улыбался. Санин был уверен, что у напарника и мышц таких на лице нет, одни желваки.
Самурай и сейчас, на московской площади, всё скалился. Ему нравилась свобода, а еще больше – что весь первый раздел Плана успешно завершен. Очки сделаны, разведка проведена, позиция обеспечена.
– Хорошая хаза?
– Сойдет.
– Близко отсюда?
– На троллейбусе.
Задрав головы, посмотрели на женскую статую, венчавшую магазин «Арменторг». Обоих забрали, когда высоченного здания еще не было, Пушкин стоял на другой стороне площади, а улица Горького выглядела совсем по-другому.
– Красиво, – сказал Санин.
– Блевотина, – отрезал Самурай.
Но спорить из-за архитектуры не стали.
– Рассказывай, кого выловил, – попросил напарник. – Не томи. Главное, Сагайдачный есть?
Это был его фаворит, в тридцать восьмом заведовавший «Спецобъектом 110», Сухановской пыточной тюрьмой. На Сагайдачного было больше всего свидетельских показаний.
– Нет. В адресном бюро не значится.
– Эх, жалко. Ну давай кто есть. Семеро, говоришь?
– Насчет одного не уверен. Имя, отчество, год рождения сходятся, но я съездил, понаблюдал. Не уверен. У тебя в описании худой брюнет выше среднего роста, а тот, которого я видел, пузатый и плешивый, сутулый.
– Мог разжиреть, облысеть и скрючиться. Сколько лет прошло. Это который?
– Лев Соломонович Ковнер.
– А, «Стоматолог». Тоже сухановский. В прошлом зубной техник. Пристегивал допрашиваемого к креслу, сверлил в нерв бормашиной. Трое свидетелей. Ладно, проверим. Остальные кто?
– Так… – Санин достал бланки, полученные в справочных пунктах. – Игнат Иванович Лесных. Живет в Марьиной Роще.
– Из Лефортова. Делал «яичницу» – давил сапогом яйца. Двое свидетелей. Отлично.
– Аркадий Фелицианович Блажевич. Живет на Шаболовке.
– Из Внутренней Лубянской. У меня проходит как «Психолог». Физических методов не использовал. Брал родственников. И потом уже не выпускал, даже если получал показания. Четверо свидетелей.
– Олег Константинович Лисицкий. Метростроевская улица.
– Гнида. Провокатор. Создал по меньшей мере три «контрреволюционные организации». Я думал, его самого в конце концов к какой-нибудь из них пристегнули, как это у них бывало. Но гляди-ка, живехонек. Знать, ценный был кадр.
– Он теперь заслуженный деятель искусств. Солидный такой, с тростью.
– Вот мы ему эту трость… – И Самурай объяснил, как он планирует поступить с тростью и деятелем искусств.
– Лоскутов Клим Евдокимович. Высотный дом на площади Восстания. Тоже стал большой человек, его на персональном авто возят.
– С охраной? – встревожился Шомберг.
– Нет, обычный шофер.
– Тогда ничего. Это так называемый «Железный прокурор». Всегда требовал приговора «по потолку». Бог знает, сколько народу угробил.
– Далее Иван Афанасьевич Щуп. Проживает за городом, в Лобне. Вчера полдня на него потратил. Точно он, никаких сомнений. Ходит в кителе без погон, но петлицы синие.
– Отлично. Был начальником поездного конвоя на Воркутинском направлении. Зверюга из зверюг. Очень много свидетелей.
– Последний, седьмой – Ласкавый Егор Трифонович.
– А-а, с сорок шестого до пятидесятого начальник матросского ШИЗО. Изобрел камеру-«холодильник». Шестеро свидетелей, все с застуженными почками. Я для Егора Трифоновича тоже кое-что по части почек придумал.
Самурай сладко улыбнулся. Зубы у него были свои, но гнилые, десны неестественно белесые.
– Закрой пасть, – попросил Санин. – Ты из тех редких людей, кому улыбка не к лицу.
– Не могу. Душа поет. Сколько лет я этого ждал! Думал, не доживу. С кого начнем, а? Ты лично за которого?
Ответ был готов – Санин об этом уже подумал.
– Предлагаю начать с легкого и двигаться по линии усложнения. Проще всего достать Щупа. Он живет один. Похоже, сильно пьет. Дом малоквартирный, деревенского типа.
Самурай одобрил:
– Годится.
– Ты его к чему приговорил?
Идея Самурая состояла в том, чтобы фигурантов списка не убивать, это для них будет недостаточно, а ломать им жизнь – как они ломали жизни людям. Санин в эту часть Плана не вмешивался, знал, что напарник любовно и долго изобретал для каждого приговоренного персональную казнь.
– Увидишь, – снова оскалился Шомберг. – Всё будет по справедливости. Щуп так Щуп. Хотя стоп… – Он нахмурился. – Нет, давай лучше вот как поступим. Мы с тобой – карающая рука Судьбы. Так?
Санин покривился. Иногда напарник чересчур увлекался пафосом.
– Ну предположим. И что?
– Пусть Судьба выберет сама.
Самурай сел на скамейку, вынул блокнотик, в котором микроскопическим, совершенно нечитаемым почерком вел какие-то записи. Вырвал пустую страничку, разделил на семь полосок, на каждой написал имя. Скомкал. Пересыпал из одной ладони в другую. Шесть бумажных комков выкинул в урну, один развернул.
– Гляди-ка! Все равно Щуп. Вот как после этого не верить в судьбу?
Окобога
Тип: «ДЕНЬ-М»
Персональная картотека: К-227
Возраст: 58 л.
Образование: высш.+ (мед.)
1
Вы летите из Москвы в Хабаровск, на научную конференцию. Дорогу в семь тысяч километров, на которую век назад уходило полгода, а то и год, современный пассажирский лайнер «ИЛ-12» преодолевает всего за 28 часов, с пятью дозаправками.
Бльшая часть пути уже позади. Предпоследний перелет Иркутск-Чита недлинный, кресла удобные, элегантная бортпроводница разносит «Нарзан» и пиво, вид из иллюминаторов потрясающе красивый – вы только что парили над Байкалом. Одним словом, всё было бы прекрасно, но машину потряхивает, и всех просят пристегнуть ремни.
– Не беспокойтесь, товарищи, – говорит стюардесса, переходя от ряда к ряду. – Командир принял решение изменить курс. Облетаем грозу. Беспокоиться не о чем.
Вы сидите в последнем, восьмом ряду, справа от прохода. Ваша соседка, румяная дама в цветастом платке спит, откинувшись назад. Это дает вам возможность смотреть вниз. Там тайга – бело-серая, потому что сквозь снег проступает рябь деревьев. Вдали видны горы. Искрится на солнце замерзшая река. Уже середина марта, но здесь, в Забайкалье, еще зима зимой.
Слева от вас, через проход сидит мужчина в кожаной куртке. Он курит папиросу за папиросой. Мужчине скучно – его сосед смешал пиво с водкой, быстро охмелел и похрапывает. Поэтому человек в кожаной куртке все время обращается к вам.
– Видите, слева все небо черное, – говорит он. – Атмосферный фронт прет с севера. Улепетываем на юго-восток. Я сам летчик, в Читинском авиаотряде работаю. Тут такие грозы – не дай бог.