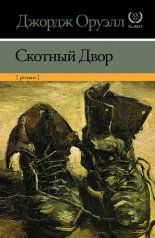Маленькая жизнь Янагихара Ханья

Виллем молчит еще квартал, и он думает, что разговор закончен, но Виллем вдруг говорит:
— Знаешь, когда я стал встречаться с Робин, она спросила меня, натурал ты или гей, и я вынужден был ей сказать, что не знаю. — Он помедлил. — На нее это произвело большое впечатление. Она все повторяла: «Это твой лучший друг, вы дружите с юности, и ты не знаешь?!» Филиппа тоже об этом спрашивала. И я сказал ей то же, что и Робин: что ты не склонен к откровенности, что я всегда старался уважать твое личное пространство. Но, пожалуй, я хотел бы, чтобы ты говорил мне такие вещи, Джуд. Не потому, что мне зачем-то нужна эта информация, а потому, что так мне легче понимать, кто ты. Может быть, ты ни то и не другое. Может, и то и другое. Может, тебе просто это неинтересно. Это ничего для меня не меняет.
Он ничего не говорит, не может ничего сказать в ответ, и они в молчании идут еще два квартала: Тридцать восьмая улица, Тридцать седьмая улица. Он чувствует, что его правая нога волочится по асфальту, как бывает, когда он устал или расстроен, слишком устал и расстроен, чтобы стараться, и он рад, что Виллем идет слева от него, так меньше вероятность, что он заметит.
— Иногда меня тревожит мысль, что ты решил, убедил себя, будто ты непривлекателен, в тебя нельзя влюбиться, и оттого некоторые вещи тебе просто недоступны. Но это не так, Джуд, кто угодно был бы счастлив быть с тобой, — говорит Виллем еще через квартал.
Ну хватит уже, думает он, чувствуя по тону Виллема, что тот разогревается для длинной речи; он впадает в панику, сердце начинает биться в странном ритме.
— Виллем, — говорит он, поворачиваясь. — Я, наверное, все-таки возьму такси. Я устал, мне надо лечь.
— Брось, Джуд, — говорит Виллем с таким раздражением, что он вздрагивает. — Послушай, прости, но правда, Джуд. Ты не можешь просто взять и уйти, когда я пытаюсь поговорить с тобой о чем-то важном.
Это останавливает его.
— Ты прав, — говорит он. — Извини. Я благодарен, Виллем, правда. Но мне слишком трудно это обсуждать.
— Тебе все слишком трудно обсуждать, — говорит Виллем, и он снова вздрагивает. Виллем вздыхает. — Прости. Я просто всегда думаю, что однажды поговорю с тобой, поговорю по-настоящему, но это никогда не происходит, потому что я боюсь, что ты захлопнешься и вообще больше не будешь со мной разговаривать.
Они молчат, он про себя признает правоту Виллема — именно так он и делает. Несколько лет назад Виллем пытался поговорить с ним о том, что он себя режет. Они тогда тоже говорили на ходу, и в какой-то момент разговор стал настолько невыносимым, что он махнул рукой проезжавшему такси, влез в него с лихорадочной поспешностью и оставил Виллема на тротуаре. Виллем кричал ему вслед, выпучив глаза от изумления; он проклинал себя, пока машина неслась на юг. Виллем был в ярости; он извинился, они помирились. Но Виллем никогда больше не заводил этот разговор, и он тоже.
— Но скажи, Джуд, разве тебе не бывает одиноко?
— Нет, — говорит он после паузы.
Мимо, смеясь, проходит парочка, и он вспоминает начало прогулки — тогда они тоже смеялись. Как он умудрился испортить этот вечер, последний, ведь он теперь не увидит Виллема много месяцев.
— Не беспокойся обо мне, Виллем. У меня все будет в порядке. Я всегда смогу о себе позаботиться.
В ответ на это Виллем вздыхает, сутулится и выглядит таким побитым, что он чувствует укол совести. Но и облегчение тоже: видно, что Виллем не знает, как продолжить разговор, и ему скоро удастся его отвлечь, закончить вечер чем-то более приятным, спастись бегством.
— Ты всегда так говоришь.
— Потому что это всегда правда.
Наступает долгое, долгое молчание. Они стоят у ресторана, корейское барбекю, воздух кажется плотным и ароматным от пара и дыма и запаха жарящегося мяса.
— Можно я пойду домой? — спрашивает он, и Виллем кивает. Он идет к обочине, поднимает руку, подъезжает такси.
Виллем открывает ему дверцу и обнимает его, и он наконец отвечает на объятие.
— Я буду скучать по тебе, — говорит Виллем ему в шею. — Ты будешь заботиться о себе, пока меня нет?
— Да, — говорит он. — Обещаю. — Он отступает и смотрит на Виллема. — До ноября.
Виллем отвечает ему гримасой, которая не тянет на улыбку.
— До ноября, — отзывается он эхом.
В такси он понимает, что действительно устал, утыкается лбом в грязное стекло, закрывает глаза. К тому времени, как он попадает домой, тело наливается свинцом, кажется мертвым, в квартире он начинает снимать с себя одежду — ботинки, свитер, рубашку, футболку, брюки — сразу, как только закрывает за собой дверь, оставляя вещи на полу, словно след, и устремляется в ванную. Руки дрожат, пока он отлепляет пакет из-под раковины, хотя он не думал, что ему сегодня придется себя резать — ничто не предвещало этого, — но сейчас его жажда неудержима. У него давно не осталось свободной кожи на предплечьях, и он режет поверх старых шрамов, используя угол бритвы, чтобы пропилить жесткую перепончатую ткань: когда новые порезы заживают, они образуют борозды и наросты, и он ужасается тому, как обезобразил себя, но отвращение смешивается со странной завороженностью. Недавно он стал мазать руки кремом, который Энди дал ему для спины, и, кажется, крем немного помогает: кожа теперь чуть менее натянута, шрамы чуть мягче, чуть податливей.
Душевая, созданная Малкольмом в ванной комнате, огромна — настолько, что сейчас он весь помещается в ней, вытянув ноги, и когда он заканчивает себя резать, он тщательно смывает кровь, потому что пол весь из мрамора, а Малкольм не раз повторял ему, что если запачкать мрамор, то ничего уже не сделаешь. И вот он уже в постели, в голове пусто, но спать еще не хочется, и он смотрит, как светильник ртутно мерцает в темной комнате.
— Я одинок, — говорит он вслух, и тишина квартиры впитывает его слова, как хлопок впитывает кровь.
Это одиночество для него внове, оно отличается от всех других одиночеств, которые он знал: это не детское одиночество сиротства; не бессонное одиночество в комнате мотеля с братом Лукой, когда стараешься не пошевелиться, чтоб не разбудить его, а луна бросает на кровать белые жесткие полосы света; это не одиночество, испытанное после побега из приюта, успешного побега, когда он провел ночь, вжавшись в ложбину между разросшимися вывороченными корнями дуба, похожими на раздвинутые ноги, стараясь съежиться, уменьшиться насколько это возможно. Он тогда думал, что одинок, но теперь он понимает, что это был страх, а не одиночество. Сейчас он защитил себя: у него есть квартира, где двери закрыты на три замка, у него есть деньги. У него есть родители и друзья. Ему никогда не придется делать то, чего он не хочет, за кусок хлеба, за перевозку куда-нибудь, за крышу над головой, за побег.
Он не лгал Виллему: он не создан для отношений и всегда это знал. Он никогда не завидовал своим друзьям — как кошка не завидует собачьему лаю; ему не пришло бы в голову завидовать их романам, потому что для него это невозможно, несовместимо с его биологическим видом. Но в последнее время люди вокруг него ведут себя так, будто ему это доступно, будто он должен этого хотеть, и хотя он знает, что они говорят так из лучших побуждений, но слова их звучат издевкой: с тем же успехом они могут убеждать его стать десятиборцем, это было бы так же глупо и жестоко.
Он ждет подобных реплик от Малкольма и Гарольда; Малкольм счастлив и видит только один — свой — путь к счастью и потому предлагает время от времени познакомить его с кем-нибудь или спрашивает, хочет ли он найти себе кого-нибудь, и каждый раз отрицательный ответ ставит его в тупик. Гарольду же особенно нравится эта часть его родительских обязанностей: укорениться в его жизни, устроиться там как можно прочнее. Он тоже научился иногда получать от этого удовольствие — его трогает, что кто-то достаточно интересуется им, чтобы давать указания, огорчаться из-за его поступков, ждать от него чего-то, брать на себя ответственность за него, потому что он «свой». Два года назад они с Гарольдом сидели в ресторане, и Гарольд читал ему нотацию о том, что работа в «Розен Притчард» делает его практически соучастником корпоративных злоупотреблений, и вдруг они оба заметили, что над ними стоит официант с блокнотом.
— Прошу прощения, — сказал официант. — Мне подойти попозже?
— Нет, ничего, — сказал Гарольд, подбирая со стола меню. — Я просто ругаю своего сына, но могу продолжить после того, как мы закажем.
Официант сочувственно ему улыбнулся, и он улыбнулся в ответ, ощущая восторг от этого публичного признания — он чей-то, он наконец принят в племя сынов и дочерей. Позже Гарольд возобновил свою тираду, и он притворялся расстроенным, но на самом деле весь вечер чувствовал себя счастливым, умиротворение наполняло все его существо, и он так часто улыбался, что Гарольд в конце концов спросил, не пьян ли он.
Но теперь и Гарольд стал задавать вопросы.
— Потрясающая квартира, — сказал он. Это было в прошлом месяце — Гарольд приехал к нему на день рождения, Виллем устроил ужин в его честь, хотя он и велел ему этого не делать. На другой день Гарольд пришел к нему, как он всегда делал, бродил по квартире, всем восхищался, повторял одно и то же: «Потрясающая квартира», «Как здесь чисто», «Малкольм постарался на славу» и, в последнее время, «Но она такая огромная, Джуд. Тебе не пусто здесь одному?»
— Нет, Гарольд, — отвечал он. — Я люблю быть один.
Гарольд что-то проворчал.
— Виллем, кажется, счастлив, — начал он снова. — Робин очень симпатичная.
— Да, — сказал он, заваривая Гарольду чай. — И он правда счастлив.
— Джуд, а ты разве не хотел бы этого для себя?
Он вздохнул.
— Нет, Гарольд, мне и так хорошо.
— А о нас с Джулией ты подумал? Нам бы хотелось, чтобы у тебя кто-то был.
— Ты знаешь, как я хочу, чтобы вы с Джулией были счастливы, — сказал он, стараясь говорить спокойно. — Но, боюсь, на этом фронте я ничем не смогу вам помочь. Вот. — И он подал Гарольду чашку.
Иногда он размышляет: может, он бы вообще не думал об одиночестве, если бы ему не внушали, что он должен чувствовать себя одиноко, что его жизнь в ее нынешнем виде странна и неприемлема. Люди всегда предполагают, что ему не хватает того, чего ему и в голову не приходило хотеть, да что там — не приходило в голову, что ему вообще это доступно. И не только Гарольд и Малкольм, но и Ричард, который вот-вот съедется со своей девушкой, тоже художницей, по имени Индия, и те, кого он видит не так часто, — Ситизен, и Илайджа, и Федра, и даже Керриган, старый приятель, с которым он работал у судьи Салливана (они виделись несколько месяцев назад, когда тот приезжал в город со своим мужем). Кто-то задает ему вопросы с жалостью, кто-то с подозрением: первые сочувствуют ему, потому что считают, что его одиночество вынужденное, не его решение, а стечение обстоятельств, вторые испытывают к нему своего рода враждебность, потому что считают как раз наоборот: его одиночество — именно сознательное решение, злостное нарушение фундаментальных законов взрослой жизни.
В любом случае быть одиноким в сорок не то, что в тридцать, с каждым годом это становится все менее понятным, менее завидным, более жалким и неприличным. В последние пять лет он всегда приходил один на ужин партнеров, а год назад, когда он стал долевым партнером, пришлось одному ехать на ежегодный выездной корпоратив. За неделю до этого, вечером пятницы, Люсьен зашел к нему в офис, чтобы посмотреть бумаги за неделю, как он часто делал. Они поговорили о будущем выезде, в этот раз в Ангилью, которого оба ждали с искренним ужасом, в отличие от других партнеров — те притворно ужасались, но на самом деле (как они с Люсьеном единодушно решили) только об этом и мечтали.
— Мередит поедет? — спросил он.
— Да. — Наступило молчание, и он знал, что за ним последует. — Ты возьмешь с собой кого-нибудь?
— Нет, — сказал он.
Еще пауза, во время которой Люсьен смотрел в потолок.
— Ты никогда никого не брал с собой на наши мероприятия, правда? — спросил наконец Люсьен с деланной небрежностью.
— Нет, — ответил он, и, когда Люсьен ничего не сказал, добавил: — Ты пытаешься мне что-то сказать?
— Нет, конечно нет. Мы не такая фирма, где следят за подобными вещами, ты же знаешь, Джуд.
Он почувствовал, как на него накатывает гнев и стыд.
— Получается, что именно такая. Если оргкомитет как-то это комментирует, ты должен сказать мне, Люсьен.
— Джуд, это не так. Ты знаешь, как все здесь тебя уважают. Просто я думаю… это не мнение фирмы, только мое личное — мне бы хотелось видеть тебя с кем-то.
— Хорошо, Люсьен, спасибо, — сказал он устало. — Я об этом подумаю.
Однако, как бы ни жаждал он выглядеть нормальным, ему не хотелось заводить отношения потому, что так положено: он захотел их потому, что чувствовал себя одиноким. Он так одинок, что иногда ощущает это физически, как будто ком грязного белья давит ему на грудь. Он не может разучиться чувствовать это. Людям кажется, что все так просто, как будто самое трудное — захотеть. Но он-то знает, что сблизиться с кем-то значит оказаться незащищенным, а он до сих пор позволял себе это только с Энди. Это означает встречу с собственным телом, которое он не видел обнаженным лет десять, — он не смотрит на себя, даже принимая душ. И это означает секс, которого у него не было с пятнадцати лет и который вызывает у него такой ужас, что живот моментально сводит ледяным спазмом. Когда он только начал обращаться к Энди, тот иногда спрашивал его про половую жизнь, пока он наконец не ответил, что, когда и если это случится, он сам скажет, а до тех пор можно не спрашивать. И Энди никогда больше не спрашивал, и ему самому не приходилось ничего говорить. Отсутствие секса было одним из главных преимуществ взрослой жизни.
Но, как бы он ни страшился секса, ему все-таки хочется, чтобы до него дотрагивались, хочется почувствовать прикосновение чьих-то рук, хотя и эта мысль пугает. Иногда он смотрит на собственные руки и испытывает такую острую ненависть к себе, что едва может дышать: не его вина, что тело так изувечено, но руки — его рук дело, винить больше некого. Когда он начал резать себя, он резал ноги — только лодыжки, — и, прежде чем он научился делать это как следует, он полосовал себя бритвой как попало, в разных направлениях, так, словно оцарапался перекрестными стеблями травы. Никто не замечал — никто не смотрит на чужие лодыжки. Даже брат Лука не задавал вопросов. Но теперь не заметить руки невозможно, а также спину и ноги — все они исчерчены бороздами там, где была удалена поврежденная ткань и мускулы, и еще есть вмятины размером с отпечаток большого пальца там, где когда-то были прикручены скобы, шурупами, которые просверливали плоть и кость, и блестящие впадины кожи там, где были ожоги, и места, где раны затянулись, и вокруг них бугрится кожа странного бронзового оттенка. В одежде он другой человек, но без нее он обнажает свою суть, годы гниения отпечатались на его коже, его плоть кричит о его прошлом, о пороке и мерзости.
Однажды в Техасе у него был клиент с безобразным телом, такой жирный, что живот свисал между ног курдюком, вся кожа была покрыта хлопьями экземы и так суха, что при каждом движении ошметки отшелушивались и взлетали в воздух. Его тошнило от одного взгляда на этого мужчину, но, с другой стороны, его тошнило от них всех, этот был не хуже и не лучше других. Когда он отсасывал у него, живот клиента давил ему на шею, мужчина кричал в голос и извинялся — прости, прости, — впиваясь кончиками пальцев ему в голову. У мужчины были длинные ногти, твердые словно кости, и он проводил ими по его скальпу, но осторожно, будто зубьями гребня. Иногда ему казалось, что за прошедшие годы он стал этим мужчиной, и если кто-то его увидит, то испытает то же отвращение, ту же тошноту от его уродства. Ему не хотелось, чтобы кого-то потом рвало над унитазом, как рвало его; он горстями тогда заливал в рот жидкое мыло, пытаясь очиститься.
Нет, ему больше никогда не придется делать то, чего он не хочет, за еду и кров — он наконец уверен в этом. Но на что он пойдет, чтобы почувствовать себя менее одиноким? Может ли он уничтожить все, что так тщательно строил и защищал, ради близости? Сколько унижений он согласен перенести? Он не знает этого и боится узнать.
Но с годами он все больше боится, что у него не будет случая узнать это. Что значит быть человеком, если ты лишен всего этого? И все же, напоминает он себе, одиночество — это не голод, не жажда, не болезнь: оно не фатально. Его не обязательно прекращать. У него жизнь лучше, чем у многих людей, лучше, чем он мог мечтать. Хотеть ко всему этому еще и не быть одиноким — почти уже жадность, непростительная дерзость.
Проходят недели. Расписание Виллема непредсказуемо, он звонит то в час ночи, то в три часа дня. Голос его звучит устало, но поскольку жаловаться не в его характере, Виллем не жалуется. Он рассказывает о декорациях, об археологических раскопках, на которых им разрешили снимать, о мелких происшествиях на съемочной площадке. Когда Виллема нет, ему хочется сидеть дома и ничего не делать, но он знает, что это нездоровое желание, и изо всех сил старается заполнить выходные встречами, вечеринками, ужинами. Он ходит в музеи и на спектакли с Черным Генри Янгом, в галереи с Ричардом. Феликс, у которого он сто лет назад был репетитором, теперь возглавляет панковскую группу под названием «Тихие американцы», и он уговаривает Малкольма вместе пойти на их концерт. Он рассказывает Виллему обо всем, что видел и прочитал, о разговорах с Гарольдом и Джулией, о последнем проекте Ричарда, о своих клиентах-художниках, о дне рождения дочери Энди и новой работе Федры; с кем он говорил, кто что сказал.
— Еще пять с половиной месяцев, — говорит Виллем в конце одной из таких бесед.
— Пять с половиной месяцев, — повторяет он.
Во вторник он идет на ужин в новую квартиру Родса, недалеко от дома родителей Малкольма. В декабре, когда они с Родсом выпивали, тот говорил, что из-за этой квартиры его мучают кошмары: он просыпается по ночам, и в голове прокручиваются бухгалтерские книги его жизни — репетиторы, ипотеки, налоги, выплаты, страшные цифры с нулями. «И это при том, что родители помогают, — сказал он. — А Алекс хочет родить еще одного ребенка. Мне сорок пять, Джуд, и я уже выдохся, а ведь мне придется работать до восьмидесяти, если мы родим третьего».
Сегодня он с облегчением видит, что Родс расслаблен, его шея и щеки пылают розовым румянцем.
— Боже, — говорит Родс, — как ты умудряешься быть таким худым?
Пятнадцать лет назад, когда они познакомились в прокуратуре, Родс выглядел как игрок в лакросс, весь мышцы и сухожилия, но, начав работать в банке, обрюзг, внезапно постарел.
— Ты хочешь сказать «костлявым», — говорит он.
Родс смеется.
— Я бы не отказался быть костлявым.
За стол садятся одиннадцать человек, и Родсу приходится принести кресло из кабинета и скамейку из гардеробной Алекс. Он знает, у Родса всегда так: прекрасная еда, цветы на столе, и все-таки всегда что-то идет не так, приходят нежданные гости, не хватает мест: Алекс пригласила кого-то, с кем только что познакомилась, и забыла сказать Родсу, Родс сам сбился со счета — и вот то, что обещало быть парадным чопорным ужином, превращается в хаотичные посиделки.
— Черт! — говорит Родс. Как всегда, он единственный, кого это заботит.
Алекс сидит по левую руку от него, и они говорят о ее работе: она была директором по связям с общественностью в модном доме под названием «Ротко», но только что ушла оттуда, к отчаянию Родса.
— Не скучаешь еще? — спрашивает он.
— Еще нет, — отвечает она. — Родс не очень доволен, — она улыбается, — но он привыкнет. Я решила посидеть дома, пока дети маленькие.
Он спрашивает о загородном доме, который они купили в Коннектикуте (еще один источник кошмаров для Родса), она рассказывает ему про ремонт, который длится уже третье лето, он мычит в знак сочувствия.
— Родс говорил, ты хотел купить дом где-то в Колумбии? Уже купил?
— Нет еще, — отвечает он.
У него был выбор: либо купить дом, либо вместе с Ричардом отремонтировать первый этаж, довести до ума гараж, сделать тренажерный зал и бассейн с постоянным течением, чтобы можно было плыть на месте, — и в конце концов он выбрал переделку первого этажа. Теперь он каждое утро плавает в полном одиночестве; даже Ричард не заходит в тренажерную часть, когда он там.
— Мы сначала хотели подождать с домом, — признается Алекс, — но у нас не осталось выбора: пока дети маленькие, им нужен дом с садом.
Он кивает, он уже слышал эту историю от Родса. Иногда ему кажется, что он и Родс (он и любой его ровесник в фирме) проживают параллельные версии взрослой жизни. Их миром управляют дети, маленькие деспоты, чьи нужды — школа, лагерь, хобби, репетиторы — диктуют каждое решение, и так будет продолжаться еще десять, пятнадцать, восемнадцать лет. Дети обеспечивают их взрослые годы постоянным и неотменяемым направлением, целью: они определяют, когда и на сколько ехать отдыхать; останутся ли свободные деньги, и если да, то как их потратить; они определяют каждый день, год, жизнь. Дети — это своего рода картография. Все что тебе остается, — следовать карте, которую они вручают тебе в день своего рождения.
Но у него и его друзей детей нет, и потому мир перед ними громоздится бесчисленными возможностями, буквально не давая прохода. Без детей статус взрослого никогда не может быть незыблемым, бездетный взрослый сам для себя создает взрослость, и как бы весело это ни было порой, это все же состояние постоянной зыбкости, постоянного сомнения. Во всяком случае для некоторых — например, для Малкольма, который недавно показывал ему список пунктов за и против детей, который они составили с Софи, примерно такой же, какой он составлял четыре года назад, когда решал, жениться или нет.
— Не знаю, Мэл, — сказал он, выслушав все пункты списка. — Кажется, что все причины иметь детей — потому, что так надо, а не потому, что ты их хочешь.
— Конечно, я считаю, что так надо, — сказал Малкольм. — Разве тебе никогда не кажется, что мы сами живем как дети, Джуд?
— Нет, — сказал он, и это была правда: его нынешняя жизнь была так далека от его детства, как это только возможно. — Это твой отец в тебе говорит, а не ты сам, Мэл. Твоя жизнь будет ничуть не менее ценной или оправданной, если у тебя не будет детей.
Малкольм вздохнул.
— Может быть, ты прав. — Он улыбнулся. — В смысле, я на самом деле не хочу детей.
Он улыбнулся в ответ:
— Что ж, всегда можно подождать. Может быть, в один прекрасный день ты усыновишь унылого тридцатилетнего оболтуса.
— Может быть, — снова сказал Малкольм. — В конце концов, как я слышал, кое-где это вошло в моду.
Алекс вдруг извиняется и уходит на кухню помочь Родсу, который зовет ее оттуда со все возрастающей настойчивостью и паникой — «Алекс. Алекс! Алекс!!!» — и он поворачивается к соседу справа, которого не помнит на других вечеринках Родса, это темноволосый мужчина со сломанным (вероятно) носом: нос сначала решительно стремится в одном направлении, после чего где-то посредине не менее решительно меняет его на противоположное.
— Калеб Портер.
— Джуд Сент-Фрэнсис.
— Дайте отгадаю: католик?
— И я отгадаю: не католик.
Калеб смеется:
— И будете правы.
Они разговаривают; оказывается, Калеб только что переехал в Нью-Йорк из Лондона, где провел последние десять лет в качестве президента дома моды, а теперь будет возглавлять «Ротко».
— Алекс очень любезно и внезапно пригласила меня вчера, и я подумал, — он пожимает плечами, — почему бы и нет? Хороший ужин в приятной компании против гостиничного номера, где я буду бессмысленно пялиться на описания недвижимости.
Из кухни доносится литавровый звон упавшего металла, Родс чертыхается. Калеб смотрит на него с улыбкой, поднимает брови.
— Не беспокойтесь, — говорит он. — Обычное дело.
Остаток вечера Родс пытается наладить общую беседу, но у него ничего не выходит — стол слишком широк, друзья недальновидно усажены рядом друг с другом, — так что он продолжает общаться с Калебом. Калебу сорок девять, он вырос в округе Марин, в Калифорнии, жил в Нью-Йорке, когда ему было чуть за тридцать. Он тоже закончил юридическую школу, но, по его словам, ничего из выученного ни разу не использовал в работе.
— Никогда? — переспрашивает он. Он всегда скептически относится к таким заявлениям, когда люди утверждают, что юридическая школа — пустая трата времени, ошибка длиной в три года. Хотя и понимает, что сам он необычайно сентиментален в этом отношении — ведь юридическая школа дала ему не только заработок, но и, во многом, саму жизнь.
Калеб задумывается.
— Нет, может быть, неправильно говорить «никогда», но не так, как можно было ожидать, — произносит он наконец. У него глубокий, осторожный, медленный голос, одновременно успокаивающий и таящий неясную угрозу. — В какой-то мере из всего этого мне пригодилось гражданское процессуальное право. У вас есть знакомые дизайнеры?
— Нет, — говорит он, — но у меня много друзей-художников.
— Ну вот, значит, вы знаете, что они совсем по-другому устроены — чем лучше художник, тем выше вероятность, что он совершенно не приспособлен к бизнесу. И это действительно так. За последние двадцать с чем-то лет я работал в пяти модных домах и с увлечением изучал модель их поведения — неспособность считаться со сроками, оставаться в рамках бюджета, управлять людьми, — которая повторяется настолько закономерно, что начинаешь задаваться вопросом, то ли это непременное условие получения работы, то ли сама работа располагает к такого рода пробелам в жизненных навыках. Так что в моем положении остается только выстраивать внутри компании систему управления, вынуждающую соблюдать правила под страхом наказания. Не знаю, как объяснить: им невозможно сказать, что поступать так-то и так-то хорошо для дела, для них это ничего не значит, для большинства во всяком случае, хотя они и будут уверять, что все понимают. Поэтому приходится устанавливать правила в их собственной маленькой вселенной и убеждать их, что, если они не будут следовать этим правилам, их вселенная развалится. Пока их удается держать в этом убеждении, они делают все, что тебе от них надо. Меня это сводит с ума.
— Тогда зачем же с ними работать?
— Потому что они настолько иначе думают. Безумно интересно за ними наблюдать. Иные из них буквально малограмотны, пишут записки, в которых предложения составлены кое-как. Но потом ты видишь, как они рисуют, или драпируют, или просто комбинируют цвета, и это… не знаю. Это чудо. Не могу объяснить иначе.
— Да, я знаю, как это бывает, — говорит он, думая о Ричарде, о Джей-Би, о Малкольме, о Виллеме. — Как будто тебе разрешили заглянуть в такое мышление, для которого ты даже языка не представляешь, куда там слово вставить.
— Именно, — соглашается Калеб и в первый раз улыбается ему.
Ужин заканчивается, все пьют кофе, и Калеб готовится встать из-за стола:
— Мне пора. Кажется, я все еще живу по лондонскому времени. Рад был познакомиться.
— Я тоже, — отзывается он. — С удовольствием побеседовал с вами. Удачи с установлением гражданского управления в «Ротко».
— Спасибо, удача мне понадобится. — И, уже вставая, он спрашивает: — Поужинаем как-нибудь вместе?
На мгновение его парализует страх. Но он тут же упрекает себя: что за глупости. Калеб только что вернулся в Нью-Йорк, он же сам знает, как трудно найти кого-то, с кем можно поговорить, найти новых друзей — в твое отсутствие все старые друзья обзавелись семьей, стали чужими. Он просто хочет поговорить.
— Конечно! — говорит он, и они обмениваются визитками.
— Не вставайте, — говорит Калеб, когда он начинает подниматься. — Я с вами свяжусь.
Он наблюдает как Калеб — он выше, чем казался, по крайней мере на пару дюймов выше его, с сильной спиной — прощается с Алекс и Родсом и уходит, не оглядываясь.
На другой день Калеб связывается с ним, они договариваются поужинать в четверг. Вечером он звонит Родсу поблагодарить за ужин и спрашивает его о Калебе.
— Неудобно вышло, я с ним даже не поговорил. Алекс пригласила его в последнюю минуту. Вот вечно она так, я ей говорю — зачем приглашать человека, который приехал руководить компанией, как раз когда она уходит?
— Значит, ты ничего о нем не знаешь?
— Ничего. Алекс говорит, у него хорошая репутация, в «Ротко» из кожи вон лезли, чтобы переманить его из Лондона. Это все что я знаю. А что? — Он почти видит, как Родс улыбается. — Неужели ты расширяешь бизнес не только в сторону блистательного мира ценных бумаг и фармакологии?
— Именно так, — говорит он. — Еще раз спасибо. И поблагодари от меня Алекс.
Настает четверг, и они с Калебом встречаются в идзакае, в Западном Челси. После того как они сделали заказ, Калеб говорит:
— Вы знаете, я весь тот вечер смотрел на вас и думал, откуда я вас знаю, а потом сообразил: картина Жан-Батиста Мариона. У художественного директора моей прошлой компании была картина — он даже пытался заставить фирму заплатить за нее, но это другая история. Там прекрасно схвачено ваше лицо: вы стоите на улице, за вашей спиной фонарь.
— Да, — отвечает он. Это уже случалось с ним неоднократно и всякий раз выбивало из колеи. — Я знаю, о какой картине вы говорите. Из третьей серии: «Секунды, минуты, часы, дни».
— Точно, — подтверждает Калеб и улыбается ему. — Вы близко дружите с Марионом?
— Сейчас уже не так. — Как всегда, ему больно в этом признаваться. — Но в колледже мы были соседями по общежитию, я знаю его много лет.
— Прекрасная серия, — говорит Калеб, и они обсуждают другие работы Джей-Би, и Ричарда, с чьим творчеством Калеб тоже знаком, и Желтого Генри Янга, и как мало в Лондоне приличных японских ресторанов; говорят о сестре Калеба, которая живет в Монако со вторым мужем и кучей детей, о родителях Калеба, которые оба умерли после долгой болезни, когда ему было чуть за тридцать, о доме в Бриджхэмптоне, который принадлежит приятелю Калеба по юридической школе и которым он сможет пользоваться этим летом, пока приятель в Лос-Анжелесе. Еще они довольно много говорят о компании «Розен Притчард» и о том, в каком финансовом хаосе оставил «Ротко» бывший директор, так что он утверждается в мысли, что Калеб ищет не только друга, но и юридическое сопровождение, и прикидывает, кому лучше всего это поручить внутри компании. Наверное, Эвелин, размышляет он: она из самых молодых партнеров, и в прошлом году они чуть ее не потеряли — ее как раз пытался переманить один модный дом, предлагал ей должность штатного юрисконсульта. Эвелин очень подойдет эта работа — она интересуется модной индустрией, прекрасный юрист, у нее отлично получится.
Он думает об этом, когда Калеб внезапно спрашивает его:
— У вас есть кто-нибудь? — И добавляет, смеясь: — Почему вы так на меня смотрите?
— Простите, — отвечает он в смятении, улыбаясь в ответ. — Нет, никого. Просто у меня только что был похожий разговор с одним другом.
— И что он сказал?
— Он сказал… — начинает он, но останавливается, смущенный и сбитый с толку этим внезапным изменением темы, тона. — Ничего.
Калеб улыбается, как будто живо представил себе эту беседу, но не настаивает. Он думает тем временем, как превратит этот вечер в историю, как расскажет ее Виллему, особенно последний обмен репликами. «Ты прав, Виллем», — скажет он. И если Виллем снова заведет тот разговор, он не будет сопротивляться, не станет на этот раз уклоняться от его вопросов.
Он расплачивается, и они выходят наружу, где идет дождь, не слишком сильно, но упорно, так что такси поблизости нет, а улица блестит как лакрица.
— Меня ждет машина, — говорит Калеб. — Подвезти вас?
— Если не трудно.
— Ничуть.
К тому времени, как машина подъезжает к Грин-стрит, на улице льет такой ливень, что ничего уже нельзя разглядеть из окон, только цвета, мазки желтых и красных огней, город низведен до автомобильных гудков, гулкого хлеста дождя по крыше машины, такого громкого, что они почти не слышат друг друга. Машина останавливается, и он уже собирается выйти, но Калеб велит ему подождать, у него есть с собой зонт, он проводит его до дверей. Прежде чем он успевает возразить, Калеб выскакивает, раскрывает зонт, и они вдвоем спешат под зонтом к подъезду, и вот дверь захлопывается за ними, оставляя их в темном вестибюле.
— Ну и катакомбы, — сухо замечает Калеб, бросая взгляд на голую лампочку, свисающую с потолка.
— Но им не откажешь в некотором шике — стиль «гибель империи», — смеется он, и Калеб тоже улыбается.
— В «Розен Притчард» знают, что вы живете в таком месте? — И, прежде чем он успевает ответить, Калеб наклоняется и целует его, очень крепко, прижав его голову к двери, а сам он оказывается в клетке из Калебовых рук.
В этот момент он отключается, все вокруг перестает существовать, весь мир, он сам. Прошло много-много времени с тех пор, как кто-то его целовал, и он помнит ощущение беспомощности, которое испытывал каждый раз, и как брат Лука говорил ему, открой рот, расслабься, ничего не делай, и теперь — в силу привычки и памяти, от невозможности поступить иначе — он именно так все и делает, ждет, когда это кончится, считает секунды, старается дышать через нос.
Наконец Калеб отступает назад и смотрит на него, и через несколько мгновений он отвечает на его взгляд. И тогда Калеб делает это снова, на сей раз держа его лицо в руках, и он ощущает то же, что всегда ощущал ребенком, когда его целовали, что его тело — не его, что каждое его движение предопределено, рефлекс за рефлексом, и он может только ничего не делать, только предоставить событиям идти своим чередом.
Калеб снова останавливается и отступает назад, глядя на него и поднимая брови, с тем же выражением, что тогда у Родса, ожидая какого-то ответа.
— Я думал, вы ищете юриста, — говорит он наконец, и звучит это так по-идиотски, что лицо его обдает жаром.
Но Калеб не смеется.
— Нет, — говорит он.
Снова наступает долгое молчание, и Калеб говорит:
— Ты не пригласишь меня к себе?
— Не знаю, — отвечает он, и вдруг ему отчаянно не хватает Виллема, хотя Виллему и не случалось помогать ему в подобного рода затруднениях, да и вряд ли он посчитал бы это затруднением, если на то пошло. Он привык быть осмотрительным и сдержанным, и пускай осмотрительность и осторожность не дают ему выделиться среди толпы, казаться интересным, интригующим, блестящим, но до сих пор эти качества защищали его, они сделали его взрослую жизнь свободной от грязи и мерзости. Однако иногда он думает: а вдруг этот кокон защищает его и от какой-то важной части того, что значит быть человеком; а вдруг он готов быть с кем-то. Может прошло достаточно времени, и теперь все будет иначе. Может, он ошибается, а Виллем прав, и этот путь не заказан ему навсегда. Может, он не так безобразен, как ему кажется. Может, он на это способен. Может, ему не причинят боли. Калеб кажется ему в этот момент джинном, воплотившимся из его худших кошмаров и самых смелых надежд, вброшенным в его жизнь для испытания. С одной стороны — весь его опыт, закономерности его существования, монотонные и знакомые, как звук капающей из крана воды; он одинок, но зато в безопасности, он защищен от всего, что может ранить. С другой стороны — волны, бури, водовороты, возбуждение: ничто не поддается контролю, все несет в себе ужас и восторг; там все, чего он избегал всю свою взрослую жизнь и без чего эта жизнь остается обескровленной и обесцвеченной. Внутри него зверек колеблется, приседает на задних лапах, трогает воздух передними, словно в поисках ответа.
Не делай этого, не обманывай себя, что бы ты ни говорил себе, ты знаешь, кто ты, говорит один голос.
Это твой шанс, говорит другой. Ты одинок. Надо попытаться. Он привык не слушаться этого голоса.
Больше такого случая не будет, добавляет голос, и это останавливает его.
Это плохо кончится, говорит первый голос, а потом оба голоса замолкают и ждут, что он решит.
Он не знает, что делать; он не знает, что будет. Придется это выяснить. Все, чему он научился в жизни, велит ему бежать; все, чего он желал, велит остаться. Ну, смелее, говорит он себе. Раз в жизни будь смелым.
И он смотрит в глаза Калебу:
— Пойдем.
И хотя он уже боится, но идет по узкому коридору к лифту как ни в чем не бывало, он слышит, как его нога волочится по цементу, слышит звук шагов Калеба, и как дождь хлещет по пожарной лестнице, и как бьется его собственное растревоженное сердце.
Год назад он возглавил команду адвокатов, которым поручили защищать гигантскую фармацевтическую компанию «Малграв и Баскетт»; там группа акционеров судилась с советом директоров, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, некомпетентности и пренебрежении фидуциарными обязанностями.
— Ишь ты, — саркастически сказал Люсьен. — С чего бы это?
Он вздохнул, сказал: «Ну да». Все знали, что «Малграв и Баскетт» — это катастрофа. За последние несколько лет, до того, как они обратились в «Розен Притчард», «Малграв и Баскетт» оказались вовлечены в два изобличительных процесса (один бывший сотрудник утверждал, что некий производственный цех опасно обветшал, второй — что другой цех выпускает загрязненную продукцию); получали повестки в суд в связи с расследованием сложной схемы откатов, в которой участвовала сеть домов престарелых; обвинялись в незаконном навязывании одного из своих самых популярных препаратов пациентам с болезнью Альцгеймера, при том что он был одобрен только для лечения шизофрении.
Поэтому он провел последние одиннадцать месяцев, опрашивая пятьдесят нынешних и бывших директоров и сотрудников «Малграв и Баскетт» и составляя отчет с детальным опровержением иска. В команде у него было пятнадцать человек; как-то ночью он услышал, что кто-то из них называет компанию «Удав и Бастард».
«Только попробуйте ляпнуть что-нибудь такое при клиенте», — строго сказал он им. Было поздно, два часа ночи; он понимал, что все устали. Будь он Люсьеном, он бы на них наорал, но он и сам устал. На прошлой неделе молодая женщина из числа его подчиненных встала из-за стола в три часа ночи, огляделась по сторонам и рухнула на пол. Он вызвал скорую и распустил всех по домам с требованием вернуться к девяти утра; сам задержался еще на час и тоже отправился домой.
— Ты распустил их по домам, а сам остался? — спросил на следующий день Люсьен. — Размяк ты, Сент-Фрэнсис, как я погляжу. Слава богу, ты на процессе такого себе не позволяешь, а то бы мы далеко не ушли. Представь себе, что будет, если юристы истца узнают, с какой тряпкой они имеют дело.
— Я правильно понимаю, что фирма не собирается послать цветы бедной Эмме Герш?
— Да мы уже все послали, — сказал Люсьен, вставая и направляясь к выходу из его кабинета. — «Эмма, выздоравливай, возвращайся поскорее. Или пеняй на себя. Твоя любящая семья в „Розен Притчард“».
Он любил судебные процессы, любил прения и речи в зале суда — их всегда оказывалось меньше, чем хочется, — но в случае с «Малграв и Баскетт» он добивался того, чтобы судья выбросил дело на помойку, прежде чем оно войдет в мучительную, изматывающую, многолетнюю стадию расследования и предоставления доказательств. Он написал ходатайство об отклонении иска, и в начале сентября судья окружного суда отклонил иск.
— Я тобой горжусь, — говорит в тот вечер Люсьен. — «Удав и Бастард» понятия не имеют, как им повезло; иск был крепче некуда.
— Да похоже, «Удав и Бастард» много о чем понятия не имеют, — отвечает он.
— Верно. Но, как видишь, можно быть полными придурками, если хватает ума нанять правильных юристов. — Он встает. — Ты на уикенд куда-нибудь едешь?
— Нет.
— Ну найди способ расслабиться. Пройдись. Поешь. Видок у тебя так себе.
— Всего доброго, Люсьен!
— Понял, понял. Всего доброго. И поздравляю, серьезно. Большое дело.
Он остается в офисе еще на два часа, разбирает и сортирует бумаги, пытается справиться с упорно разрастающимися наносами. В таких обстоятельствах он не чувствует ни облегчения, ни радости от победы: всего лишь усталость, но приятную, заслуженную усталость, как будто после целого дня физической работы. Одиннадцать месяцев: опросы свидетелей, изыскания, снова опросы, проверка фактов, написание и переписывание текстов — и потом в одно мгновение все кончается, и новое дело займет освободившееся место.
Наконец он идет домой, где внезапно чувствует себя таким измотанным, что по пути в спальню опускается на диван и просыпается час спустя, взъерошенный, с пересохшим ртом. Почти ни с кем из друзей он не виделся и не разговаривал в последние несколько месяцев, даже разговоры с Виллемом были короче обычного. Отчасти тому виной «Удав и Бастард», невероятный объем работы, которой потребовал этот иск; но отчасти дело в непроходящей растерянности по поводу Калеба, о котором он так ничего и не сказал Виллему. В этот уикенд, впрочем, Калеб в Бриджхэмптоне, и он рад, что может побыть один.
Он до сих пор не понимает, как относится к Калебу, хотя прошло уже три месяца. Он не вполне уверен даже, что нравится Калебу. Точнее, он знает, что тому нравится с ним разговаривать, но время от времени он ловит взгляд Калеба, в котором читается что-то вроде отвращения. «Ты очень красивый, — сказал как-то Калеб с оттенком замешательства, взяв его рукой за подбородок и разворачивая лицом к себе, — но…» И хотя Калеб не стал продолжать, он почувствовал, что тот хотел сказать: но что-то не так. Но что-то в тебе есть отталкивающее. Но я не могу понять, почему ты мне не нравишься.
Он знает, например, что Калеб не выносит его походку. Через несколько недель после того, как они начали встречаться, Калеб сидел на диване, а он пошел взять бутылку вина и, возвращаясь, поймал на себе такой пристальный взгляд Калеба, что занервничал. Он разлил вино по бокалам, они выпили, и потом Калеб сказал:
— Знаешь, когда мы познакомились, ты сидел, так что я не знал, что ты хромаешь.
— Действительно, — сказал он, напоминая себе, что не обязан извиняться: он не вводил Калеба в заблуждение, не намеревался его обмануть. Он набрал воздуха, попытался говорить небрежно, с легким любопытством. — А если бы знал, не захотел бы со мной встречаться?
— Не знаю, — сказал Калеб, помолчав. — Не знаю.
Тогда ему захотелось исчезнуть, захотелось закрыть глаза и отмотать время назад, ко времени до встречи с Калебом. Он бы отклонил приглашение Родса, жил бы и дальше своей маленькой жизнью; он не знал бы ничего другого.
Его походку Калеб не выносит, но его инвалидное кресло просто не может терпеть. Когда Калеб впервые пришел к нему днем, он провел его по квартире. Он гордился этой квартирой, радовался каждому дню, проведенному в ней, и до сих пор не верил, что она принадлежит ему. Малкольм оставил комнаты Виллема — так они это называли — на прежнем месте, но расширил их и пристроил с северной стороны, рядом с лифтом, кабинет. А дальше открывалось обширное пространство с роялем, гостиная с окнами на юг и стол, который Малкольм разместил на северной стороне, где не было окон, и за ним — книжный шкаф, занимавший всю стену, вплоть до кухни, где висели работы его друзей и друзей друзей и другие картины, которые он покупал на протяжении многих лет. Вся восточная часть квартиры была его вотчиной: из спальни на северной стороне можно было через гардеробную пройти в ванную, где окна выходили на восток и на юг. Хотя он обычно держал жалюзи закрытыми, их можно было открыть все одновременно, и тогда пространство превращалось в прямоугольник чистого света, и пелена между тобой и внешним миром волшебно истончалась. Ему часто кажется, что эта квартира лжет: она притворяется, что ее обитатель — открытый, жизнелюбивый, откровенный человек, а он, конечно, не такой. Квартира на Лиспенард-стрит с ее полутемными закутками, мрачными закоулками, стенами, перекрашенными столько раз, что на них можно было прощупать бугорки и волдыри на месте замурованных в слоях краски жучков и мушек, гораздо точнее отражала его суть.
К приходу Калеба он наполнил пространство солнечными лучами, и Калеб был явно впечатлен. Они медленно прошли по квартире, Калеб рассматривал картины и задавал вопросы — где он их взял, кто их написал, отмечал знакомых художников.
А потом они вошли в спальню, и он показал Калебу картину в дальнем конце комнаты — на ней был изображен Виллем, сидящий в гримерке, он купил ее после закрытия «Секунд, минут, часов, дней», — и тут Калеб спросил:
— Это чье кресло?
Он проследил за его взглядом и ответил не сразу:
— Мое.
— Но зачем оно? — спросил Калеб с несколько растерянным видом. — Ты же ходишь.
Он не знал, что сказать.
— Иногда мне нужно кресло, — сказал он. — Редко. Я не часто им пользуюсь.
— Хорошо, — сказал Калеб. — Смотри, пусть так и будет.
Он встревожился. Что это было, забота или угроза? Но прежде чем он смог разобраться, что ему чувствовать и как ответить, Калеб развернулся и направился в сторону гардеробной, и осмотр продолжился.
Спустя месяц он договорился встретиться с Калебом поздно вечером возле его офиса на далекой западной окраине Митпэкинга. Калеб тоже работал допоздна; был июль, через два месяца «Ротко» представляла весеннюю коллекцию. В тот день он был за рулем, но вечер выдался сухой и теплый, поэтому он вылез из машины и сидел в своем кресле под фонарем. Калеб спустился не один; он знал, что Калеб его заметил, — он поднял руку при его появлении, и Калеб ответил едва заметным кивком; они оба были не склонны к бурным проявлениям эмоций. Он дождался, пока Калеб закончил свой разговор, а его собеседник повернулся и зашагал на восток.