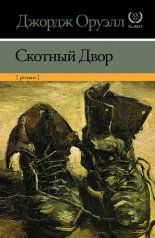Маленькая жизнь Янагихара Ханья

— Мне это нужно, — сказал он.
— Скажи мне, что ты с этим делаешь, — сказал я, глядя на него.
Он посмотрел вниз, на миску с картошкой.
— Иногда мне нужно резать себя, — сказал он наконец. — Гарольд, прости.
И я вдруг запаниковал, и паника отняла у меня способность мыслить рационально.
— Что это вообще значит?! — спросил я. Может быть, даже прокричал.
Он пятился, отступал к раковине, как будто ждал, что я брошусь на него, и хотел создать себе пространство для маневра.
— Не знаю, — сказал он. — Прости, Гарольд.
— Иногда — это как? — спросил я.
Его тоже охватила паника, я это видел.
— Не знаю, — сказал он. — По-разному.
— Ну примерно. В среднем.
— Не знаю, — с отчаянием сказал он. — Не знаю. Ну несколько раз в неделю, наверное.
— Несколько раз в неделю! — выдохнул я и осекся. Внезапно я понял, что не могу больше здесь оставаться. Я взял свое пальто со стула и запихнул пакет во внутренний карман.
— Чтоб был здесь, когда я вернусь, — сказал я ему и ушел.
(Он сбегал иногда: когда он думал, что Джулия или я им недовольны, он старался как можно скорее пропасть с глаз долой, как будто он неприятный предмет, который нужно убрать.)
Я пошел вниз, к пляжу, и зашагал через дюны, кипя гневом, который приходит от острого осознания собственной несостоятельности, от жгучего чувства вины.
Я впервые понял: как в нем уживались рядом с нами два разных человека, так и в каждом из нас рядом с ним уживались два разных человека — мы видели в нем то, что нам хотелось, и позволяли себе не видеть всего остального. Мы были плохо к этому подготовлены. Большинство людей устроены просто: их беды — это и наши беды, их тревоги понятны, их вспышки ненависти к себе преходящи и обсуждаемы. Но с ним все было не так. Мы не знали, как ему помочь, потому что у нас не хватало воображения, чтобы распознать его проблемы. Но все это — самооправдание.
Когда я вернулся в дом, уже почти стемнело, и я видел его силуэт в кухонном окне. Я присел на крыльце, жалея, что Джулии нет рядом, что она уехала в Англию навестить отца.
Задняя дверь открылась.
— Ужин готов, — тихо сказал он, и я встал и вошел.
Он приготовил все, что я люблю: сварил сибаса, которого я купил накануне, запек картошку так, как я люблю, с горой чабреца и моркови, приготовил капустный салат, а к нему наверняка сделал мой любимый горчичный соус. Но мне ничего этого не хотелось. Он подал тарелку мне, потом себе и сел.
— Выглядит потрясающе, — сказал я. — Спасибо тебе.
Он кивнул. Мы оба уставились в тарелки, на превосходную еду, которую ни одному из нас не хотелось есть.
— Джуд, — сказал я, — я должен извиниться. Прости, не следовало мне вот так убегать.
— Ничего страшного, — сказал он. — Я понимаю.
— Нет, — сказал я ему. — Это было некрасиво. Я просто очень расстроился.
Он опустил взгляд.
— Ты понимаешь, почему я расстроился?
— Потому что, — сказал он, — потому что я принес это в твой дом.
— Нет, — сказал я. — Не поэтому. Джуд, этот дом не только мой, не только наш с Джулией, он и твой тоже. Я хочу, чтобы ты понимал — ты можешь приносить сюда все, что у тебя есть в собственном доме. Я расстроился, потому что ты так ужасно с собой обращаешься. — Он не поднимал глаз. — Твои друзья знают, что ты это делаешь? Энди знает?
Он едва заметно кивнул.
— Виллем знает, — сказал он. — И Энди.
— И что Энди про это говорит? — спросил я, думая: ну елки, Энди.
— Он говорит… говорит, что мне нужно пойти к терапевту.
— Ты ходил?
Он помотал головой, и я почувствовал, что во мне опять поднимается волна гнева.
— Почему? — спросил я, но он ничего не ответил. — В Кеймбридже есть такой пакет? — спросил я, и, помолчав, он посмотрел на меня и снова кивнул.
— Джуд, — сказал я, — зачем ты это с собой делаешь?
Он долго ничего не говорил, и я ничего не говорил тоже. Я прислушивался к шуму прибоя. Наконец он сказал:
— По ряду причин.
— Например?
— Иногда я чувствую себя ужасно, или мне стыдно, и мне нужно перевести свои чувства в физические ощущения, — начал он и бросил на меня взгляд, прежде чем снова опустить глаза. — А иногда я чувствую слишком много всего сразу, и мне хочется не чувствовать ничего, совсем ничего — это помогает избавиться от таких ощущений. А иногда — потому что я чувствую себя счастливым и надо напомнить себе, что нельзя.
— Почему? — спросил я его, когда снова обрел дар речи, но он только помотал головой и не ответил, и я тоже умолк.
Он втянул воздух.
— Послушай, — вдруг сказал он с решимостью, глядя прямо на меня. — Если ты хочешь отменить усыновление, я пойму.
Я был так ошеломлен, что разозлился — такая мысль мне и близко не приходила в голову. Я собирался что-то рявкнуть в ответ, но тут посмотрел на него, увидел, как он храбрится, и понял, что он страшно напуган. Он в самом деле считал, что я могу так поступить. Он в самом деле понял бы, если бы я сказал: да, хочу. Он этого ожидал. Позже я осознал, что после усыновления он еще несколько лет гадал, надолго ли это, гадал, что такого он сделает в конце концов, из-за чего я от него откажусь.
— Никогда в жизни, — сказал я со всей твердостью, какую мог выразить.
В тот вечер я пытался поговорить с ним. Я видел, что ему стыдно, но он искренне не понимает, почему я так разволновался, почему это так расстраивало тебя, меня, Энди.
— Это не смертельно, — повторял он, как будто именно в этом было все дело. — Я умею это контролировать.
Он отказывался пойти к психологу, но не мог сказать мне почему. Эта привычка была ему в тягость, это было очевидно, но жизни без этого он тоже не мог себе представить.
— Мне это нужно, — повторял он. — Мне это нужно. От этого все становится на свои места.
— Но ведь явно было время в твоей жизни, когда ты этого не делал? — сказал я ему, и он помотал головой.
— Мне это нужно, — повторил он. — Это мне помогает, Гарольд, поверь мне, поверь.
— Зачем тебе это нужно? — спросил я.
Он опять помотал головой и сказал:
— Помогает мне держать жизнь под контролем.
В конце концов мне уже нечего было добавить.
— Я это не отдам, — сказал я, тряхнув пакетом; он поморщился и кивнул. — Джуд, — сказал я, и он посмотрел на меня. — Если я его выброшу, ты сделаешь новый?
Он затих и потом, глядя в тарелку, сказал:
— Да.
Я, конечно, все равно все выбросил, запихнул глубоко в мешок для мусора и отнес в контейнер в конце подъездной дороги. Мы молча убрали посуду — мы оба вымотались и так ничего и не съели, — и потом он отправился в свою спальню, а я в свою. Я тогда еще старался оберегать его личное пространство, не то я бы его схватил и обнял и так держал; но я этого не сделал.
Но, лежа в постели, я не мог заснуть и представлял себе его, представлял, как его длинные пальцы хотят почувствовать лезвие бритвы, и в конце концов я спустился вниз, на кухню. Я вынул из ящика под духовкой здоровую металлическую миску и принялся складывать в нее все острые предметы, какие мог найти: ножи, ножницы, штопоры, щипцы для омаров. А потом я взял ее с собой в гостиную и устроился в кресле, сжимая миску обеими руками и глядя на океан.
Я проснулся от шума. Паркет на кухне был скрипучим, и я сидел в темноте, стараясь не издавать никаких звуков и прислушиваясь к его походке — характерному мягкому шлепку левой ступни, а за ним шарканию правой, — а потом я услышал, как ящик открывается и через несколько секунд закрывается. Потом еще один ящик, и еще один, пока он не открыл и не закрыл каждый ящик, каждый шкафчик. Он не включал свет — ночь была лунная, — и я представлял, как он стоит в новом, затупленном мире этой кухни и понимает, что я отнял у него все, даже вилки. Я сидел, затаив дыхание, и прислушивался к тишине на кухне. На секунду мне даже показалось, что мы разговариваем, разговариваем, не слыша и не видя друг друга. А потом наконец я услышал, как он поворачивается и уходит обратно в спальню.
Когда на следующий день я вернулся домой, в Кеймбридж, я пошел в его ванную и нашел еще один пакет, такой же, как в Труро, и выкинул его. Но с тех пор я никогда не находил таких пакетов ни в Кеймбридже, ни в Труро. Видимо, он придумал для них какой-то другой тайник, который я так и не обнаружил, потому что возить их туда-сюда в самолете он бы не смог. Но когда я бывал на Грин-стрит, я всегда старался проникнуть в его ванную. Там он держал пакет в прежнем тайнике, и я каждый раз его воровал, запихивал в карман и потом выбрасывал. Он, конечно, знал, что это моих рук дело, но мы это никогда не обсуждали. Пакет каждый раз появлялся снова. Пока он не выяснил, что от тебя его тоже надо прятать, не было ни одного раза, чтобы моя проверка не принесла плодов. Но я продолжал проверять — каждый раз, когда я оказывался в квартире, и позже, в загородном доме или в лондонской квартире, я шел в ванную и искал этот пакет. Я больше не мог его найти. Ванные, спроектированные Малкольмом, были такие простые, такие прямолинейные, и все-таки в них он умудрялся находить тайники, которые мне уже так и не удавалось отыскать.
На протяжении многих лет я пытался с ним об этом поговорить. Когда я нашел тот первый пакет, я на следующий же день позвонил Энди и стал на него орать, и Энди меня не осадил, что было совсем не в его духе.
— Я понимаю, — сказал он, — я понимаю. — И потом: — Гарольд, это не риторический вопрос и не саркастический: что мне делать?
И конечно, я не знал, что ему ответить.
Тебе удалось продвинуться с ним дальше всех. Но я знаю, что ты себя винил. Я тоже себя винил. Ладно бы я просто принял это — нет, я закрывал на это глаза. Я как будто решил забыть, что он это делает, потому что искать выход было слишком сложно, потому что я хотел радоваться тому человеку, которым он хотел нам казаться, хотя и знал, что все не так просто. Я сказал себе, что оберегаю его чувство собственного достоинства, но при этом эгоистично забывал, что бесчисленными ночами он приносит свое достоинство в жертву. Я его укорял и урезонивал, прекрасно зная, что такие методы не работают, но все равно не делая ничего другого — ничего более решительного, ничего, что могло бы воздвигнуть барьер между нами. Я знал, что веду себя как трус, потому что я не сказал Джулии про тот пакет, не сказал ей, что я узнал про него в ту ночь в Труро. Она потом узнала сама, и я редко видел ее в таком гневе. «Как ты мог это позволить? — спросила она меня. — Как ты мог позволить, чтобы это тянулось столько лет?» Она не сказала, что это моя прямая вина, но я знал, что она так считает. А как еще? Я сам так считал.
И вот теперь я стоял в его квартире, где несколько часов назад, когда я лежал без сна, его избивали. Я сел на диван, сжимая телефон в руке, и стал ждать, что Энди позвонит и скажет, что я могу его забрать, могу начать о нем заботиться. Я открыл окно напротив дивана, снова сел и уставился в стальное небо, пока облака не стали смазываться в одно, пока я не перестал видеть что-либо, кроме клубов серого тумана, в которых день медленно сливался с ночью.
Энди позвонил в шесть вечера, спустя девять часов после того, как я его отвез в клинику, и встретил меня у дверей.
— Он в смотровой, спит, — сказал он. Потом добавил: — Сломано левое запястье и четыре ребра, но, слава богу, кости ног целы. Сотрясения мозга тоже нет, слава богу. Трещина в копчиковой кости. Вывих плечевого сустава, я вправил. Синяки по всей спине и туловищу — его явно пинали. Но внутреннего кровотечения нет. С лицом все не так страшно, как кажется: глаза и нос в порядке, переломов нет, на гематомы я накладывал лед, и ты тоже накладывай — регулярно. Раны на ногах — вот о чем я беспокоюсь. Я выписал тебе рецепт на антибиотики, начнем с малой дозы, профилактически, но если он вдруг скажет, что ему становится жарко или холодно, дай мне знать немедленно — нам только инфекции там не хватало. Спина у него вся содрана…
— В каком смысле «содрана»? — спросил я.
Энди раздраженно фыркнул.
— Изодрана, — сказал он. — Его хлестали, видимо, ремнем, он отказывается мне сказать. Я все перевязал, но вот тебе мазь с антибиотиком, раны надо обрабатывать и менять повязки начиная с завтрашнего дня. Он будет сопротивляться, но, блин, там все хреново. Вот, я написал подробные указания.
Он протянул мне пластиковый пакет. Я заглянул внутрь: пузырьки с таблетками, связки бинтов, тюбики крема.
— Вот это, — сказал Энди, доставая что-то из пакета, — обезболивающее, а он такое терпеть не может. Но придется; заставь его принимать по таблетке каждые двенадцать часов, один раз утром, один раз вечером. От них будет кружиться голова, так что не выпускай его никуда одного, и пусть ничего не поднимает. Еще от них тошнит, но ты должен проследить, чтобы он ел: что-то простое, типа риса и бульона. Пусть он по возможности пользуется креслом; но ему сейчас вряд ли захочется много передвигаться. Я позвонил его стоматологу и записал его в понедельник на девять; он потерял несколько зубов. Главное — чтобы он спал как можно больше; я заскочу завтра днем и буду заходить на неделе каждый вечер. Не позволяй ему идти на работу — хотя я думаю, он и сам не захочет.
Он замолчал так же резко, как и заговорил, и мы некоторое время стояли молча.
— Поверить не могу, — наконец сказал Энди. — Вот же сволочь. Хочу найти этого уебка и придушить своими руками.
— Да-да, — сказал я, — и я.
Он покачал головой.
— Он не разрешает мне подать заявление, — сказал он. — Я уж просил-умолял.
— Да-да, — сказал я, — и я.
Я снова вздрогнул, когда увидел его, а он отрицательно помотал головой, когда я попытался помочь ему сесть в кресло, так что мы с Энди просто стояли и смотрели, как он опускается на сиденье — все в той же одежде, на которой кровь застыла ржавыми очертаниями континентов.
— Спасибо, Энди, — сказал он очень тихо. — Прости.
И Энди молча положил ладонь ему на затылок.
Когда мы добрались до Грин-стрит, уже стемнело. Инвалидное кресло у него, как ты знаешь, легкое, элегантное, из тех, которые так агрессивно защищают самодостаточность хозяина, что у него даже нет ручек — подразумевается, что человек в таком кресле никогда не опустится до того, чтобы его кто-то толкал. Приходилось хвататься за очень низкую спинку и так везти. Я остановился на пороге, зажег свет, мы оба заморгали.
— Ты все убрал, — сказал он.
— Ну да, — сказал я. — Боюсь, не так тщательно, как ты.
— Спасибо, — сказал он.
— Не за что, — ответил я. Мы помолчали. — Давай я тебе помогу переодеться, а потом ты что-нибудь съешь?
Он покачал головой:
— Не надо, спасибо. Я не голоден. И я сам справлюсь. — Он держался суховато, сдержанно: человек, которого я мельком видел, исчез, он снова был заключен в своем лабиринте, в своем дальнем погребе. Он всегда был вежлив, но защищаясь или утверждая свою независимость — вдвойне: вежлив и слегка отстранен, как антрополог в диком и опасном племени, который тщательно старается не вникать слишком глубоко в местные порядки.
Я украдкой вздохнул и отвез его в спальню; сказал, что я тут, и если буду нужен, пусть сразу зовет, и он кивнул. Я сел на полу возле закрытой двери и ждал: я слышал, как он открывает и закрывает краны, слышал его шаги, и потом долго ничего не было слышно, пока под ним не скрипнула кровать.
Когда я зашел, он уже залез под одеяло, и я присел рядом, на краешке кровати.
— Ты точно ничего не съешь? — спросил я.
— Точно, — сказал он и через мгновение посмотрел на меня. Теперь он мог приоткрыть глаза, и на фоне белья его лицо выделялось глинистым, черноземным цветом камуфляжа: тропическая зелень глаз, каштановые и золотистые пряди волос, лицо не такое синее, как утром, а цвета темной, мерцающей бронзы.
— Гарольд, пожалуйста, прости, — сказал он. — Прости, что я наорал на тебя вчера вечером, прости, что впутываю тебя во все эти проблемы. Прости, что…
— Джуд, — перебил я его, — ты не должен просить прощения. Это ты меня прости. Как бы мне хотелось как-то помочь тебе.
Он закрыл глаза, снова открыл, посмотрел в сторону.
— Мне ужасно стыдно, — тихо сказал он.
Тогда я погладил его по волосам, и он не отдернулся.
— Тебе нечего стыдиться, — сказал я. — Ты не сделал ничего плохого.
Мне хотелось плакать, но мне казалось, что он сам может заплакать, и поэтому я постарался сдержаться.
— Ты ведь это знаешь, правда? — спросил я его. — Ты знаешь, что это не твоя вина, что ты этого не заслуживаешь?
Он ничего не говорил, поэтому я не отставал, пока он не кивнул — едва заметно.
— Ты ведь знаешь, что этот тип — последняя мразь, да? — спросил я, и он отвернулся. — Ты знаешь, что ты не виноват, правда? — спросил я его. — Ты знаешь, что это ничего не говорит о тебе, о том, чего ты стоишь?
— Гарольд, — сказал он, — не надо. — И я замолчал, хотя вообще-то надо было продолжать.
Некоторое время мы оба ничего не говорили.
— Можно у тебя кое-что спросить? — сказал я, и через секунду-другую он снова кивнул. Я даже не знал, что собираюсь спрашивать, пока не услышал собственные слова, не знаю, откуда оно взялось, разве что, наверное, я всегда это знал и никогда не хотел уточнять, потому что боялся ответа: я знал, каким он будет, и не хотел его слышать.
— Ты в детстве подвергся сексуальному насилию?
Я не столько увидел, сколько почувствовал, как он напрягся и по его телу — и по моей ладони — прошла дрожь. Он по-прежнему не смотрел на меня и теперь повернулся на левый бок и положил забинтованную руку на подушку рядом.
— Господи, Гарольд, — сказал он наконец.
Я убрал руку.
— Сколько тебе было?
После паузы он глубже уткнулся лицом в подушку.
— Гарольд, — сказал он, — я ужасно устал. Мне надо поспать.
Я положил руку ему на плечо; плечо дернулось, но я не убрал ладонь. Я чувствовал, как напряглись его мышцы, чувствовал дрожь, бегущую по его телу.
— Тебе нечего стыдиться, — сказал я ему. — Ты не виноват, Джуд, ты понимаешь?
Но он притворился, что спит, хотя я по-прежнему чувствовал дрожь, чувствовал, как тревожно напряглось все его тело.
Я еще немного посидел с ним, и он был все такой же застывший. Потом я вышел и закрыл за собой дверь.
Я остался с ним до конца недели. Ты позвонил ему в тот вечер, и я подходил к телефону и врал тебе, говорил что-то дурацкое про аварию, слышал беспокойство в твоем голосе и страшно хотел рассказать правду. На следующий день ты позвонил снова, а я стоял за дверью, пока он тоже врал тебе:
— Попал в аварию. Нет. Ничего серьезного. Что? Я был у Ричарда за городом на выходных. Задремал и въехал в дерево. Не знаю, устал, наверное, заработался. Нет, из проката. Моя в мастерской. Ничего страшного. Да, все будет в порядке. Ну ты же знаешь Гарольда, он паникер. Честное слово. Клянусь. Нет, он в Риме, вернется через месяц с чем-то. Виллем, честное слово. Все хорошо. Да. Конечно. Обязательно. Обещаю. И тебе. Пока.
По большей части он был мягок и сговорчив. Ел свой суп каждое утро, принимал таблетки. Они вгоняли его в апатию. Каждое утро он работал у себя в кабинете, но к одиннадцати засыпал на кушетке. Он просыпал обед, спал весь день, я будил его только к ужину. Ты звонил ему каждый вечер. Джулия тоже звонила; я всегда пытался подслушать, но из их разговоров мне удавалось понять только, что он в основном молчал, то есть Джулия, стало быть, много говорила. Малкольм заходил несколько раз, и оба Генри Янга, и Илайджа, и Родс. Джей-Би прислал рисунок с ирисом; я не видел, чтобы он когда-нибудь раньше рисовал цветы. Он не позволял мне, как и предсказывал Энди, менять повязки на ногах и на спине, он не показывал мне спину, как бы я его ни умолял, как бы ни кричал на него. Энди он позволял это делать, и я слышал, как Энди говорит:
— Тебе надо приезжать ко мне в клинику через день, чтобы я все это менял. Я не шучу.
— Понял, — огрызнулся он.
Люсьен зашел его навестить, но он спал у себя в кабинете.
— Не буди его, — сказал Люсьен, заглянул в кабинет и произнес: — Господи боже.
Мы поговорили немного, и он рассказал, как им восхищаются на работе; слушать такое про своего ребенка не надоедает никогда — когда ему четыре года и он в детском саду лучше всех лепит фигурки из глины или когда ему сорок и в юридической фирме, набитой гарвардскими выпускниками, он лучше всех защищает коррумпированных дельцов.
— Я бы сказал, что ты должен им гордиться, но, боюсь, я слишком хорошо знаю твои политические взгляды, — с ухмылкой сказал Люсьен.
Я видел, что он очень привязан к Джуду, и испытал укол ревности, а потом — укол совести за собственную жадность.
— Нет-нет, — сказал я, — конечно я им горжусь.
Мне в тот момент стало стыдно, что столько лет я ругал его за работу в «Розен Притчард», единственном месте, где он чувствовал себя в безопасности, где жить ему было легко, куда его страхам, его неуверенности в себе не было доступа.
В следующий понедельник, накануне моего отъезда, он выглядел получше: щеки были горчичного цвета, но отек спал, и лицо снова приобрело нормальные очертания. Ему было чуть легче дышать, чуть легче разговаривать, и голос его меньше прерывался, был похож на обычный. Энди разрешил ему вдвое урезать утреннюю дозу анальгетика, и он был уже не такой вялый, хотя не то чтобы вполне ожил. Мы сыграли партию в шахматы, он выиграл.
— Я вернусь в четверг вечером, — сказал я ему за ужином.
В том семестре я преподавал только по вторникам, средам и четвергам.
— Нет, — сказал он, — не надо. Спасибо, Гарольд, но я обойдусь, правда.
— Я уже купил билет, — сказал я. — И вообще, Джуд, ты не обязан все время отказываться. Помнишь, что мы говорили про принятие?
Он на это не ответил.
Что мне еще тебе сказать? В ту среду он пошел на работу, хотя Энди рекомендовал оставаться дома до конца недели. И, несмотря на его сопротивление, Энди приходил каждый вечер, чтобы поменять повязки и осмотреть его ноги. Вернулась Джулия, и каждые выходные в октябре кто-то из нас ездил в Нью-Йорк и останавливался у него на Грин-стрит. В остальные дни у него ночевал Малкольм. Я видел, что он от этого не в восторге, но мы все решили, что в данном случае нам все равно, в восторге он или нет.
Он поправился. Раны на ногах не воспалились, на спине тоже. Энди все время повторял, что ему повезло. Он постепенно набрал вес. Когда ты вернулся домой, в начале ноября, он почти вылечился. К Дню благодарения, который мы в том году справляли в нью-йоркской квартире, чтобы ему не надо было никуда ехать, с него сняли гипс, он снова мог ходить. Я внимательно наблюдал за ним в тот вечер, смотрел, как он болтает с Лоренсом и смеется с его дочерью, но не мог выкинуть из головы его лицо в тот вечер, когда Калеб схватил его за руку, не мог забыть выражение боли, стыда и страха на этом лице. Я вспомнил тот день, когда узнал, что он иногда пользуется инвалидным креслом; это случилось вскоре после злосчастного случая с пакетом в Труро, я приехал в Нью-Йорк на конференцию, он заехал в ресторан на кресле, и я обомлел.
— Почему ты мне никогда не говорил об этом? — спросил я, и он изобразил удивление, мол, наверняка говорил.
— Нет, — настаивал я, — не говорил.
И в конце концов он признался, что не хотел казаться слабым и беспомощным в моих глазах.
— Мне бы в голову не пришло так думать, — сказал я ему, и хотя это, мне кажется, была правда, я все-таки стал думать о нем несколько по-другому; кресло напомнило мне, что из всей его жизни мне известна только крошечная доля.
Иногда казалось, что та неделя осталась с нами наваждением, которое видели только Энди и я. В течение следующих нескольких месяцев кто-нибудь время от времени шутил — про его стиль вождения, про его надежды на участие в Уимблдонском турнире, — и он смеялся в ответ, говорил что-нибудь самоуничижительное. В такие минуты он не мог посмотреть мне в глаза; я невольно напоминал ему о том, что произошло на самом деле, о том, что он считал своим падением.
Но позже мне пришлось признать, что этот случай многое у него отнял, изменил его — превратил то ли в кого-то другого, то ли в того, кем он некогда был. Я осознал, что незадолго до Калеба он был благополучнее прежнего: позволял мне обнимать его при встрече, и когда я прикасался к нему — обхватывал рукой, проходя мимо него на кухне, — он не сопротивлялся, его рука продолжала шинковать морковь с прежней сосредоточенностью. На это понадобилось двадцать лет. Но после Калеба наступил регресс. В День благодарения я подошел к нему, хотел обнять, но он быстро шагнул влево — крошечный шаг, но достаточный, чтобы мои руки сомкнулись вокруг пустоты, и в следующую секунду мы посмотрели друг на друга, и я понял: что мне позволялось всего несколько месяцев назад, больше не позволено. Я понимал, что он решил принять правоту Калеба: он отвратителен, он по какой-то причине заслуживает всего, что с ним случилось. И вот хуже этого, мучительнее этого ничего не было. Он решил поверить Калебу, а не нам, потому что Калеб подтвердил то, что он всегда думал, чему его всегда учили, а верить в прежние истины всегда проще, чем изменить свои взгляды.
Позже, когда дела пошли плохо, я спрашивал себя: что я мог бы сказать, что мог бы сделать? Иногда я думал, что говорить было бесполезно — какие-то вещи могли бы помочь, но, сколько бы мы их ни повторяли, убедить его не удавалось. Меня все еще посещали мрачные фантазии: пистолет, мы в засаде, дом пятьдесят, Западная Двадцать девятая, квартира 17-Г. Но на этот раз мы бы не стали стрелять. Мы схватили бы Калеба Портера под руки, запихнули в машину, отвезли на Грин-стрит, затащили наверх. Мы сказали бы ему, что говорить, предупредили, что будем стоять за дверью, в лифте, курок будет взведен, дуло направлено ему в спину. И из-за двери мы бы слушали, как он повторяет: я наговорил глупостей. Я был неправ. То, что я сделал, а главное — то, что сказал, все это предназначалось для другого человека. Поверь мне, ты ведь верил мне раньше: ты красив, ты совершенен, все, что я говорил, говорилось не всерьез. Я был неправ, я ошибался, это была дикая, невозможная, чудовищная ошибка.
3
Каждый день, в четыре часа пополудни, когда уроки заканчивались, у него был один свободный час до начала работ, а по средам целых два часа. Раньше он или читал, или бродил по монастырскому парку, но теперь с разрешения брата Луки он все это время проводил в теплице. Если Лука тоже там был, он ему помогал — поливал растения и заучивал их названия — Miltonia spectabilis, Alocasia amazonica, Asystasia gangetica, — а затем повторял их брату, чтобы тот его похвалил.
— Кажется, Heliconia vellerigera подросла, — говорил он, поглаживая ворсистые прицветники, и брат Лука взглядывал на него, покачивая головой.
— Невероятно, — говорил он. — Боже правый, ну и память у тебя.
И он улыбался про себя, гордясь тем, что сумел произвести на брата впечатление.
Если же брата Луки там не было, то он играл со своими вещами. Брат показал ему небольшую решетку в дальнем углу теплицы, скрытую горкой пластмассовых вазонов. Под решеткой была небольшая ямка, и туда как раз помещался мусорный мешок со всеми его сокровищами. Поэтому он выкопал из-под дерева все палочки и камешки и перетащил свою добычу в теплицу, где было тепло и влажно и где можно было вертеть все эти штуки в руках, и руки при этом не немели от холода. С течением времени внес свою лепту в его коллекцию и брат Лука: он дал ему обточенное волнами стеклышко-облатку, сказав, что у него глаза такого же цвета, металлический свисток, внутри которого был маленький шарик, и если свисток потрясти, он позвякивал, как колокольчик, и тряпичную куколку в шерстяной бордовой куртке с поясом, отделанным крохотными бирюзовыми бусинками, — брат сказал, что куклу сделал индеец навахо и что в детстве он в нее играл. Два месяца назад он раскрыл мешок и обнаружил, что брат Лука оставил ему рождественский красно-белый леденец, и пришел в восторг, несмотря на то что был уже февраль: ему всегда хотелось попробовать такой леденец, и он разломал его на кусочки, каждый кусок обсосал до острых кончиков, а затем разгрыз, старательно перетирая сахар зубами.
Брат сказал ему, что назавтра он обязательно должен прийти в теплицу сразу после уроков, потому что его будет ждать сюрприз. Весь день он был рассеянным, вертелся как на иголках, и, даже получив два удара — по лицу от брата Михаила, по заду от брата Петра, — он почти не обратил на это внимания. Только после того, как брат Давид пригрозил ему, что если он не сосредоточится, то вместо свободного часа будет работать, он сумел взять себя в руки и кое-как досидел до конца уроков.
Стоило ему оказаться на улице и отойти подальше от монастыря, как он пустился бежать. Была весна, и он вопреки всему был счастлив: он любил вишневые деревья в розовой пене цветов, глянцевые, невероятные оттенки тюльпанов и нежную, мягкую молодую траву под ногами. Иногда, оставшись один, он вытаскивал куклу навахо и палочку, похожую на человека, садился на траву и играл с ними. Он говорил за них разными голосами, шепча себе под нос, потому что брат Михаил сказал, что мальчики в куклы не играют, да и вообще он уже слишком взрослый для игр.
Интересно, видит ли брат Лука, как он бежит? Как-то в среду брат Лука сказал ему: «Я видел сегодня, как ты сюда бежал», — и он уже раскрыл было рот, чтобы извиниться, но брат продолжил: «Ну ты и бегун! Вот это скорость!» — и он буквально лишился дара речи, пока брат со смехом не велел ему закрыть рот.
В теплице никого не было.
— Брат Лука? — позвал он. — Эй?
— Я здесь, — раздался голос из маленькой пристройки, где хранились запасы удобрения и бутылки с щелочной водой, висели рядами садовые ножницы, секаторы и сучкорезы, а пол был заставлен мешками с дерновым грунтом. Он любил эту комнатку, любил ее древесный, мшистый запах, поэтому с радостью кинулся туда и постучал.
Войдя, он поначалу смешался. В комнате было темно и тихо, только на полу горел крохотный огонек, над которым склонился брат Лука.
— Подойди, — сказал брат, и он подошел.
— Поближе, — рассмеялся брат. — Джуд, не бойся.
Он подошел поближе, брат протянул ему что-то и сказал:
— Сюрприз!
И он увидел, что в руках у него маффин, маффин, из которого торчит горящая спичка.
— Что это? — спросил он.
— У тебя ведь день рождения сегодня, верно? — спросил брат. — Так вот, это твой праздничный торт. Давай, загадывай желание и задувай свечку.
— Это мне? — спросил он, и огонек затрепетал.
— Да, тебе, — ответил брат. — Скорее, загадывай желание.
Ему никогда не дарили тортов на день рождения, но он о них читал и знал, что делать. Он закрыл глаза, загадал желание, а потом открыл глаза, задул свечку, и в комнате стало совсем темно.
— Поздравляю, — сказал Лука и включил свет.
Лука протянул ему маффин, он попытался было угостить брата, но Лука покачал головой:
— Это тебе.
Маффин был с маленькими черничинками, и ему показалось, что он в жизни не ел ничего вкуснее, такой он был сладкий и вязкий, а брат смотрел на него и улыбался.
— А у меня для тебя еще кое-что есть, — сказал Лука, нашарил что-то у себя за спиной и вручил ему сверток — большую плоскую коробку, обмотанную газетой и перевязанную веревкой.
— Давай, открывай, — сказал Лука, и он стал аккуратно разворачивать газету, чтобы ее потом можно было еще раз использовать.
Коробка была самая обычная, из выцветшего картона, внутри лежали круглые деревянные брусочки. У каждой деревяшки с двух сторон были выемки, и брат Лука показал ему, как вставлять бруски один в другой, чтобы получались ящички, и как потом на эти ящички класть ветки, чтобы было похоже на крышу. Много лет спустя, когда он уже будет учиться в колледже, он увидит коробку таких полешек в витрине магазина игрушек и поймет, что в его подарке недоставало деталей: островерхого красного конуса для крыши и зеленых планок, которые нужно было класть поверх нее. Но тогда он просто онемел от радости и только потом, спохватившись, вспомнил, как надо себя вести, и сказал брату Луке спасибо, спасибо, спасибо.
— Пожалуйста, — сказал Лука. — В конце концов, восемь лет ведь не каждый день исполняется, правда?
— Правда, — согласился он, расплываясь в безумной улыбке при виде подарка, и все оставшееся у него в тот день свободное время он строил дома и коробочки из деревяшек, а брат Лука смотрел на него, изредка поправляя ему волосы — заправляя их за уши.
Каждую свободную минуту он проводил в теплице с братом Лукой. С Лукой он становился другим человеком. Для остальных братьев он был обузой, скопищем бед и недостатков, и каждый день он в подробностях узнавал о том, что еще с ним не так: он слишком рассеянный, слишком эмоциональный, слишком мечтательный, слишком любопытный, слишком нетерпеливый, слишком тощий, слишком резвый. Ему следует быть поблагодарнее, половчее, посдержаннее, поучтивее, потерпеливее, порасторопнее, пособраннее, полюбезнее. Но для брата Луки он был умным, сообразительным, способным, бойким. Брат Лука никогда не говорил, что он задает слишком много вопросов, никогда не говорил, что он не поймет чего-то, пока не вырастет. Когда брат Лука впервые его пощекотал, он аж поперхнулся, а потом принялся безудержно хохотать, и брат Лука хохотал с ним вместе, пока они катались по полу под горшками с орхидеями. «Ты так замечательно смеешься», — говорил брат Лука и «Какая прекрасная у тебя улыбка, Джуд», и «Какой же ты весельчак», и наконец ему начало казаться, что теплица — это какое-то зачарованное место, где он превращался в другого мальчика, которого видел брат Лука, в смешного и сообразительного мальчика, в мальчика, с которым кто-то хотел дружить, в мальчика, который был совсем на него не похож, который был лучше него.
Когда с другими братьями дела обстояли плохо, он представлял, что он в теплице — играет в свои игрушки или разговаривает с братом Лукой, — и повторял себе все, что ему говорил брат Лука. Иногда все было так плохо, что он не мог даже выйти к ужину, однако на следующий день он всегда находил в комнате подарок от брата Луки: цветок, или красный лист, или какой-нибудь особенно пузатый желудь, и все это он тоже собирал и прятал под решеткой.
Другие братья заметили, что он все время проводит с братом Лукой, и он чувствовал, что они этого не одобряют.
— Поосторожнее с братом Лукой, — предупреждал его брат Павел, подумать только — брат Павел, который его лупил и который на него кричал. — Он не тот, за кого себя выдает.
Но он и слушать его не стал. Они все были не теми, за кого себя выдавали.
Однажды он пошел в теплицу вечером. Неделя выдалась тяжелая, его сильно избили, было больно ходить. Накануне вечером к нему приходили сразу и отец Гавриил, и брат Матфей, поэтому у него ныло все тело. Была пятница, брат Михаил вдруг отпустил его пораньше, и он думал — пойдет, поиграет с брусочками. После такого ему обычно хотелось побыть одному — хотелось посидеть в тепле со своими игрушками и притвориться, что он где-то далеко отсюда.
Когда он пришел, в теплице никого не было; он снял решетку, вытащил индейскую куклу и коробку с брусочками, начал играть, но потом все равно расплакался. Он старался поменьше плакать — от этого ему делалось только хуже, да и братья этого терпеть не могли и наказывали его за слезы, — но не сумел сдержаться. Но он хотя бы научился плакать молча и молча плакал, вот только плакать молча было очень больно, для этого нужно было хорошенько сосредоточиться, и поэтому игрушки все-таки пришлось отложить. Он сидел в теплице до первого колокола и, услышав его, сложил все на место и помчался вниз по склону — на кухню, где ему нужно было к ужину чистить картошку и морковь, резать сельдерей.
А потом — он так и не смог понять почему, даже когда стал взрослым — дела стали совсем плохи. Ухудшилось все: и побои, и визиты братьев, и нравоучения. В чем он провинился, он не знал — самому ему не казалось, что он как-то изменился. Но коллективное терпение братьев как будто разом подошло к концу. Даже братья Давид и Петр, которые давали ему книги и разрешали читать, сколько он хочет, похоже, не слишком хотели с ним разговаривать. «Уйди, Джуд, — сказал брат Давид, когда он пришел обсудить с ним сборник греческих мифов, который тот ему дал, — видеть тебя сейчас не могу».
Он все сильнее убеждался в том, что они хотят выставить его на улицу, и паниковал, потому что другого дома, кроме монастыря, он не знал. Как же ему выжить, что же ему делать в мире за пределами монастыря, который, по словам братьев, полон соблазнов и опасностей? Работать он может, это он знал: он мог ухаживать за садом, умел готовить и убирать, быть может, этим он и сумеет заработать себе на жизнь. Может, его кто-нибудь еще приютит. Тогда, уверял он себя, дела его наладятся. Он не повторит ошибок, которые совершил с братьями.
— Ты знаешь, во сколько нам обходится твое содержание? — однажды спросил его брат Михаил. — Мы ведь и не думали даже, что ты у нас так надолго задержишься.
Он не знал, что на это ответить, и сидел, тупо уставившись в стол.
— Ты должен извиниться, — сказал брат Михаил.
— Извините, — прошептал он.
Теперь он так уставал, что у него не было сил идти в теплицу. Теперь после уроков он спускался в подвал, где, по словам брата Павла, водились крысы, а брат Матфей говорил, что никаких крыс там нет, и забивался в угол: залезал на проволочный короб, где хранились коробки с маслом и пастой и стояли мешки с мукой, и просто переводил дух, дожидаясь, пока прозвонит колокол и ему снова нужно будет идти наверх. За ужином он теперь избегал брата Луки, и если брат ему улыбался, отворачивался. Теперь он знал наверняка, что брат Лука ошибался насчет него — это он-то веселый? Это он-то смешной? — и ему было стыдно, стыдно, что он такой, стыдно, что он как-то сумел обмануть брата Луку.
Брата Луки он избегал где-то чуть больше недели, когда однажды, спустившись в свое укрытие, застал брата там. Он заозирался, ища, где бы спрятаться, но прятаться было негде, и он расплакался, отвернувшись к стене и прося прощения за свои слезы.
— Джуд, все хорошо, — говорил брат Лука, похлопывая его по спине, — все, все хорошо.
Брат присел на лестнице, ведущей в подвал.
— Иди сюда, иди, посиди со мной, — сказал Лука, но он помотал головой — ему было стыдно.
— Тогда присядь хотя бы.
И он сел, прислонившись к стене.