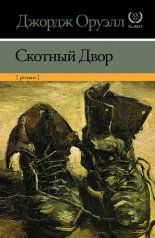Маленькая жизнь Янагихара Ханья

Она снова села рядом и положила ладонь ему на лоб.
— Постарайся вести себя прилично, хорошо? — сказала она, но голос ее был мягок. — Не хочу, чтобы тебя снова сюда привозили.
Он хотел сказать ей вслед: помоги мне. Пожалуйста. Пожалуйста. Но не смог. Больше он ее никогда не видел.
Позже, уже взрослым, он размышлял: не выдумал ли он эту медсестру, не соткал ли из собственного отчаяния муляж доброты, почти такой же убедительный, как реальность? Он спорил с собой: существуй она на самом деле, разве она не сообщила бы кому-нибудь про него? Разве кто-нибудь не явился бы ему на помощь? Но воспоминания того периода всегда были слегка зыбкими и ненадежными, и по прошествии лет он постепенно осознавал, что всегда пытался сделать из своей жизни, из своего детства что-то более приемлемое, более нормальное. Он с содроганием пробуждался от сна про воспитателей и пытался себя успокоить, уговорить: тебя использовали только двое из них. Максимум трое. Остальные в этом не участвовали. Не все были к тебе жестоки. А потом целыми днями пытался вспомнить, сколько их на самом деле было: двое? Или все-таки трое? Многие годы он не мог понять, почему это для него так важно, почему это так его мучает, почему он все время пытается спорить с собственными воспоминаниями, проводит столько времени, обдумывая детали происшедшего. А потом понял: он считает, что если сможет убедить себя, будто все было не так жутко, как ему помнится, то сможет убедить себя и в том, что он не такой ущербный, не такой душевнобольной, как опасается.
В конце концов его отправили обратно в приют, и, впервые увидев свою спину, он отшатнулся, отдернулся от зеркала в ванной так поспешно, что поскользнулся на мокром кафеле и упал. В первые недели после избиения, когда рубцовая ткань еще только формировалась, она вздулась на спине набухшим горбом, и мальчики постарше швырялись в него скатанными в шарик мокрыми салфетками, стараясь попасть в этот горб, и издавали радостные вопли, если попадали. До этого момента он никогда не задумывался по-настоящему о собственной внешности. Он знал, что некрасив, знал, что испорчен, знал, что нездоров. Но раньше он никогда не считал себя уродом — а теперь считал. В этом, во всей его жизни, была какая-то неизбежность: с каждым днем он будет становиться все хуже — все отвратительнее, все развратнее. С каждым годом иссякало его право на принадлежность к человеческому роду; с каждым годом он был все меньше и меньше личностью. Но он больше об этом не тревожился, не в силах позволить себе такую роскошь.
Но все-таки жить не тревожась было трудно, и он, как ни странно, все не мог забыть обещание брата Луки про то, что с шестнадцатилетием его старая жизнь закончится и начнется новая. Он знал, конечно, знал, что брат Лука лгал, но не мог перестать об этом думать. Шестнадцать, думал он про себя по ночам. Шестнадцать. Когда мне исполнится шестнадцать, это кончится.
Как-то раз он спросил у брата Луки, как они будут жить, когда ему исполнится шестнадцать. «Ты пойдешь в колледж», — без колебания сказал брат Лука, и он просиял. Он спросил, в какой, и Лука назвал колледж, в котором учился сам (когда он в конце концов действительно туда поступил и поискал в архивах брата Луку — Эдгара Уилмота, — то убедился: нет никаких свидетельств, что тот когда-либо посещал это учебное заведение, и испытал облегчение от того, что в этом смысле у него нет ничего общего с братом, хотя именно Лука поселил в нем мысль когда-нибудь здесь оказаться). «Я тоже перееду в Бостон, — добавил Лука. — И мы будем женаты, поэтому жить будем в квартире, а не на кампусе».
Иногда они обсуждали эту жизнь: учебные курсы, которые он будет посещать; студенческие годы брата Луки; куда они поедут путешествовать после получения диплома. «Может быть, у нас с тобой когда-нибудь будет сын», — сказал однажды Лука, и он замер, потому что точно знал: Лука будет делать с этим их воображаемым сыном все, что делали с ним, и твердо решил, что это никогда не случится, что он не позволит этому призрачному ребенку, несуществующему ребенку когда-либо осуществиться, не позволит другому ребенку оказаться рядом с Лукой. Он помнил свою твердую решимость защищать этого их сына, и на короткое ужасное мгновение ему захотелось никогда не достигать шестнадцатилетия, потому что он знал: как только это произойдет, Луке понадобится кто-то другой, а такого он допустить не сможет.
Но теперь Лука мертв. Воображаемый ребенок в безопасности. Опасность больше не подстерегает его на пороге шестнадцатилетия. Шестнадцать теперь безопасный возраст.
Прошли месяцы. Спина зажила. Теперь после занятий в школе его ждал охранник, чтобы препроводить к дежурному воспитателю. Однажды в конце осеннего семестра преподаватель математики попросил его остаться после занятий и спросил, подумывает ли он о колледже. Он может ему помочь, помочь поступить — он сможет пойти в какой-то хороший университет, один из лучших. И ох как же он хотел уйти, сменить обстановку, поступить в колледж. В те дни его разрывало между попытками примириться с тем, что жизнь всегда будет такой же, как сейчас, и надеждой — жалкой, глупой, упрямой надеждой, — что она может стать чем-то иным. Соотношение смирения и надежды менялось каждый день, каждый час, порой каждую минуту. Он всегда, всегда старался решить, что он должен делать — думать о приятии или о бегстве. В тот момент он взглянул на преподавателя и уже собирался ответить: «Да, да, помогите мне», — но вдруг его что-то остановило. Этот преподаватель всегда был с ним ласков, но не напоминала ли эта ласковость брата Луку? Что, если предложение о помощи подразумевало плату? Он спорил с собой, пока преподаватель ждал ответа. Подумаешь, еще один раз, ничего с тобой не случится, сказал доведенный до отчаяния голос той его части, которая мечтала сбежать, которая считала дни до шестнадцатилетия, над которой издевательски смеялась другая его часть. Еще раз. Очередной клиент. Не время разыгрывать недотрогу.
Но он все-таки проигнорировал этот голос — он так устал, так измучился, так вымотался от разочарований — и помотал головой.
— Колледж не для меня, — сказал он преподавателю неестественно тонким от вранья голосом. — Спасибо, но мне ваша помощь не потребуется.
— По-моему, ты совершаешь большую ошибку, Джуд, — ответил преподаватель. — Обещай, что еще подумаешь. — Он протянул ладонь, дотронулся до его руки, и он резко отдернулся, и преподаватель посмотрел на него странным взглядом, а он развернулся, выбежал из комнаты и побежал так быстро, что коридор превратился в сплошное мелькание бежевых прямоугольников.
В ту ночь его отвели в коровник. Коровник уже давно не использовали по назначению, а просто складывали туда все, что смастерили на занятиях по ремеслу и автоделу: в стойлах приютились полусобранные карбюраторы, каркасы полупочиненных прицепов, полуошкуренные кресла-качалки, которые приют сдавал в магазины на продажу. Он был в стойле с качалками, и пока один из воспитателей впиливался в него, он покинул свое тело и взлетел над стойлами к стропилам, где задержался, осматривая раскинувшуюся под ним сцену, с мебелью и механизмами, застывшими инопланетными скульптурами, с полами, покрытыми грязью и случайными клоками сена, напоминавшими об изначальной жизни коровника, которую никак не удавалось полностью стереть, с двумя людьми, из которых складывалось причудливое восьминогое существо, — один был тихий, другой шумный, покрякивающий, раскачивающийся, живой. А потом он уже вылетал из круглого окошка высоко под потолком, над приютом, над его полями, которые были так хороши, так желто-зелены от дикой горчицы в летнюю пору, а сейчас, в декабре, все-таки были тоже по-своему хороши, раскинувшись сверкающими просторами лунной белизны, покрытые таким свежим, таким недавним снегом, что по нему никто еще не успел пройти. Он летел над землей, над пейзажами, о которых читал, но которых никогда не видел, над такими чистыми горами, что от одного их вида он и сам очищался, над озерами величиной с океаны, пока не воспарил над Бостоном и не стал спиралями снижаться к зданиям на речном берегу, к разлапистому кольцу с проплешинами зеленых квадратов, в которое он войдет и преобразится, где начнется его жизнь, где он сможет притвориться, что все, что было прежде, — это чья-то другая жизнь или череда ошибок, которую никто никогда не будет обсуждать, не будет изучать.
Когда он очнулся, воспитатель лежал на нем и спал. Его звали Колин, и он часто бывал пьян, вот и сегодня горячее пивное дыхание ударяло ему в лицо. Он был раздет, на Колине был только свитер и больше ничего, и некоторое время он лежал, придавленный весом Колина, тоже дышал и ждал, пока Колин проснется, чтобы его вернули в спальню, где он сможет добраться до лезвий.
А потом, бездумно, почти как если бы был марионеткой, машинально двигая конечностями, он выпутался из-под Колина, неслышно и стремительно, торопливо оделся и, опять-таки не успев подумать, схватил дутую куртку Колина с крючка, приколоченного изнутри стойла, и напялил ее на себя. Колин был намного крупнее его, толще, мускулистее, но ростом они не сильно отличались, и куртка была менее неуклюжей и тяжелой, чем казалась. А потом он подхватил с пола джинсы Колина, вытащил бумажник, а оттуда вытащил деньги — он не считал, сколько там было, но по толщине пачки догадывался, что немного, — засунул купюры в карман своих джинсов и побежал. Он всегда отлично бегал, быстро, бесшумно, целеустремленно — брат Лука, наблюдая за его упражнениями на стадионе, всегда говорил, что у него в роду явно были могикане, — и теперь он выбежал из коровника, двери которого распахнулись в сверкающую, тихую ночь, осмотрелся и, никого не увидев, побежал в поля за спальным корпусом приюта.
От спального корпуса до дороги было полмили, и хотя обычно ему бывало больно после коровника, в ту ночь он не испытывал боли — только подъем, чувство сверхбодрствования, которое словно бы соткалось специально для этой ночи и этого приключения. Там, где кончалась территория приюта, он обмотал рукава Колиновой куртки вокруг ладоней, припал к земле, приподняв над головой завитки колючей проволоки, аккуратно прополз под ней. Когда он высвободился, эйфория только усилилась, и он побежал со всех ног, побежал на восток — он знал, где восток, — к Бостону, подальше от приюта, от Запада, от всего. Он понимал, что через какое-то время ему придется покинуть эту дорогу и направиться к шоссе, где его будет легче заметить, но труднее опознать, и он помчался вниз по холму, за которым начинался густой темный лес, отделявший дорогу от федеральной трассы. По траве бежать было труднее, но он все равно бежал, прижимаясь к опушке, чтобы при приближении какой-нибудь машины нырнуть в лес и спрятаться за деревом.
Когда он стал взрослым — взрослым калекой, а позже настоящим калекой, который даже ходить больше не мог, которому бег казался несбыточным волшебством, он вспоминал ту ночь с благоговением: какой он был проворный, быстрый, неутомимый, какой удачливый. Он прикидывал, сколько пробежал в ту ночь — не меньше двух часов, а может быть, и все три, — хотя тогда он об этом вовсе не думал, а только стремился оказаться как можно дальше от приюта. Небо окрасилось первыми лучами солнца, и он вбежал в лес, которого так боялись многие из мальчиков помладше и где было так тесно и темно, что даже он испугался, хотя его обычно не пугала никакая природа, но он углубился в чащу насколько смог, потому что через лес все равно надо было пройти, чтобы выйти на трассу, а еще потому, что знал: чем глубже он заберется, тем труднее будет его найти, — и в конце концов остановился возле могучего дерева, выбрав самое большое, как будто самый его размер давал некую гарантию безопасности, как будто оно обещало оберегать и защищать его, и, пристроившись между корнями, заснул.
Когда он проснулся, было опять темно, хотя он точно не знал, ранний сейчас вечер или поздний или, может быть, раннее утро. Он снова двинулся через лес, напевая себе под нос — для храбрости и чтобы продемонстрировать тому, что могло его ждать, собственное бесстрашие, и когда лес наконец выплюнул его с другой стороны, было по-прежнему темно, и он понял, что сейчас ночь и он проспал весь день, и это открытие придало ему сил и бодрости. Сон важнее еды, увещевал он себя, потому что очень хотел есть, и потом приказывал ногам: двигайтесь! И они двигались, несли его в горку, по направлению к трассе.
В лесу он в какой-то момент понял, что у него есть только один способ добраться до Бостона, так что он встал на обочине, и когда первый грузовик остановился и он забрался в кабину, он понимал, что ему придется сделать, когда этот грузовик остановится, и он это сделал. Он делал это снова, и снова, и снова; иногда дальнобойщики давали ему еды или денег, а иногда нет. У них у всех были устроены небольшие гнезда в прицепах, где они ложились, и иногда, потом, они везли его еще немного, а он спал, и мир двигался под ним в вечном землетрясении. На заправках он покупал еду и ждал, и потом кто-нибудь подходил к нему — кто-нибудь всегда подходил, — и он забирался в кабину.
— Куда направляешься? — спрашивали они.
— В Бостон, — отвечал он. — У меня там дядя.
Иногда ему становилось так стыдно от того, что он делал, что его тошнило: он знал, что никогда не сможет сказать себе, будто его принуждали; он занимался сексом с этими мужчинами добровольно, позволял им делать что угодно, выполнял свою роль искусно и с энтузиазмом. А иногда ему было не до сантиментов: он делает что должен. Другого пути нет. У него есть некий навык, отлично разработанный навык, и он использует его, чтобы добраться до лучшей жизни, — использует, чтобы спастись.
Иногда мужчины хотели удержать его подольше, снимали номер в мотеле, и он представлял, что брат Лука ждет его в туалете. Иногда они разговаривали с ним — у меня сын твоего возраста, говорили они; у меня дочь твоего возраста, — а он лежал и слушал. Иногда они смотрели телевизор, восстанавливали силы для следующего раза. Некоторые из них были с ним жестоки; некоторые были такие страшные, что он боялся за свою жизнь, боялся, что его изобьют так сильно, что он не сможет убежать, и в такие мгновения он сжимался от ужаса и отчаянно хотел вернуться к брату Луке, в монастырь, к медсестре, которая была с ним так добра. Но большинство из них не отличались ни жестокостью, ни добротой. Это были клиенты, и он предлагал им то, чего они хотели.
Годы спустя, когда он смог оценить эти недели более объективно, он ужаснулся своей глупости, узости своего горизонта: почему он просто не сбежал? Почему не купил на заработанные деньги автобусный билет? Он пытался вспомнить, сколько заработал, и хотя он понимал, что немного, этого, наверное, хватило бы на билет докуда-нибудь, пусть даже и не до Бостона. Но тогда ему это просто не пришло в голову. Словно весь запас изобретательности, каждая крупица смелости, которой он обладал, все ушло на побег из приюта, а оказавшись один, он просто позволил другим диктовать условия его жизни, и, пропуская через себя мужчину за мужчиной, он просто делал то, чему был обучен. И из всех изменений, которые он произвел в себе, став взрослым, именно это — представление, что он может сформировать хотя бы часть собственного будущего — оказалось для него самой трудной, но и самой благодарной наукой.
Один раз ему попался мужчина такой вонючий, такой потно-громадный, что он чуть не улизнул от него, но хотя секс и был чудовищен, этот человек потом проявил доброту, купил ему сэндвич и газировку, заинтересованно задавал вопросы про его жизнь и внимательно слушал лживые ответы. Он провел с ним две ночи. В пути клиент слушал блюграсс и подпевал песням; у него был приятный голос, низкий и чистый, и, узнав от него слова, он неожиданно тоже стал подпевать, пока под колесами бежала гладкая дорога. «Надо же, какой у тебя отличный голос, Джои!» — сказал мужчина, и он — как он был слаб, как жалок! — позволил себе порадоваться этому замечанию, набросился на похвалу, как крыса на крошку заплесневелого хлеба. На второй день мужчина спросил, не хочет ли он остаться с ним; из Огайо он, к сожалению, не мог ехать дальше на восток, надо было сворачивать на юг, но если он хочет с ним остаться, он будет очень рад, он о нем позаботится. Он отверг предложение, и мужчина кивнул, словно этого и ожидал, и дал ему денег, и поцеловал его — первый из всех. «Ну счастливо, Джои», — сказал мужчина, и потом, когда грузовик уехал, он пересчитал деньги и понял, что там больше, чем он ожидал, больше, чем он заработал за все предшествующие десять дней. Позже, когда очередной клиент был злобен, вел себя грубо и рукоприкладствовал, он жалел, что не уехал с тем дальнобойщиком: Бостон внезапно оказался не так важен, как доброта, как человек, готовый его защитить и пожалеть. Он сокрушался о том, как плохо он разбирается в людях, как не может ценить тех, кто ведет себя порядочно; он снова вспоминал брата Луку, который ни разу не ударил его, не накричал на него, который никогда не повышал голос.
Где-то в дороге он заболел и не знал, случилось это уже в пути или еще в приюте. Он заставлял мужчин пользоваться презервативами, но некоторые говорили, что наденут, а потом не надевали, и он сопротивлялся, кричал, но сделать ничего не мог. По прошлому опыту он понимал, что ему нужен доктор. От него воняло; от боли он с трудом мог ходить. На окраине Филадельфии он решил прерваться — другого выхода не было. Он проделал небольшую дыру в рукаве Колиновой куртки, скатал деньги в трубочку, засунул их внутрь и сколол дырку английской булавкой, найденной в номере одного из мотелей. Он вылез из последнего грузовика, хотя в тот момент не знал, что это будет последний грузовик, думал: еще один, еще один, и я доберусь до Бостона. Останавливаться так близко от цели было невыносимо, но он понимал, что нуждается в помощи; он и так терпел до последнего.
Водитель остановился на бензоколонке неподалеку от Филадельфии — он не хотел въезжать в город. Оказавшись там, он медленно пробрался в туалет и постарался привести себя в порядок. Из-за болезни он легко утомлялся; его бросало в жар. Последнее, что он помнил об этом дне — был, кажется, конец января, все еще холодно, но теперь к холоду добавился еще и влажный, колючий ветер, который словно бы бил его по щекам, — это путь до края стоянки, где росло небольшое дерево, облетевшее, заброшенное, одинокое, и как он садится, прислоняясь к нему, чувствуя спиной сквозь давно уже грязную куртку Колина корявый, ненадежный ствол, и закрывает глаза в надежде, что если он немного поспит, то почувствует себя хоть капельку лучше.
Когда он проснулся, то понял, что лежит на заднем сиденье автомобиля, что автомобиль едет и что играет Шуберт, и позволил себе найти в этом успокоение, зацепиться за что-то знакомое в незнакомой ситуации, в чужой машине, которую вел чужой человек, чужак, которого он от слабости даже не мог толком рассмотреть, чужак, который вез его сквозь чужой пейзаж в неизвестном направлении. Когда он снова проснулся, он находился в комнате, в гостиной; оглядевшись, он увидел диван, на котором лежал, кофейный столик перед диваном, два кресла, каменный камин, все в коричневых тонах. Он встал, все еще шатаясь, но уже не так сильно, и в этот момент заметил, что в дверном проеме стоит мужчина, ростом немного меньше его самого, худой, но с брюшком и по-женски широкими бедрами. Он глядел сквозь очки с полоской черного пластика наверху, но без оправы с нижней стороны, а волосы его были подстрижены в тонзуру очень короткой и мягкой шерсти, как норковый мех.
— Иди на кухню и съешь чего-нибудь, — сказал мужчина тихим, бесцветным голосом, и он медленно поплелся за ним на кухню, которая, за исключением плитки и стен, тоже была выдержана в коричневых тонах: коричневый стол, коричневые ящики, коричневые стулья. Он сел на стул в торце стола, и мужчина поставил перед ним тарелку с гамбургером и картошкой фри и стакан молока.
— У меня обычно не бывает гамбургеров, — сказал мужчина и посмотрел на него.
Он не знал, что на это ответить.
— Спасибо, — сказал он, и мужчина кивнул.
— Ешь, — сказал он и сел напротив, во главе стола, глядя на него. В обычных обстоятельствах он бы смутился, но сейчас был слишком голоден.
Поев, он отодвинулся от стола и снова поблагодарил, и мужчина снова кивнул, но ничего не сказал.
— Ты проститутка, — сказал после паузы мужчина, и он покраснел, глядя на полированную коричневую древесину стола.
— Да, — признал он.
Мужчина издал короткий тихий звук, посопев носом, и спросил:
— Давно ты стал проституткой? — Но он не мог ему ответить и молчал. — Ну? — спросил тот. — Два года? Пять лет? Десять? Всю свою жизнь? — В его голосе сквозило раздражение или что-то очень похожее, но говорил он мягко и не повышал голос.
— Пять лет, — сказал он, и мужчина снова издал короткий звук.
— У тебя венерическое заболевание, — сказал мужчина, — это заметно по запаху.
И он съежился, опустил голову и кивнул.
Мужчина вздохнул.
— Ну, — сказал он, — тебе повезло, потому что я доктор и у меня есть кое-какие антибиотики. — Он встал, подошел к одному из шкафов, вернулся с баночкой из оранжевого пластика и вынул из нее таблетку.
— Выпей, — сказал мужчина, и он выпил таблетку. — Допей молоко.
И он допил, и тогда мужчина вышел из кухни, а он остался и ждал, пока тот не заглянул внутрь.
— Ну? — сказал мужчина. — Иди за мной.
Он пошел на ватных ногах и проследовал за мужчиной к двери на противоположном конце гостиной, которую тот отпер, отворил и теперь придерживал. Он поколебался, и мужчина издал нетерпеливый щелкающий звук.
— Заходи уже, — сказал он. — Это спальня.
Он закрыл усталые глаза, потом снова открыл их и стал готовиться к жестокости; тихие всегда оказывались жестокими.
Подойдя к двери вплотную, он увидел, что она ведет в подвал и спускаться придется по деревянным ступеням, крутым, как стремянка, и снова замер в нерешительности, а мужчина опять издал тот же странный звук, похожий на щелчок насекомого, и подтолкнул его — несильно — в поясницу, и он неуклюже сбежал вниз.
Он ожидал увидеть подземелье — скользкое, с потеками сырости, но это и правда была спальня с матрасом, заправленным простыней и накрытым одеялом, а под матрасом лежал синий круглый коврик; вдоль левой стены тянулись полки из такой же необработанной древесины, из какой была сделана лестница, и на них стояли книги. Пространство заливал агрессивный, безжалостный свет, знакомый ему по больницам и полицейским участкам, а в верхней части дальней стены было прорезано небольшое окно, размером примерно со словарь.
— Я оставил тебе одежду, — сказал мужчина, и он увидел, что на матрасе сложена рубашка, спортивные штаны, а еще полотенце и зубная щетка. — Туалет вон там, — добавил он, показывая на дальний правый угол комнаты.
И он двинулся обратно.
— Подождите! — крикнул он вслед мужчине, и тот остановился посреди лестницы, а он, чувствуя на себе его взгляд, стал расстегивать рубашку. Что-то изменилось в выражении лица мужчины, и он поднялся еще на несколько ступеней.
— Ты нездоров, — сказал он. — Сначала тебе надо поправиться. — И ушел, и дверь за ним захлопнулась.
Он спал в ту ночь — потому, что делать больше было нечего, и потому, что очень устал. На следующее утро он проснулся и почувствовал запах еды; он с трудом встал, медленно поднялся по лестнице и на верхней ступени обнаружил пластиковый поднос, а на подносе — тарелку с омлетом, два кусочка бекона, булочку, стакан молока, банан и такую же белую таблетку, как накануне. Он недостаточно твердо держался на ногах, чтобы отнести все это вниз и не уронить, поэтому съел еду и проглотил таблетку прямо там, сидя на ступеньке из необработанного дерева. Немного передохнув, он встал, чтобы открыть дверь и отнести поднос на кухню, но ручка не поворачивалась — дверь была заперта. В нижней части двери было прорезано небольшое квадратное отверстие — для кошки, предположил он, хотя кошки он не видел, и он приподнял резиновый клапан и сунул туда нос.
— Простите? — крикнул он. Он сообразил, что не знает, как зовут мужчину, что было нормально — он никогда не знал, как их зовут. — Эй? Простите? — Но ответа не было, и по тишине дома он догадывался, что остался один.
Он должен был бы запаниковать, испугаться, но он не чувствовал ни паники, ни испуга, только тягостную усталость, так что он оставил поднос на верхней ступеньке, медленно спустился вниз, забрался в постель и снова уснул.
Он дремал весь этот день, а проснувшись, увидел, что мужчина снова стоит и смотрит на него, и резко сел.
— Ужин, — сказал мужчина, и он последовал за ним наверх, все в той же чужой одежде, которая была широка ему в талии и коротка в руках и ногах, потому что своей одежды он не нашел. Мои деньги, подумал он, но от общей растерянности его мысль на этом остановилась.
Он снова сидел в коричневой кухне, и мужчина дал ему таблетку, и тарелку с коричневым мясным рулетом, и горку картофельного пюре, и брокколи, и поставил другую тарелку себе, и они приступили к ужину в тишине. Тишина его не беспокоила — обычно он только радовался, — но молчание мужчины было похоже на созерцание: так кошка сидит и смотрит, смотрит, смотрит так неотрывно, что ты не знаешь, что она видит, а потом вдруг прыгает и что-то прижимает лапой.
— А вы какой доктор? — осторожно спросил он, и мужчина взглянул на него.
— Психиатр, — сказал доктор. — Знаешь, что это такое?
— Да, — сказал он.
Мужчина снова издал свой характерный звук.
— Тебе нравится быть проституткой? — спросил он, и у него отчего-то защипало в глазах, но он сморгнул, и слез больше не было.
— Нет, — сказал он.
— Тогда почему ты этим занимаешься? — спросил мужчина, и он помотал головой. — Отвечай, — сказал мужчина.
— Не знаю, — ответил он, и мужчина хмыкнул. — Это то, что я умею, — сказал он наконец.
— И хорошо у тебя получается? — спросил мужчина, и он снова почувствовал резь в глазах и долго молчал.
— Да, — сказал он, и это было худшее признание в его жизни, слово, которое далось ему тяжелее всего.
Когда они поели, доктор снова препроводил его до двери и так же, как накануне, подтолкнул внутрь.
— Погодите, — сказал он, когда мужчина закрывал дверь. — Меня зовут Джои. — И когда мужчина ничего не сказал, а только продолжал смотреть на него, добавил: — А вас?
Мужчина по-прежнему смотрел на него, но теперь, подумал он, почти улыбался или, по крайней мере, на его лице собиралось проступить какое-то выражение. Но так и не проступило.
— Доктор Трейлор, — сказал мужчина и затем быстро захлопнул дверь, словно эта информация была птицей, которая улетит, если ее не запереть там, внизу, вместе с ним.
На следующий день ему было не так больно, температура спала. Встав, он понял, что все еще очень слаб, но, шатаясь и хватая воздух руками, все-таки удержался на ногах. Он подошел к книжным полкам, изучил книги — они были в мягких обложках, распухшие от жары и влажности, и сладко пахли плесенью. Он нашел «Эмму», которую читал на занятиях в школе перед побегом, и медленно поднялся по лестнице, прихватив книгу с собой, а на верхней ступеньке сел, нашел место, где остановился, и стал читать, потихоньку поглощая завтрак с очередной таблеткой. На этот раз на подносе был еще сэндвич, завернутый в бумажное полотенце с мелкой надписью «Обед». Поев, он спустился с книгой и сэндвичем и, лежа в постели, осознал, как ему не хватало чтения, как благодарен он был за эту возможность на время покинуть свою жизнь.
Он опять поспал, опять проснулся. К вечеру он чувствовал себя очень усталым, боль частично вернулась, и когда доктор Трейлор открыл дверь, ему понадобилось много времени, чтобы взобраться наверх. За ужином он ничего не сказал, и доктор Трейлор тоже молчал, но когда он предложил помочь доктору Трейлору с мытьем посуды или готовкой, доктор Трейлор взглянул на него и сказал:
— Ты нездоров.
— Мне лучше, — сказал он. — Я могу помочь вам на кухне, если хотите.
— Нет, ты нездоров, — сказал доктор Трейлор. — Ты больной. Нельзя, чтобы больной прикасался к моей еде.
И он униженно опустил глаза.
Наступила тишина.
— Где твои родители? — спросил доктор Трейлор, и он снова помотал головой. — Отвечай, — сказал доктор Трейлор, и на этот раз он был раздражен, хотя голос так и не повысил.
— Не знаю, — промычал он, — у меня их никогда не было.
— Как ты стал проституткой? — спросил доктор Трейлор. — Сам начал или кто-нибудь тебе помог?
Он сглотнул, чувствуя, как еда в животе превращается в замазку.
— Кто-то помог, — прошептал он.
Наступила тишина.
— Тебе не нравится, когда я называю тебя проституткой, — сказал мужчина, и на этот раз он сумел поднять голову и посмотреть на него.
— Нет, — сказал он.
— Я понимаю, — сказал мужчина. — Но ведь ты и есть проститутка. Впрочем, я могу звать тебя как-нибудь иначе: например, шлюха. — Он снова молчал. — Так лучше?
— Нет, — снова прошептал он.
— Значит, — сказал мужчина, — будешь проституткой, так? — И посмотрел на него, и он в конце концов кивнул.
Той ночью он обшарил всю спальню, ища, чем сделать порез, но в комнате не было ничего острого, вообще ничего, даже страницы книг были вспухшие и мягкие. Поэтому он впился ногтями в икры со всей силы, согнувшись, дрожа от усилия и неловкости позы, и в конце концов смог все-таки проколоть кожу, а потом, работая ногтями, расширить надрез. Ему удалось сделать всего три надреза на правой ноге, он очень устал и вскоре снова заснул.
На третье утро он чувствовал себя заметно лучше — к нему вернулись силы и готовность к действию. Он съел завтрак, почитал книгу, а потом отодвинул поднос, просунул голову в прорезь со шторкой и попытался пропихнуть туда плечи. Но плечи не пролезали ни под каким углом — он был слишком велик, а отверстие слишком мало, и в конце концов он был вынужден оставить эти попытки.
Отдохнув, он снова высунул голову в прорезь. Его взгляду открывалась гостиная слева и кухня справа, и он долго изучал обстановку. Все выглядело очень опрятным; по этой опрятности он делал вывод, что доктор Трейлор живет один. Вывернув шею, он видел слева лестницу, уводящую на второй этаж, и сразу за ней — входную дверь, но сколько на ней замков, видно не было. Главной особенностью этого дома была тишина: не слышалось ни тиканья часов, ни звука проезжающих машин или проходящих людей снаружи. Можно было представить, что дом летит через безвоздушное пространство, так тихо в нем было. Только прерывистое жужжание холодильника нарушало общий покой, но когда оно прекращалось, тишина становилась абсолютной.
Но даже такой безличный дом занимал его воображение: это был всего третий настоящий дом, в котором он оказался. Вторым был дом Лири. Первым был дом клиента, очень важного, по словам брата Луки, клиента, который заплатил сверху, потому что не хотел приходить в мотель. Тот дом, неподалеку от Солт-Лейк-Сити, был огромным, из стекла и песчаника, и брат Лука пришел с ним и спрятался в ванной — вся ванная была размером с типичный номер в их мотелях — рядом со спальней, где они с клиентом занимались сексом. Позже, став взрослым, он благоговел перед идеей дома, особенно собственного, хотя даже до Грин-стрит, и до Фонарного дома, и до лондонской квартиры он раз в несколько месяцев покупал интерьерный журнал — почитать про людей, которые проводили жизнь, делая свои прелестные дома еще прелестнее, и переворачивал страницы медленно, изучая каждую фотографию. Друзья над ним смеялись, но он не реагировал: он мечтал о том дне, когда у него будет собственное жилище и вещи, которые будут безусловно принадлежать ему.
В тот вечер доктор Трейлор снова его выпустил, и снова была кухня и молчаливая трапеза на двоих.
— Я чувствую себя лучше, — сказал он и потом, когда доктор Трейлор не ответил, добавил: — Если хотите чего-нибудь.
У него хватало здравого смысла, чтобы понимать: ему не позволят уйти, не расплатившись с доктором Трейлором так или иначе; у него хватало оптимизма надеяться, что ему вообще позволят уйти.
Но доктор Трейлор покачал головой.
— Тебе лучше, но ты по-прежнему заразный, — сказал он. — Антибиотикам нужно десять дней, чтобы уничтожить инфекцию. — Он вынул изо рта прозрачно-тонкую рыбную кость и аккуратно положил ее на край тарелки. — Только не говори мне, что это твое первое венерическое заболевание. — Доктор поглядел на него, и он снова покраснел.
Той ночью он обдумывал свои действия. Он окреп почти достаточно, чтобы бежать, думал он. За ужином на следующий день он последует за доктором Трейлором, а когда тот отвернется, подбежит к двери, выскочит наружу и поищет помощь. План этот был не лишен недостатков — он так и не получил назад свою одежду, у него не было вообще никакой обуви, — но он понимал, что с этим домом что-то не так, с доктором Трейлором что-то не так, надо спасаться.
На следующий день он пытался беречь силы. Он нервничал, ему не читалось и приходилось удерживать себя от ходьбы взад-вперед по комнате. Он сберег утренний сэндвич и засунул его в карман одолженных домашних штанов, чтобы было чем перекусить, если придется долго прятаться. В другой карман он запихнул пластиковый пакет из мусорного ведра в ванной, планируя разорвать его пополам и сделать себе обувь, когда убежит от доктора Трейлора. Теперь ничего не оставалось, кроме как ждать.
Но в тот вечер его вообще не выпустили из комнаты. Из наблюдательного пункта возле отверстия со шторкой он видел, как зажегся свет в гостиной, чувствовал запах готовки. «Доктор Трейлор? — крикнул он. — Вы там?» Но слышно было только, как шипит мясо на сковородке, как по телевизору рассказывают новости дня. «Доктор Трейлор! — крикнул он. — Подойдите, пожалуйста!» Но ничего не произошло, и через некоторое время он устал кричать и спустился вниз по ступенькам.
В ту ночь ему приснилось, что на верхнем этаже дома расположена череда других спален, все с низкими кроватями и круглыми вязаными ковриками рядом, и в каждой находится по мальчику: одни постарше, потому что уже давно живут в доме, другие помладше. Никто из них не знал о существовании других; они друг друга не слышали. Он понял, что не представляет себе физических размеров дома, и во сне дом превратился в небоскреб с сотнями комнат и камер, и в каждой был мальчик, который ждал, что доктор Трейлор его выпустит. Он проснулся, задыхаясь, и помчался наверх по ступенькам, но когда он нажал на шторку, она не подалась. Он поднял ее и увидел, что отверстие заделано куском серого пластика, и, как он его ни толкал, ничего сделать не удалось.
Он не знал, что предпринять. Он попытался не ложиться всю ночь, но заснул, а когда проснулся, увидел поднос с завтраком, обедом и двумя таблетками — на утро и на вечер. Он зажал таблетки между пальцами и задумался — если их не принимать, он не поправится, а доктор Трейлор не притронется к нему, если он будет нездоров. Но если он не будет их принимать, он не поправится, а он знал по прежнему опыту, как ужасно он будет себя чувствовать, в какую почти невообразимую грязь погрузится, как будто все его существо, внутри и снаружи, вымазано экскрементами. Тогда он начал раскачиваться взад-вперед. Что мне делать, спрашивал он, что мне делать? Он вспоминал толстого дальнобойщика, того, что был с ним добр. Помоги мне, взывал он к нему, помоги мне.
Брат Лука, умолял он, помоги, помоги мне.
Он снова подумал: я принял неверное решение. Я оставил мир, где у меня, по крайней мере, были свежий воздух и учеба и где я знал, что со мной случится. А теперь у меня ничего этого нет.
Какой ты дурак, сказал голос внутри, какой же ты дурак.
Так продолжалось еще шесть дней: еда появлялась, пока он спал. Он принимал таблетки — не мог себя заставить не принимать.
На десятый день дверь отворилась, и за дверью стоял доктор Трейлор. Он так испугался, так изумился, что оказался совершенно к этому не готов, но прежде чем он успел встать, доктор Трейлор закрыл дверь и направился к нему. На плече доктор держал железную кочергу, небрежно, как держат бейсбольную биту, и пока доктор Трейлор приближался, он в ужасе думал: что это значит? Что он с ним собирается делать этим предметом?
— Раздевайся, — сказал доктор Трейлор все тем же бесцветным голосом, и он разделся, и доктор Трейлор отвел кочергу от плеча, и он инстинктивно шарахнулся, подняв руки над головой. Он услышал, как доктор издал свой короткий влажный хмык. А потом доктор Трейлор расстегнул ремень на брюках и подошел еще ближе.
— Снимай штаны, — сказал доктор, и он их снял, но прежде чем он успел начать, доктор Трейлор коснулся кочергой его шеи.
— Только попробуй хоть что-нибудь, — сказал он, — кусаться, что угодно, голову разобью так, что превратишься в овощ, понял меня?
Он кивнул, онемев от ужаса.
— Отвечай! — заорал доктор Трейлор, и он вздрогнул.
— Да, — выдохнул он, — да, я понял.
Конечно, он боялся доктора Трейлора; он их всех боялся. Но ему никогда не приходило в голову драться с клиентами или перечить им. На их стороне была сила, на его стороне — нет. К тому же брат Лука слишком хорошо его вышколил. Он был слишком послушен. Он был, как заставил его признаться доктор Трейлор, хорошей проституткой.
Каждый день повторялось одно и то же, и хотя секс был не ужаснее, чем то, с чем ему приходилось иметь дело и раньше, он не сомневался, что это прелюдия, что рано или поздно он перерастет во что-то очень плохое, очень странное. Он слышал рассказы брата Луки — и видел на видео, — что люди делают друг с другом: какие предметы используют, какие инструменты, какое оружие. Несколько раз он сам с этим сталкивался. Но он знал, что во многих отношениях ему повезло; он был избавлен от самого страшного. Ужас неизвестности был во многих смыслах хуже, чем ужас собственно секса. По ночам он воображал то, что не умел вообразить, и начинал задыхаться в панике, и его одежда — уже другая, но по-прежнему чужая — становилась влажной от холодного пота.
В конце одного из сеансов он попросил у доктора Трейлора разрешения уйти. «Пожалуйста, — сказал он. — Прошу вас». Но доктор Трейлор сказал, что обеспечил ему десять дней гостеприимства и он должен отплатить за них. «А потом я смогу уйти?» — спросил он, но доктор уже закрывал за собой дверь.
На шестой день своей отработки он придумал план. Была секунда или две — не больше, — когда доктор Трейлор закладывал кочергу под левую руку и расстегивал ремень правой рукой. Если рассчитать точно, он сможет ударить доктора книгой в лицо и попытаться выбежать. Это потребует от него отчаянной быстроты и ловкости.
Он изучил книги на полках и в очередной раз пожалел, что среди них нет ни одного издания в твердой обложке, только толстые мягкие кирпичи. Он понимал, что маленькая книга произведет действие, сравнимое с пощечиной, и с ней легче будет управляться, поэтому в конце концов выбрал томик «Дублинцев»: книга была достаточно тонкая, чтобы ловко ее ухватить, достаточно гибкая, чтобы ударить ею по лицу. Он упихал ее под матрас, но тут же понял, что хитрить совершенно незачем — можно просто положить ее на расстоянии вытянутой руки. Так он и сделал и стал ждать.
А потом явился доктор Трейлор с кочергой, и стоило ему начать расстегивать ремень, как он подпрыгнул и ударил его по лицу изо всех сил и услышал и почувствовал, как доктор закричал, и кочерга с грохотом упала на цементный пол, и рука доктора уцепилась за его щиколотку, но ему удалось отбрыкаться и вскарабкаться наверх по ступенькам, рвануть на себя дверь и побежать. У входной двери он увидел хитросплетения замков и, чуть не плача, негнущимися пальцами расшвырял задвижки туда и сюда, и вот оказался снаружи, и побежал, побежал так быстро, как никогда раньше не бегал. Ты справишься, ты справишься, кричал голос у него в голове, для разнообразия решивший его подбодрить, и потом лихорадочно твердил: быстрей, быстрей, быстрей! По мере его выздоровления порции еды, которые выдавал ему доктор Трейлор, становились все меньше, отчего он постоянно был слаб и чувствовал усталость, но сейчас он был бодр, он был настороже, он бежал и звал на помощь. Но, не прерывая бега, не прекращая кричать, он начинал осознавать, что никто не услышит его призывов: вокруг не было видно никакого другого обиталища; он надеялся, что там будут деревья, но их не было, только голые поля, среди которых негде было спрятаться. Тут он почувствовал, как ему холодно и как в подошвы что-то впивается, но все равно продолжал бежать.
А потом он услышал за собой звук приближающихся шагов на дороге и знакомое позвякивание и понял, что это доктор Трейлор. Тот даже не кричал, не угрожал, но когда он повернулся, чтобы посмотреть, близко ли доктор — а доктор был очень близко, всего в нескольких ярдах позади, — он споткнулся и упал, ударившись щекой об асфальт.
После падения из него ушла вся энергия, словно стайка птиц вспорхнула с шумом и мигом улетела, и он понял, что позвякивал расстегнутый ремень доктора Трейлора, который он теперь вытаскивал из штанов, чтобы отхлестать его, и он сжался, и ремень ударил его снова, и снова, и снова. За все это время доктор не произнес ни слова, и он не слышал ничего, кроме его дыхания, разгоряченных вдохов и выдохов, в такт которым ремень все сильнее ударял по его спине, ногам, шее.
В доме экзекуция продолжилась, и на протяжении следующих дней, следующих недель доктор продолжал его избивать. Не регулярно — он никогда не знал, когда это случится опять, — но достаточно часто, чтобы от побоев и от нехватки еды он постоянно чувствовал головокружение, слабость; он понимал, что у него никогда не хватит сил на новый побег. Как он и опасался, в сексе тоже все стало хуже, и он был вынужден делать такие вещи, о которых потом никогда не мог говорить — ни с кем, даже с самим собой; жутким секс был не всегда, но достаточно часто, чтобы держать его в постоянном мареве страха и в уверенности, что он умрет в доме доктора Трейлора. Однажды ему приснилось, что он мужчина, настоящий взрослый, но по-прежнему сидит в подвале и ждет доктора Трейлора, и он понимал во сне, что с ним что-то случилось, что он лишился рассудка, что он стал таким, как его сосед в детском доме, и, проснувшись, он молился о скорейшей смерти. Когда он спал днем, ему снился брат Лука, и, пробуждаясь от этих снов, он понимал, как надежно Лука его всегда защищал, как хорошо с ним обращался, как был к нему добр. Тогда он доковылял до верха деревянной лестницы и бросился вниз, а потом снова вскарабкался и бросился снова.
А потом однажды (через три месяца? через четыре? Ана позже скажет ему, что, по словам доктора Трейлора, с момента, когда он нашел его на заправке, прошло двенадцать недель) доктор Трейлор сказал:
— Я устал от тебя. Ты грязный и отвратительный, я хочу, чтобы ты убрался.
Он не поверил своим ушам, но потом сообразил, что надо ответить.
— Хорошо, — сказал он, — хорошо, я сейчас же уйду.
— Нет, — сказал доктор Трейлор, — как я захочу, так ты и уйдешь.
Несколько дней не происходило ничего, и он решил, что это тоже была ложь, и порадовался, что не позволил себе уж слишком вознадеяться, что научился наконец-то распознавать неправду. Доктор Трейлор теперь давал ему еду на газете, и однажды он посмотрел на дату и понял, что это его день рождения. «Мне пятнадцать», — сообщил он тихой комнате и, услыхав собственные слова — надежды, фантазии, небылицы, которые скрывались за этими словами и про которые знал он один, — почувствовал, что его мутит. Но он не заплакал: способность не плакать была его единственным достижением, единственным поводом для гордости.
А потом однажды ночью доктор Трейлор спустился вниз со своей кочергой. «Вставай», — сказал он и толкал его кочергой в спину, пока он карабкался по ступенькам, падая на колени, поднимаясь, снова спотыкаясь и вставая. Тычки продолжались до самой входной двери, которая была чуть приоткрыта, а потом его вытолкали наружу, в ночь. Было все еще холодно, все еще сыро, но даже сквозь пелену страха он понимал, что погода меняется, что хотя время для него остановилось, оно не остановилось для остального мира, где времена года менялись с равнодушной методичностью; он чувствовал, что воздух зеленеет. Рядом с ним рос голый куст с черной веткой, но на самом ее кончике распускались бубоны светло-сиреневого цвета, и он уставился на них, пытаясь впитать эту картинку, удержать ее в памяти, прежде чем его снова толкнут в спину.
Возле автомобиля доктор Трейлор открыл багажник и снова ткнул его кочергой, а он издавал всхлипывающие звуки, но не плакал и забрался внутрь, хотя он так ослаб, что доктору Трейлору пришлось ему помочь, ухватив пальцами рукав его рубашки, так, чтобы к нему самому не прикасаться.
Они тронулись с места. Багажник был чистый и просторный, и он катался по нему, чувствуя, как они огибают углы, едут в горку и вниз, а потом по долгим участкам ровной, прямой дороги. А потом они резко свернули налево, его потрясло по неровной дороге, и машина остановилась.
Некоторое время — три минуты, он считал — ничего не происходило; он прислушивался, но не слышал ничего, кроме собственного дыхания, стука собственного сердца.
Багажник открылся, и доктор Трейлор помог ему вылезти, ухватившись за его рубашку, и кочергой вытолкал его к капоту автомобиля. «Стой здесь», — сказал он и оставил его перед капотом, и он стоял и дрожал, глядя, как доктор садится обратно в машину, опускает стекло, выглядывает из окна и смотрит на него.
— Беги, — сказал доктор, а он стоял, неподвижный, застывший, — ты же так любишь бегать, да? Ну вот беги.
И доктор Трейлор завел двигатель, и он наконец очнулся и побежал.
Они были в поле, на большом пустом лоскуте грязи, где через несколько недель должна была вырасти трава, но пока что не было ничего, кроме неглубоких луж, покрытых тонкой коркой льда, ломавшейся под его босыми ногами, как черепки, и маленьких белых камней, сиявших как звезды. В середине поле было чуть вогнуто, а справа проходила дорога. Он не видел, большая или нет, видел только, что она есть, но машины по ней не проезжали. Слева поле было обнесено проволокой, но эта граница была далеко, и ему не было видно, что за проволокой.
Он бежал, и автомобиль следовал за ним по пятам. Поначалу было даже приятно бежать, быть на воздухе, вдали от того дома: даже это, даже стекляшки льда под ногами, ветер, бьющий в лицо, прикосновение бампера к икрам — даже все это было лучше, чем тот дом, чем комната со шлакобетонными стенами и таким маленьким окном, что и окном-то его не назовешь.
Он бежал. Доктор Трейлор следовал за ним, иногда ускоряясь, и тогда он бежал быстрее. Но он не мог бегать так, как бегал когда-то, так что он падал и потом снова падал. Каждый раз, когда он падал, автомобиль притормаживал, а доктор Трейлор кричал — не злобно и даже не громко: «Вставай. Вставай и беги, вставай и беги, а то вернемся в дом», — и он заставлял себя вставать и бежать.
Он бежал. Он не знал тогда, что бежит последний раз в жизни, и много позже размышлял: если бы я тогда это знал, смог бы я бежать быстрее? Но, конечно, это был невозможный вопрос, не-вопрос, неразрешимая аксиома. Он падал снова и снова, и на двенадцатый раз он двигал губами, пытаясь что-то сказать, но ничего не выходило. «Вставай, — услышал он, — вставай. Следующее падение будет последним», — и он снова встал.
К этому моменту он уже не бежал, он шел, спотыкаясь, ковылял от машины, и машина ударяла его все сильнее и сильнее. Пусть это прекратится, думал он, пусть прекратится. Он вспомнил — кто ему это рассказал? кто-то из братьев, но кто? — историю про жалкого маленького мальчика, мальчика, сказали ему, который оказался в обстоятельствах гораздо худших, чем у него, который долго был хорошим ребенком (в чем опять-таки отличался от него) и однажды ночью стал молить Бога, чтобы Он его забрал: я готов, сказал мальчик из этого рассказа, я готов, и ангел, страшный и златокрылый, ангел с огненными глазами явился, обернул мальчика своими крылами, и мальчик превратился в пепел и исчез, освободился от бренного мира.
Я готов, сказал он, я готов, и приготовился к явлению ангела страшной, пугающей красоты, который придет и спасет его.
Упав в последний раз, он не смог подняться. «Вставай! — слышал он крик доктора Трейлора. — Вставай!» Но он не мог встать. А потом он услышал, как двигатель опять зарычал, и почувствовал, как приближаются фары — два огненных снопа, как глаза ангела, и отвернулся в ожидании, и машина подъехала к нему и потом проехала по нему, и дело было сделано.
И это был конец. После этого он стал взрослым. Пока он лежал в больнице, а Ана сидела рядом, он давал себе обещания. Он оценивал сделанные ошибки. Он никогда не понимал, кому доверять, и следовал за каждым, кто был к нему хоть капельку добр. Но после всего случившегося он решил, что будет вести себя иначе. Он больше не будет так легко доверять людям. Он больше не будет заниматься сексом. Он больше не будет ждать, что его спасут.
«Так плохо уже не будет никогда, — говорила ему в больнице Ана. — Никогда тебе больше не будет так плохо», — и хотя он понимал, что она говорит про физическую боль, ему хотелось думать, что она имеет в виду жизнь вообще: что с каждым годом дела будут идти все лучше. И она была права: жизнь налаживалась. И брат Лука тоже был прав, потому что, когда ему исполнилось шестнадцать, его жизнь изменилась. Через год после доктора Трейлора он учился в колледже, о котором мечтал; с каждым днем, проведенным без секса, он все больше очищался. Год за годом его жизнь становилась все невероятнее. С каждым годом его удача множилась и крепла, и он снова и снова изумлялся щедрости даров, которые ему достались, людям, которые входили в его жизнь, таким непохожим на известных ему людей, что они казались совершенно другим видом — как, как можно причислить к одному классу существ доктора Трейлора и Виллема? Отца Гавриила и Энди? Брата Луку и Гарольда? Неужели то, что было у первых, было и у вторых, и если да, как эти вторые смогли сделать свой выбор, как они выбрали, кем стать? Жизнь не просто наладилась, она пошла в противоположном направлении, в степени почти абсурдной — от полного нуля к непристойному изобилию. Тогда он припоминал утверждение Гарольда, будто жизнь воздает за причиненный ею же ущерб, и признавал его правоту, хотя иногда казалось, что тут уже речь не просто о компенсации: его собственная жизнь как будто умоляла о прощении, осыпала сокровищами, окружала прекрасным, чудесным, желанным, чтобы он ее не ненавидел, чтобы позволил ей и дальше вести его. Так что с течением времени он снова и снова нарушал данные себе когда-то обещания. Он все-таки следовал за людьми, которые были добры к нему. Он все-таки снова позволял себе довериться людям. Он все-таки снова занимался сексом. Он все-таки надеялся на спасение. И это было правильно — не в каждом случае, конечно, но в большинстве случаев. Он отвернулся от уроков прошлого и чаще, чем следовало, бывал за это вознагражден. Он не жалел ни о каком из нарушенных обещаний, даже про секс, потому что занимался им с надеждой и для того, чтобы порадовать другого человека, человека, который давал ему все.
Однажды вечером, вскоре после того, как они с Виллемом стали настоящей парой, они оказались на ужине у Ричарда; это было шумное, неформальное сборище любимых и приятных им людей: Джей-Би и Малкольм, и Черный Генри Янг, и Желтый Генри Янг, и Федра, и Али, и все их спутники и спутницы, мужья и жены. Он был на кухне, помогал Ричарду приготовить десерт, и вошел Джей-Би, слегка навеселе, обхватил его рукой за шею и поцеловал в щеку.
— Смотри, Джуди, — сказал он, — все-то ты подгреб под себя в результате, а? Карьеру, деньги, квартиру, мужика. Как это тебе так повезло? — Джей-Би широко улыбался, и он улыбнулся в ответ. Он был рад, что Виллем не слышит эту тираду, потому что знал: Виллем разозлится на зависть Джей-Би — он так это воспринимал, — на его убеждение, что жизнь у всех есть и была легче, чем у него, и что он, Джуд, как-то особенно обласкан судьбой.
Но он воспринимал это иначе. Он знал, что отчасти Джей-Би таким манером иронизирует, поздравляет его с удачей, действительно избыточной, это ясно им обоим, но от этого еще более ценной. И, говоря начистоту, зависть Джей-Би ему льстила: для Джей-Би он не калека, которому баснословно повезло с воздаянием за невзгоды, нет, он — ему ровня, и Джей-Би, глядя на него, находит исключительно поводы для зависти, а не для жалости. Плюс ко всему Джей-Би прав: как это ему так повезло? Как он приобрел все, что у него теперь есть? Он никогда не узнает; он всегда будет недоумевать.
— Сам удивляюсь, Джей-Би, — сказал он, вручая ему первый кусок пирога и улыбаясь доносящемуся из столовой голосу Виллема, который что-то рассказывал, сопровождаемый взрывами смеха всех остальных, звуками чистой радости. — Но понимаешь какое дело, мне всю жизнь везет.
3
Женщину зовут Клодин, она подруга подруги одной знакомой, ювелир, что для него скорее отклонение от нормы: обычно он спит только с коллегами из мира кино, они более привычны к временным отношениям, легче их прощают.
Ей тридцать три, у нее длинные волосы — темные, чуть светлее на кончиках, очень маленькие руки, руки ребенка, на которых она носит кольца собственного изготовления: темное золото, сверкающие камни; перед сексом она снимает их в последнюю очередь, как будто именно кольца, а не белье, скрывают самые сокровенные части ее тела.
Они спят вместе — не встречаются, а именно спят, потому что он ни с кем не встречается — почти два месяца, и это тоже отклонение, он знает, что скоро придется положить этому конец. Он сказал ей с самого начала, что это будет только секс, что он любит другого человека и не сможет оставаться на ночь, никогда, и она ответила, что ее это устраивает, она и сама влюблена в другого человека. Но он не видел в ее квартире следов другого мужчины, и когда бы он ни написал ей сообщение, она всегда свободна. Еще один тревожный знак: скоро придется заканчивать.
Он целует ее в лоб, садится в постели.
— Мне пора, — говорит он.
— Нет, — отвечает она, — побудь еще немного.
— Не могу, — говорит он.
— Пять минут.
— Пять, — соглашается он и снова ложится. Но через пять минут снова целует ее в щеку. — Мне действительно пора.
Она издает протестующее, недовольное ворчание и переворачивается на бок.
Он идет в ее ванную, принимает душ, полощет рот, возвращается, снова целует ее.
— Я тебе позвоню, — говорит он, с отвращением отмечая, что словарь его сократился до одних клише. — Спасибо, что разрешила прийти.
Дома он молча проходит по темной квартире, в спальне снимает с себя одежду, со стоном ложится в постель, обхватывает руками Джуда, который просыпается и смотрит на него.
— Виллем, — говорит он, — ты дома.
И Виллем целует его, стараясь унять чувство вины и печаль, которые охватывают его, когда он слышит это облегчение и счастье в голосе Джуда.
— Конечно, — говорит он. Он всегда приходит домой, он ни разу не нарушил это правило. — Прости, что так поздно.
Стоит жаркая ночь, воздух влажен и неподвижен, и все-таки он прижимается к Джуду, как будто пытаясь согреться, оплетает ноги Джуда своими. Завтра, говорит он себе, я расстанусь с Клодин.
Они никогда это не обсуждали, но он знает, что Джуд знает, что он спит с другими людьми. Джуд сам разрешил ему. Это случилось после того ужасного Дня благодарения — тогда после нескольких лет умолчаний Джуд рассказал ему все, и обрывки облаков, всегда заслонявших от него Джуда, внезапно развеялись. Много дней он не знал, что ему делать (кроме как самому снова бежать со всех ног к психотерапевту — он позвонил своему на другой день после того, как Джуд назначил первую встречу с доктором Ломаном), и стоило ему взглянуть на Джуда, к нему возвращались обрывки того разговора, и он украдкой разглядывал Джуда и дивился, как тому удалось пройти этот путь, от того, кем он был, до того, кем он стал теперь, поражаясь, что Джуд стал тем, кто он есть, тогда как все в его жизни должно было этому воспрепятствовать. Чувства, которые он испытывал — трепет, почтение, ужас, отчаяние, — скорее годились для божества, чем для другого смертного, особенно такого, которого знаешь лично.
— Я знаю, что ты чувствуешь, Виллем, — сказал Энди во время одной из их тайных бесед, — но он не хочет, чтобы ты им восхищался, он хочет, чтобы ты видел его таким, как он есть. Он хочет, чтобы ты сказал ему, что его жизнь — при всей своей невероятности — все-таки жизнь. — Он помедлил. — Понимаешь?
— Да, — сказал он.
В первые ужасные дни после рассказа Джуда он чувствовал, как Джуд затихает в его присутствии, словно старается не привлекать к себе внимания, словно боится напомнить Виллему о том, что тот узнал. Однажды вечером, примерно через неделю после того разговора, они сидели в квартире за молчаливым ужином, и Джуд вдруг тихо сказал:
— Ты даже не можешь больше смотреть на меня.
Он тогда взглянул на него, увидел бледное, испуганное лицо и, не отрывая глаз, придвинул свой стул вплотную к стулу Джуда.
— Прости, — пробормотал он. — Я боюсь сказать какую-нибудь глупость.
— Виллем, — сказал Джуд. — Мне кажется, я получился довольно нормальным, учитывая все обстоятельства. Разве нет?
Виллем слышал, что голос его звенит от страха и надежды.
— Нет, — сказал он, и Джуд дернулся. — Я думаю, ты получился необыкновенным, хоть учитывай обстоятельства, хоть нет.
И Джуд наконец улыбнулся.
В ту ночь они обсуждали, как им быть.
— Боюсь, что тебе от меня не избавиться, — начал он и, увидев облегчение на лице Джуда, отругал себя мысленно: надо было раньше сказать, что он остается. Потом он заставил себя обсудить физиологические вопросы: как далеко он может заходить, чего Джуд не хочет.
— Мы можем делать все, чего тебе хочется, Виллем, — сказал Джуд.
— Но тебе это не нравится.
— Но я должен сделать это для тебя.
— Нет, — сказал он, — ты не должен делать это для меня, и, кроме того, ты мне вообще ничего не должен. — Он замолчал. — Если что-то не возбуждает тебя, то и мне это не нужно, — сказал он, хотя, к своему стыду, он до сих пор хотел Джуда. Он больше не будет заниматься с ним сексом, раз Джуд этого не хочет, но это не значит, что он может вот так сразу перестать этого желать.
— Но ты стольким пожертвовал, чтобы быть со мной, — сказал Джуд после паузы.
— Например? — спросил он с любопытством.
— Нормальностью. Социальной приемлемостью. Легкостью жизни. Даже кофе. Я не могу добавить к этому списку еще и секс.
Они говорили и говорили, и он наконец смог убедить Джуда, заставить его описать, какой физический контакт ему нравится. (Получилось не густо.)
— Но что ты будешь делать? — спросил Джуд.
— Обо мне не беспокойся, — ответил он, сам не зная, что имеет в виду.
— Ты знаешь, Виллем, — сказал Джуд, — ты, конечно же, должен спать с другими людьми. Я только… — Его голос дрогнул. — Понимаю, это эгоистично, но я не хотел бы об этом знать.
— Это вовсе не эгоистично, — сказал он, потянувшись, чтобы обнять его. — Конечно, Джуд.
Это было восемь месяцев назад, и за эти восемь месяцев все стало лучше: конечно, думал Виллем, это была несколько другая версия «лучше», не та, в которой он притворялся, что все хорошо, и игнорировал все неудобные факты и подозрения, свидетельствовавшие об обратном; теперь стало лучше на самом деле. Он видел, что Джуд по-настоящему расслабился, стал менее физически застенчив, более ласков, и все это происходило потому, что Виллем освободил его от того, что Джуд считал своим долгом. Он намного реже себя резал. Теперь ему не нужно было спрашивать Гарольда и Энди, улучшилось ли состояние Джуда, он знал, что да. Единственная трудность заключалась в том, что он все еще хотел Джуда, и ему приходилось постоянно напоминать себе о приемлемых для Джуда границах, заставлять себя останавливаться и не заходить за эти границы. В такие минуты он сердился, но не на Джуда и даже не на себя — он никогда не чувствовал себя виноватым в том, что хочет секса, и сейчас тоже не чувствовал вины, — он сердился на жизнь, которая заставила Джуда бояться того, что для него самого всегда было только удовольствием.
Он был очень осторожен и выбирал людей (или, скорее, женщин: это почти всегда были женщины), про которых он чувствовал или знал по предыдущему опыту, что их интересует только секс и что они будут держать язык за зубами. Они часто не могли разобраться в деталях, и он их не винил. «Разве ты не живешь с мужчиной?» — спрашивали они, и он отвечал, да, живу, но у нас открытые отношения. «Значит, ты на самом деле не гей?» — спрашивали они, и он говорил: «Нет, не обязательно». Женщины помладше принимали это как должное: у них были уже любовники, которые спали с мужчинами; сами они спали с другими женщинами. «Вот как», — говорили они, и на этом разговор заканчивался; если у них и оставались какие-то вопросы, они их не задавали. Эти женщины помладше — актрисы, гримерши, костюмерши — тоже не хотели вступать с ним в серьезные отношения, зачастую они вообще не хотели никаких отношений. Иногда женщины спрашивали его о Джуде: как они познакомились и все в таком духе — и он отвечал им, и чувствовал себя не в своей тарелке, и скучал о нем.
Но он стойко защищал свою домашнюю жизнь от этой второй жизни. Однажды в колонке сплетен промелькнула заметка без имен — ее переслал ему Кит, — которая явно относилась к нему, и, поразмышляв, говорить ли Джуду, он в конце концов решил не говорить; Джуд никогда ее не увидит, и совершенно ни к чему заставлять Джуда сталкиваться в реальности с тем, о чем он знал только в теории.