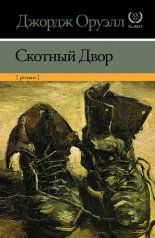Маленькая жизнь Янагихара Ханья

— Тогда я тебя понесу, — тотчас же отозвался Джуд, и Виллем улыбнулся. — Или наймем ослика, и он тебя повезет. Но, Виллем, правда, этот путь нужно пройти, а не проехать, в этом весь смысл.
Чем старше они становились, тем было яснее, что эта мечта Джуда так и останется просто мечтой, и потому их фантазии о Пути святого Иакова обрастали все более изощренными подробностями.
— Или вот такой сюжет, — говорил Джуд. — Четверо странников — даосская монахиня из Китая, которая пытается свыкнуться со своей сексуальной ориентацией, британский поэт, которого недавно выпустили из тюрьмы, бывший торговец оружием из Казахстана, который оплакивает умершую жену, и чувствительный, но неуравновешенный студент, который бросил учебу (это будешь ты, Виллем), — встречаются на Пути святого Иакова и становятся друзьями на всю жизнь. Съемки будут проходить в режиме реального времени, поэтому они займут ровно столько же, сколько и сам путь. И вам все время придется идти.
К этому времени он уже покатывался со смеху.
— И чем все закончится? — спрашивал он.
— Даосская монахиня влюбится в израильтянку, бывшего армейского офицера, которую встретит по дороге, они вдвоем вернутся в Тель-Авив и откроют там лесбийский бар под названием «У Рэдклифф». Бывший заключенный сойдется с торговцем оружием. А твой персонаж встретит невинную, но в душе шлюховатую девчонку из Швеции, и они вместе откроют модный бед-энд-брекфаст в Пиренеях, и каждый год все они будут там встречаться.
— И как будет называться фильм? — хохоча, спросил он.
Джуд задумался.
— «Сантьяго-блюз», — ответил он, и Виллем снова расхохотался.
С тех пор они то и дело вспоминали «Сантьяго-блюз», персонажи которого менялись и взрослели вместе с ними, но и сюжет, и место съемки оставались неизменными.
— Как сценарий? — спрашивал Джуд, когда ему предлагали что-то новое, и он вздыхал.
— Сойдет, — отвечал он. — Не «Сантьяго-блюз», конечно, но сойдет.
Но однажды, вскоре после того решающего Дня благодарения, Кит, которому Виллем как-то рассказал об их с Джудом интересе к Пути святого Иакова, прислал ему сценарий с лаконичной припиской: «Сантьяго-блюз!» Ну, конечно, это не был совсем уж «Сантьяго-блюз» — слава богу, решили они с Джудом, этот фильм был гораздо лучше, — но его действие тоже происходило на Пути святого Иакова, и съемки тут тоже велись частично в реальном времени, и начинался фильм тоже в Пиренеях, в Сен-Жан-Пье-де-Пор, а заканчивался в Сантьяго-де-Компостела. Героями «Звезд над Сантьяго» были двое мужчин, оба — по имени Павел, и обоих должен был играть один и тот же актер: первый Павел жил в шестнадцатом веке, накануне Реформации, и шел в Сантьяго из Виттенберга, второй — современный пастор из маленького американского городка, усомнившийся в своей вере. За исключением нескольких второстепенных персонажей, которые будут мелькать в жизни обоих Павлов, его роль будет единственной ролью в фильме.
Он дал Джуду почитать сценарий, и Джуд, прочитав, вздохнул.
— Гениально, — с грустью сказал он. — Как бы мне хотелось поехать туда с тобой, Виллем.
— И мне, — тихо сказал он.
Как бы ему хотелось, чтобы у Джуда нашлась мечта попроще, мечта, которая могла бы исполниться, мечта, которую он помог бы ему исполнить. Но Джуд всегда мечтал только о движении: ему все хотелось или осилить невозможное расстояние, или освоить какую-нибудь гористую местность. Конечно, теперь он мог ходить и боль мучала его куда меньше — а такого Виллем уже давно не помнил, — но они оба знали, что жизни без боли у него никогда не будет. Невозможное останется невозможным.
Он поужинал с Эмануэлем, молодым испанским режиссером, который, несмотря на свой возраст, уже успел прославиться и, хоть и собирался снимать сложный и меланхоличный фильм, сам оказался человеком бодрым и веселым — он все изумленно восклицал, что и не думал, что Виллем будет у него сниматься, ведь он давно мечтал с ним поработать. Он, в свою очередь, рассказал Эмануэлю о «Сантьяго-блюз» (Эмануэль расхохотался, когда Виллем пересказал ему сюжет.
— Неплохо! — сказал он, и Виллем тоже рассмеялся.
— Ну нет, мы специально придумывали плохой фильм, — поправил он).
Он рассказал ему о том, как Джуд всегда хотел пройти этой дорогой и какой для него почет — пройти этот путь за Джуда.
— Ага, — озорно сказал Эмануэль, — это тот самый человек, ради которого вы загубили карьеру? Я прав?
Он улыбнулся в ответ.
— Да, — сказал он. — Тот самый.
Дни на съемках «Звезд над Сантьяго» тянулись медленно, как Джуд и предрекал, им пришлось много ходить (вместо осликов за ними медленно полз караван трейлеров). Сеть часто пропадала, поэтому Джуду он не звонил, а писал сообщения, казалось, что так даже лучше, так больше подобает пилигриму, а по утрам слал ему фотографии своего завтрака (черный хлеб с тмином, огурцы и йогурт) и отрезка дороги, который ему сегодня предстоит пройти. Большая часть пути пролегала сквозь шумные города, поэтому иногда им приходилось искать обходные дороги. Каждый день он подбирал с обочины пару белых камешков и складывал их в банку, чтобы отвезти домой, а по ночам сидел в гостиничных номерах, обернув ноги нагретыми полотенцами.
Съемки закончились за две недели до Рождества, и он вылетел в Лондон, где у него было назначено несколько встреч, а оттуда — в Мадрид, где они с Джудом встретились, арендовали машину и поехали через Андалусию на юг. Они заехали в городок на высоком утесе, чтобы встретиться с Желтым Генри Янгом, и смотрели, как он карабкается в гору, — когда он их увидел, то замахал обеими руками и последние сто ярдов одолел в спринтерском забеге.
— Слава богу, вы дали мне повод выбраться из этого дурдома, — сказал он.
Генри уже месяц жил в резиденции для художников у подножья холма, в долине, среди апельсиновых деревьев, но, что для него было совсем нехарактерно, на дух не переносил всех шестерых жителей коммуны. Они ели апельсиновые кругляши, посыпанные корицей, толченой гвоздикой и миндалем, которые плавали в ликере, сделанном из апельсинового же сока, и хохотали над рассказами Генри Янга о его коллегах-художниках. Попрощавшись с Генри и пообещав увидеться с ним в Нью-Йорке через месяц, они неторопливо обошли средневековый городок, где каждый дом был сверкающим соляным кубом и где, помахивая хвостами, на улицах лежали полосатые кошки, а мимо них шли люди, неспешно толкая тележки.
На следующий вечер, когда они подъезжали к Гранаде, Джуд сказал, что приготовил для него сюрприз, и они сели в машину, которая ждала их возле ресторана, а в руках у Джуда был коричневый конверт, с которым он весь ужин не расставался.
— Куда мы едем? — спросил он. — Что в конверте?
— Увидишь, — ответил Джуд.
Они проехали по холмистой дороге и остановились перед аркой, ведущей в Альгамбру, где Джуд вручил охраннику письмо — тот внимательно изучил его и кивнул, машина проскользнула внутрь, остановилась, они вылезли и очутились в тихом внутреннем дворике.
— Это все твое, — застенчиво сказал Джуд, кивнув в сторону зданий и садов. — Ну, на три часа точно. — И затем, поскольку Виллем потерял дар речи, тихонько добавил: — Помнишь?
Он еле заметно кивнул.
— Конечно, — так же тихо ответил он.
Именно так и должен был закончиться их путь до Сантьяго: они садятся на поезд и едут на юг, в Альгамбру. Столько лет прошло, но он, зная, что им не суждено пройти этот путь, так ни разу и не был в Альгамбре, не выкроил денек от каких-нибудь съемок, чтобы туда съездить, потому что ждал того дня, когда Джуд сможет поехать вместе с ним.
— Один клиент, — сказал Джуд, он и вопрос задать не успел. — Вот так — защищаешь кого-нибудь, а потом оказывается, что его крестный — министр культуры Испании, который в обмен на твое щедрое пожертвование на ремонт и благоустройство Альгамбры разрешает тебе посетить ее в одиночестве. — Он улыбнулся Виллему. — Говорил я тебе, что на твой день рождения мы что-нибудь грандиозное устроим — правда, полтора года спустя. — Он положил руку Виллему на плечо. — Виллем, не плачь.
— Я и не собирался, — ответил он, — я вообще много чего умею, не только плакать. — Хотя сам он в этом больше не был уверен.
Он открыл конверт, который ему протянул Джуд, — внутри оказался сверток, он развязал ленточку, сорвал обертку и раскрыл книгу ручной работы, разделенную на главы — «Алькасаба», «Дворец львов», «Сады», «Хенералифе», а в каждой главе — заметки Малкольма, написанные от руки, потому что Малкольм писал по Альгамбре диссертацию и с девятилетнего возраста приезжал сюда каждый год. Между главами были рисунки отдельных частей ансамбля — цветущий жасминовый куст в мелких белых цветочках, каменный фасад, разграфленный кобальтовой плиткой, — все они были вклеены в книгу, все посвящены ему и подписаны знакомыми именами: Ричард, Джей-Би, Индия, Желтый Генри Янг, Али. Вот теперь он и вправду расплакался, улыбаясь сквозь слезы, и Джуду пришлось сказать, что им бы пора и двигаться, не могут же они все время, рыдая, простоять в воротах, и тогда он схватил его в охапку и поцеловал, не обращая никакого внимания на молчаливых охранников в черном у него за спиной.
— Спасибо, — сказал он. — Спасибо, спасибо, спасибо!
И они пошли внутрь, сквозь тихую ночь, и перед ними бежала полоска света от фонарика Джуда. Они заходили во дворцы, где мрамор был таким старым, что все здание казалось высеченным из нежнейшего белого масла, в залы со сводчатыми потолками — такими высокими, что под ними беззвучно реяли птицы, и с такими симметрично и идеально прорубленными окнами, что в комнате было светло от лунного света. Они шли, то и дело останавливаясь, чтобы свериться с записками Малкольма, чтобы разглядеть детали, которые иначе они непременно бы упустили, чтобы понять, что стоят в комнате, где тысячу лет назад, а то и больше, султан диктовал письма. Они изучали иллюстрации, сличали рисунки с тем, что видели собственными глазами. Каждый рисунок их друзей предваряла записка, в которой они рассказывали, когда впервые увидели Альгамбру и почему решили нарисовать именно это. Их охватило то же чувство, которое часто охватывало их в молодости, — что все их знакомые уже повидали мир, а они еще нет, теперь это, конечно, было далеко не так, но они все равно с таким же благоговением взирали на жизни друзей, на то, сколько они всего сделали и пережили, на то, как прекрасно они умели это ценить, как талантливо умели запечатлеть. В садах Хенералифе они забрели в просвет, прорезанный в лабиринте кипарисовой живой изгороди, и там он начал целовать Джуда — настойчиво, чего он себе уже давно не позволял, хотя они и слышали вдалеке шаги охранника, который прохаживался по каменной дорожке.
Вернувшись в отель, они продолжили целоваться, и он подумал, что если бы это был фильм, то сейчас они бы занялись сексом, и он едва, едва не сказал это вслух, но потом опомнился, остановился, отодвинулся от Джуда. Но все равно казалось, будто он сказал это вслух, потому что сначала они просто молчали, глядя друг на друга, а потом Джуд тихонько произнес:
— Виллем, можно, если хочешь.
— А ты хочешь? — наконец спросил он.
— Конечно, — сказал Джуд, но Виллем видел, как он отвел взгляд, слышал, как он слегка осекся, и понял, что он лжет.
Буквально на секунду он решил, что притворится, что позволит себе поверить, будто Джуд говорит правду. Но не смог. И сказал:
— Нет, — откатываясь от него. — Хватит нам впечатлений на один вечер.
Он услышал, как Джуд выдохнул, а засыпая, услышал его шепот: «Прости, Виллем», — и хотел было сказать Джуду, что все понимает, но к тому времени он уже почти спал и не смог ничего выговорить.
Но то было единственным огорчением за всю поездку, да и причина этого огорчения была совсем в другом: он знал, что Джуд огорчается, потому что чувствует, что его подвел, потому что он уверен — и в этом Виллем никак не мог его разубедить, — что не выполняет свой долг. Огорчался он из-за самого Джуда. Иногда Виллем задумывался о том, какая у Джуда была бы жизнь, если бы ему самому пришлось открывать для себя секс, а не узнавать, что это такое, насильно — но об этом думать было бесполезно, он сразу расстраивался. И старался вовсе об этом не думать. Но мысль эта никуда не исчезала, она пересекала всю их дружбу, их жизни, будто бирюзовая развилистая жилка — камень.
Зато у них была нормальность, повседневность — это было куда лучше секса и возбуждения. Они поняли, что в тот вечер Джуд ходил — медленно, но не спотыкаясь — целых три часа. В Нью-Йорке их ждала жизнь, привычные дела, которые снова шли своим чередом, потому что у Джуда теперь были на них силы, потому что теперь он мог высидеть пьесу, ужин или оперу и не уснуть, потому что теперь он мог подняться по лестнице ко входной двери дома Малкольма на Коббл-Хилл, мог дойти по брусчатому тротуару до здания на Винегар-Хилл, где жил Джей-Би. Можно было с облегчением слышать, как у Джуда в пять тридцать утра звонит будильник, как он поднимается и идет плавать, можно было с облегчением заглянуть в коробку на кухонной стойке и увидеть, что она набита медикаментами, которые Джуд вернет Энди, а тот — передаст в больницу: запасными трубками для катетера, бинтами, остатками высококалорийных белковых смесей, прием которых Энди только недавно отменил. В эти минуты он вспоминал, как ровно два года назад возвращался из театра и глядел на спящего Джуда, до того хрупкого, что казалось, будто катетер у него под рубашкой — на самом деле артерия, что он будет неизменно и неуклонно усыхать, пока от него не останутся одни нервы, сосуды и кости. Иногда он вспоминал то время и слегка терялся: это что же, вот эти люди — это и вправду были они? Куда же они тогда подевались? Не объявятся ли снова? Или теперь они все-таки стали совсем другими людьми? И тогда он воображал, что те люди не столько исчезли, сколько затаились у них внутри, в ожидании того момента, когда можно будет выскочить, потребовать назад свои тела — у этих личностей наступила ремиссия, но они навсегда останутся с ними.
Еще недавно болезнь была таким частым их гостем, что они до сих пор с благодарностью проживали каждый ничем не примечательный день, даже если со временем они к таким дням и привыкли. Когда впервые за много месяцев Виллем увидел Джуда в инвалидном кресле, увидел, как он встает с дивана, не досмотрев фильм, потому что у него начинается приступ и он не хочет, чтобы Виллем его видел, ему стало не по себе, пришлось напомнить себе, что это тоже часть Джуда, что тело Джуда не всякий день верно ему служит и так будет всегда. Операция ведь ничего этого не изменила, изменила она только отношение к этому Виллема. А потом, когда он понял, что Джуд снова себя режет, не часто, но регулярно, ему опять пришлось себе напомнить, что и это — тоже часть Джуда и что операция не изменила и этого.
Все равно:
— Быть может, нам стоит назвать эту эру Счастливыми Годами, — как-то утром сказал он Джуду.
На дворе был февраль, шел снег, они лежали в кровати — теперь по воскресеньям они залеживались допоздна.
— Не знаю, — сказал Джуд, Виллем видел только краешек его лица, но знал, что тот улыбается. — Мы вроде как судьбу искушаем, нет? Назовем их так, и у меня обе руки отвалятся. И вообще, это название уже занято.
И вправду — так назывался следующий фильм Виллема, на съемки которого он вообще-то уезжал уже через неделю: полтора месяца репетиций, а затем еще почти три месяца съемок. Название было не первым. Сначала фильм назывался «Танцовщик и сцена», но Кит только что ему сообщил, что продюсеры изменили название на «Счастливые годы».
Новое название ему не нравилось.
— Оно такое циничное, — сказал он Джуду, после того как пожаловался Киту и режиссеру. — Какое-то оно ироничное, дурно пахнущее.
Это было пару дней назад, они лежали на диване после того, как он весь день выкладывался на занятиях балетом, и Джуд массировал ему ноги. Он сыграет Рудольфа Нуреева, последние годы его жизни — начиная с 1983-го, когда его назначили директором балетной труппы парижской Гранд-Опера, и до того, как у него обнаружат ВИЧ, когда он заметит первые признаки болезни, за год до смерти.
— Я понимаю, о чем ты, — сказал Джуд, когда он закончил возмущаться, — но, может, для него эти годы и вправду были счастливыми. Он был свободен, у него была любимая работа, он учил молодых танцовщиков, он всю труппу полностью изменил. Он поставил несколько величайших своих танцев. Он и этот датский танцовщик…
— Эрик Брун.
— Точно. Они с Бруном тогда еще были вместе, по крайней мере еще какое-то время. Он пережил все, о чем, наверное, в молодости не мог даже мечтать, и был еще вполне молод, чтобы всем этим наслаждаться — и деньгами, и славой, и свободой творчества. Любовью. Дружбой. — Он промял Виллему пятку костяшками, и Виллем поморщился. — Как по мне, это счастливая жизнь.
Они немного помолчали.
— Но он же был болен, — наконец сказал Виллем.
— Тогда еще нет, — напомнил ему Джуд. — По крайней мере, болезнь еще не дала о себе знать.
— Ну да, наверное, — ответил он. — Но он ведь умирал.
Джуд улыбнулся.
— Ну и что, что умирал, — небрежно сказал он. — Мы все умираем. Просто он знал, что для него смерть наступит быстрее, чем он рассчитывал. Но это не значит, что те годы не были счастливыми, что его жизнь не была счастливой.
Тогда он взглянул на Джуда, и его охватило то чувство, которое он иногда испытывал, когда думал, по-настоящему думал о Джуде, о том, какая у него была жизнь: можно было назвать это чувство печалью, но то была печаль без жалости, печаль куда огромнее жалости, которая, казалось, вмещала в себя всех несчастных, надрывающихся людей, все незнакомые ему миллиарды, проживающие свои жизни, печаль, которая смешивалась с удивлением и благоговением перед тем, как люди повсюду изо всех сил стремились жить, даже когда им приходилось очень трудно, даже в самых ужасных обстоятельствах. Жизнь так печальна, но мы все ее живем. Мы все за нее цепляемся, все ищем в ней какого-то утешения.
Но ничего этого он, конечно, не сказал, просто сел, обхватил Джуда за голову, поцеловал его и снова откинулся на подушки.
— И почему это ты такой умный? — спросил он Джуда, и Джуд улыбнулся ему в ответ.
— Не слишком сильно? — спросил он вместо ответа, по-прежнему проминая ногу Виллема.
— Недостаточно сильно.
Теперь он, лежа в кровати, повернулся к Джуду, чтобы видеть его лицо.
— Ничего не поделаешь, это будут Счастливые Годы, — сказал он ему. — Придется нам рискнуть твоими руками.
И Джуд рассмеялся.
На следующей неделе он улетел в Париж. Съемки были чуть ли не самыми трудными в его жизни, для самых сложных па у него был дублер, настоящий танцовщик балета, но что-то он танцевал и сам, и иногда выдавались такие дни, дни, когда он поднимал в воздух настоящих балерин, восхищаясь их плотными, веревистыми мускулами, — дни, которые так его выматывали, что вечером сил у него хватало только на то, чтобы плюхнуться в ванну, а потом оттуда выползти. Он понял, что в последние несколько лет его бессознательно тянет к ролям, требующим большой физической отдачи, и его всегда изумляло и радовало то, как героически его тело справлялось с каждой новой задачей. Он словно заново познавал свое тело, и теперь, вытягивая руки во время прыжка, он чувствовал, как в нем оживал каждый мускул, как тело позволяло ему делать все что угодно, он чувствовал, что в нем ничего не сломается, что тело выполнит любую его прихоть. Он знал, что не одинок, не одинок в этой благодарности телу: когда они приезжали в Кеймбридж, они с Гарольдом каждый день играли в теннис, и он без лишних слов понимал, что они оба благодарны своим телам, понимал, как много для них значит сама возможность прыгать за мячом, бездумно, с оттяжкой по нему шлепать.
В конце апреля Джуд прилетел к нему в Париж, и хотя Виллем и обещал, что не будет устраивать ничего особенного на его пятидесятилетие, он все равно сделал ему сюрприз — и на праздничный ужин слетелись не только Джей-Би и Малкольм с Софи, но и Ричард, Илайджа, Родс, Энди, и Черный Генри Янг, и Гарольд с Джулией, и Федра, и Ситизен, который и помог ему все организовать. На следующий день Джуд приехал к нему на съемки, что случалось очень редко. В то утро они снимали сцену, в которой Нуреев пытается поставить молодому танцовщику кабриоль, объясняет ему снова и снова и наконец сам показывает, как его нужно правильно делать, но этой сцене предшествовала другая — они ее еще не сняли, но в ней Нуреев узнает, что у него ВИЧ, и вот он прыгает, разводит ноги в стороны и падает — и вся студия затихает. Последний кадр сцены — его лицо, и за этот миг он должен был передать, как Нуреев сначала резко понимает, что умрет, а затем, секундой спустя, решает начисто об этом забыть.
Они снова и снова снимали эту сцену, и после каждого дубля Виллему нужно было отойти, отдышаться, к нему снова и снова подбегали гримеры, промакивали пот с лица и шеи, затем он снова возвращался на место. Когда режиссер наконец остался доволен, он уже тяжело дышал, но остался доволен тоже.
— Прости, — извинился он, наконец подходя к Джуду. — Съемки — это скучно.
— Нет, Виллем, — сказал Джуд. — Это невероятно. Какой ты был красивый! — На миг он задумался. — Мне даже казалось иногда, будто это и не ты вовсе.
Он сжал руку Джуда — никаких других проявлений нежности на публике Джуд не терпел. Но он так и не понимал, что именно Джуд чувствует, когда видит такие физические проявления чувств. Прошлой весной, когда Джей-Би в очередной раз расстался с Фредриком, он стал встречаться со звездой очень известной труппы современного танца, и они все ходили смотреть на его выступление. Когда Джозайя танцевал сольный номер, Виллем взглянул на Джуда и увидел, что тот слегка подался вперед, подпер подбородок рукой и так внимательно глядел на сцену, что вздрогнул, когда Виллем положил руку ему на спину. «Прости», — прошептал Виллем. Потом, когда они уже лежали в кровати, Джуд был очень тихим, и Виллем все гадал, о чем же он думает. Расстроился ли он? Жалеет ли о чем? Грустит? Но ему казалось, что не очень хорошо просить Джуда облечь в слова то, что он и для себя самого вряд ли может сформулировать, и поэтому спрашивать не стал.
В Нью-Йорк он вернулся в середине июня, они как-то лежали с Джудом в кровати, и тот принялся его разглядывать.
— У тебя теперь тело танцовщика, — сказал он, и на следующий день он оглядел себя в зеркале и понял, что Джуд прав. В конце недели они ужинали на крыше, где Индия с Ричардом наконец-то закончили делать ремонт, застелили ее травой и уставили фруктовыми деревьями, и он показал им, чему научился, чувствуя, как его неловкость перерастает в головокружительный восторг, когда он делал жете на площадке и друзья ему аплодировали, а над головами у них вечер кровоточил закатом.
— Еще один скрытый талант, — сказал потом Ричард и улыбнулся.
— Знаю, — сказал Джуд, тоже ему улыбаясь. — Виллем полон неожиданностей, даже столько лет спустя.
Но со временем он узнал, что все они полны неожиданностей. В молодости они не могли друг другу ничего дать, кроме секретов: признания ходили вместо валюты, откровения были чем-то вроде интимной близости. Если ты скрывал от друзей какие-то подробности своей жизни, их это поначалу озадачивало, а затем и обижало, и они давали тебе понять, что обида эта помешает настоящей дружбе.
— Что-то ты недоговариваешь, Виллем, — то и дело упрекал его Джей-Би. — У тебя что, от меня секреты? Ты что, мне не доверяешь? Я думал, мы с тобой близкие люди.
— Близкие, близкие, Джей-Би, — отвечал он. — Я ничего от тебя не скрываю.
И он не скрывал, потому что скрывать было нечего. У одного Джуда были тайны, настоящие тайны, и хоть Виллем раньше и злился на то, что Джуд, похоже, не желает этими тайнами с ним делиться, он никогда не чувствовал, что они мешают их близости, они никогда не мешали ему его любить. Ему трудно дался этот урок — понимание того, что Джуд никогда не будет принадлежать ему целиком, что он любит человека, который в основе своей так и останется для него непознанным, недостижимым.
И все-таки он по-прежнему открывал для себя Джуда, даже теперь, через тридцать четыре года после их знакомства, и все, что он узнавал, его поражало. В июле Джуд впервые пригласил его на ежегодное барбекю в «Розен Притчард».
— Приходить совершенно не обязательно, — добавил Джуд сразу же после приглашения. — Там будет очень, очень скучно.
— Сомневаюсь, — сказал он. — Я пойду.
Пикник проходил в парке возле огромного старого особняка на берегу Гудзона, чуть более лощеного родственника того дома, где снимали «Дядю Ваню», и на него пригласили всю фирму — всех партнеров, всех младших партнеров, всех сотрудников с семьями. Когда они шли по заросшей клевером лужайке за домом в сторону пикника и толпы, он вдруг резко и внезапно смутился, остро почувствовал, что ему тут не место, и когда через каких-нибудь пару минут глава фирмы утащил Джуда, сказав, что им нужно быстренько обсудить одно срочное дело, он с трудом удержался, чтобы не вцепиться в Джуда, который, уходя, с извиняющейся улыбкой обернулся к нему и вскинул руку — пять минут!
Поэтому он обрадовался, когда к нему вдруг подошел Санджай, один из немногих коллег Джуда, которых он знал, — в прошлом году Санджай стал руководить отделом вместе с Джудом, чтобы Джуд мог сосредоточиться на новых делах, пока Санджай занимается управленческой и административной работой. Они с Санджаем стояли на вершине горки, Санджай показывал ему разных адвокатов и молодых партнеров, которых они с Джудом терпеть не могли. (Некоторые злосчастные юристы оборачивались, видели, что Санджай на них смотрит, и тогда Санджай весело махал им рукой, бормоча сквозь зубы, до чего они некомпетентные и беспомощные.) Он стал замечать, как люди поглядывают на него и сразу же отводят глаза, а одна женщина, которая поднималась на горку, вдруг довольно невежливо свернула в другую сторону, когда заметила, что он там стоит.
— Вижу, я тут пользуюсь популярностью, — пошутил он, и Санджай улыбнулся.
— Они боятся не тебя, Виллем, — сказал он. — Они боятся Джуда. — Он рассмеялся. — Ну ладно, и тебя тоже.
Наконец Джуд вернулся, они поболтали с главой фирмы («Я ваш большой поклонник») и Санджаем, после чего спустились вниз, где Джуд представил его людям, о которых он много лет только слышал. Какой-то ассистент попросил разрешения с ним сфотографироваться, а потом и другие на это отважились, потом их с Джудом снова растащили в стороны, и ему пришлось выслушивать, как один из партнеров-налоговиков описывает ему его же трюки из второго фильма шпионской трилогии. В какой-то момент он повернул голову и поймал взгляд Джуда, который стоял на другом краю лужайки, и тот беззвучно, одними губами прошептал извинения, он помотал головой, улыбнулся, но с силой подергал себя за левое ухо — их старинный сигнал; он и не ожидал, что сработает, но вскоре, обернувшись, увидел Джуда, шагавшего к нему.
— Извини, Айзек, — твердо сказал он. — Я отниму у тебя Виллема на десять минут. — И утащил его за собой. — Правда, Виллем, прости, — шептал он, уводя его, — наша социальная неуклюжесть сегодня особенно очевидна; ну что, чувствуешь себя пандой в зоопарке? С другой стороны, я тебя предупреждал, что будет ужас. Обещаю, еще десять минут, и можем идти.
— Да все в порядке, — сказал он, — мне весело!
Он всегда узнавал много нового, когда видел Джуда в другой его жизни, с людьми, которые за день проводили с ним больше времени, чем сам Виллем. Чуть раньше он заметил, как Джуд подошел к группке молодых юристов, которые громко ржали, разглядывая что-то в телефоне. Но, едва заметив, что к ним идет Джуд, они стали пихать друг дружку локтями, умолкли, сделались очень вежливыми, когда он к ним подошел, поприветствовали его так живо и с такой наигранной радостью, что Виллема передернуло, а когда прошел мимо, снова сгрудились вокруг телефона, но на этот раз уже вели себя потише.
Когда Джуда кто-то утащил в третий раз, он уже порядочно освоился и стал сам заговаривать с людьми, которые толклись вокруг него и улыбались, глядя в его сторону. Он познакомился с высокой азиаткой по имени Кларисса и вспомнил, что Джуд о ней одобрительно отзывался.
— Я слышал о вас много хорошего, — сказал он, и Кларисса с явным облегчением расплылась в сияющей улыбке.
— Джуд обо мне говорил? — переспросила она.
Он познакомился с младшим партнером, чьего имени не запомнил, — тот рассказал ему, что «Черная ртуть 3081» была первым фильмом «16+», который он посмотрел, и Виллем почувствовал себя невероятно старым. Он встретил другого партнера из отдела Джуда, который сказал, что Гарольд вел у него два семинара, и интересовался, каков Гарольд на самом деле. Он познакомился с детьми секретарей Джуда, с сыном Санджая, с десятками других людей — чьи-то имена он знал, но о большинстве никогда в жизни не слышал.
День был жаркий, ясный, безветренный, он пил без остановки — лимонад, воду, просекко, чай со льдом, — но на пикнике собралось столько народу, что, когда они ушли через два часа, выяснилось, что поесть им так и не удалось, и они притормозили у фермерского киоска, чтобы купить кукурузы и потом поджарить ее на гриле вместе с цуккини и помидорами из их огорода.
— Сегодня я многое о тебе узнал, — сообщил он Джуду, когда они ужинали под темно-синим небом. — Узнал, что почти все в фирме тебя до смерти боятся и думают, что, если сумеют ко мне подлизаться, я замолвлю за них словечко. Узнал, что я гораздо старше, чем мне казалось. Узнал, что ты прав — ты действительно работаешь с ботаниками.
Джуд улыбался, но тут расхохотался.
— Видишь? — сказал он. — А я тебя предупреждал, Виллем.
— Но я отлично провел время, — сказал он. — Правда! Я хочу снова пойти. Но в следующий раз надо захватить с собой Джей-Би, тогда мы всему «Розен Притчарду» порвем шаблон.
И Джуд снова расхохотался.
Это было почти два месяца назад, с тех пор он почти все время жил в Фонарном доме. Он заранее выпросил себе подарок на пятьдесят второй день рождения — чтобы Джуд все лето не работал по субботам, и Джуд не работает: приезжает по пятницам, уезжает обратно в город в понедельник. В будни машина у Джуда, поэтому он арендовал для себя автомобиль — отчасти в шутку, хотя втайне ему нравилось на нем разъезжать, — вызывающего цвета кабриолет, который Джуд называл «шлюховато-красным». В будни он читает, плавает, готовит и спит: осень будет загруженной, но он знает, что со всем справится, потому что уже чувствует себя спокойным и отдохнувшим.
В магазине он набирает в один бумажный пакет лаймов, в другой — лимонов, покупает еще минералки и едет на станцию, ждет, откинувшись на сиденье и закрыв глаза, и приподнимается, услышав голос Малкольма.
— Джей-Би не приехал, — раздраженно говорит Малкольм, когда Виллем целует их с Софи. — Они с Фредриком сегодня утром расстались — ну вроде как. А может, и не расстались, потому что он сказал, что завтра приедет. В общем, я не понял, что у них там случилось.
Он стонет.
— Позвоню ему из дома, — говорит он. — Привет, Соф. Ребята, вы обедали? А то мы сразу начнем готовить, как приедем.
Они не обедали, поэтому он звонит Джуду и говорит, чтоб ставил воду для пасты, но Джуд, оказывается, уже и сам начал готовить.
— Лаймы я купил, — говорит он ему. — А Джей-Би приедет только завтра, у них там что-то с Фредриком, Мэл и сам толком не понял. Позвонишь ему, узнаешь, что случилось?
Он ставит сумки друзей на заднее сиденье, Малкольм взглядывает на багажник, садится в машину.
— Интересный цвет, — говорит он.
— Спасибо, — отвечает он. — Он называется «шлюховато-красный».
— Правда?
Неизбывная доверчивость Малкольма вызывает у него улыбку.
— Да, — говорит он. — Ну что, едем?
Они едут и болтают о том, как давно не виделись, как рады Софи и Малкольм возвращению домой, о том, что Малкольму позорно не даются уроки вождения, о том, какая замечательная стоит погода, о том, как сладко воздух пахнет сеном. Это лучшее лето, снова думает он.
От станции до дома — полчаса на машине, чуть побыстрее, если он поторопится, но он никуда не торопится, потому что так здорово просто ехать. Поэтому, когда они проезжают последний большой перекресток, он даже не видит, как на него летит грузовик, пропахав все движение, проехав на красный, и когда он наконец его чувствует — мощнейший удар, который сминает автомобиль с пассажирской стороны, там, где возле него сидит Софи, — он уже в воздухе, уже летит.
— Нет! — кричит он или думает, что кричит, и тут — мгновенной вспышкой — перед ним возникает лицо Джуда, одно его лицо — неясное выражение, оторванное от тела, заслонившее темное небо. Уши, вся голова наполняются скрежетом мнущегося металла, разлетающегося стекла, его собственным бессильным воем.
Но последние его мысли — не о Джуде, а о Хемминге. Он видит дом, где жил в детстве, а посреди лужайки, как раз возле съезда к конюшням, в инвалидном кресле сидит Хемминг и спокойно, внимательно глядит на него, так, как никогда не мог взглянуть при жизни.
А он стоит в самом конце подъездной дорожки, там, где кончается асфальт и начинается грязь, и при виде Хемминга его захлестывает тоска по брату.
— Хемминг! — кричит он, затем кричит снова, глупо: — Подожди меня!
И он срывается с места и бежит к брату, так быстро, что вскоре не чувствует под собой ног.
VI
Дорогой товарищ
1
Один из первых фильмов, где снимался Виллем, назывался «Жизнь после смерти». Он был основан на легенде об Орфее и Эвридике, рассказан с двух точек зрения и снят двумя разными очень известными режиссерами. Виллем играл О., молодого музыканта из Стокгольма, чья девушка только что умерла и ему стало казаться, что при исполнении определенных мелодий она снова появляется рядом с ним. Итальянская актриса по имени Фауста играла Э., усопшую подругу О.
Неожиданный поворот сюжета заключался в том, что, пока О. вперял глаза в пространство, рыдал и скорбел о своей любви на земле, Э. по полной отрывалась в аду, где она наконец-то могла вздохнуть свободно: не опекать вздорную мать и забитого отца; не слушать нытье клиентов, с которыми ей приходилось работать в качестве адвоката для малообеспеченных без всякой надежды на благодарность; не вникать в бесконечную самовлюбленную болтовню подруг; не пытаться взбодрить славного, но безнадежно депрессивного бойфренда. Нет, теперь она была в преисподней, где не прекращались пиры и деревья гнулись под тяжестью плодов, где можно было язвить и сплетничать, не опасаясь последствий, где она даже привлекла благосклонное внимание самого Аида, которого играл высокий, мускулистый итальянский актер по имени Рафаэль.
«Жизнь после смерти» разделила критиков на два лагеря. Некоторым фильм понравился: им понравилось, что он так много говорит о фундаментальной разнице двух культур в подходе к жизни (линия О. была снята знаменитым шведским режиссером в приглушенных серо-голубых тонах; линия Э. — режиссером-итальянцем, чей взгляд на мир отличался бурным жизнелюбием) и в то же время не чужд проблесков легкой самоиронии; им понравились прихотливые сдвиги настроения; им понравилось, какой бережный и оригинальный подход был выбран, чтобы утешить тех, кто остался в живых.
Но у фильма были и ненавистники. Палитра и интонации показались им фальшивыми; их возмутил тон двусмысленной сатиры; они пришли в ярость от музыкального номера, который Э. исполняет в аду, в то время как ее несчастный О. в надземном мире параллельно пиликает свои безрадостные минималистические композиции.
Несмотря на бурные споры о картине (в Штатах ее практически никто не видел, но у всех было твердое мнение), критики сходились в одном: ведущие актеры Виллем Рагнарссон и Фауста Сан-Филиппо сыграли превосходно, их ожидает блестящая карьера.
С течением лет «Жизнь после смерти» продолжали пересматривать, переосмысливать и переоценивать, и когда Виллему было уже хорошо за сорок, фильм стал общепризнанным шедевром, любимым произведением у поклонников творчества обоих режиссеров, символом того командного, дерзкого, бесстрашного и в то же время увлекательного кинематографа, у которого теперь осталось так мало приверженцев. Он всегда спрашивал у людей, какая роль Виллема их любимая, ведь тот играл в удивительно разнообразных фильмах и пьесах, и потом пересказывал Виллему их ответы. Например, молодые мужчины из числа партнеров и сотрудников «Розен Притчард» любили шпионские фильмы. Женщинам нравились «Дуэты». Интерны — среди которых было много актеров — любили «Отравленное яблоко». Джей-Би любил «Непобежденного». Ричард любил «Звезды над Сантьяго». Гарольд и Джулия любили «Преступления памяти» и «Дядю Ваню». А студенты-кинематографисты — которые меньше всего стеснялись подойти к Виллему в ресторане или на улице — неизменно любили «Жизнь после смерти». «Это одна из лучших работ Доницетти», — уверенно говорили они, или: «Как, наверное, здорово было сниматься у Бергессона».
Виллем всегда вел себя вежливо.
— Согласен, — говорил он обрадованным студентам, — конечно. Было очень здорово.
В этом году исполняется двадцать лет с момента выхода «Жизни после смерти», и как-то раз февральским днем он выходит на улицу и видит, что лицо тридцатитрехлетнего Виллема украшает фасады зданий, автобусные остановки и, размноженное в духе Уорхола, прикрывает широкие пространства строительных лесов. Сегодня суббота, и он собирался пройтись, но вместо этого он разворачивается и поднимается наверх, опять ложится в постель, закрывает глаза и снова засыпает. В понедельник он сидит на заднем сиденье автомобиля, и мистер Ахмед везет его по Шестой авеню, и, увидев первый плакат, наклеенный на окно пустого магазина, он закрывает глаза и не открывает их, пока автомобиль не останавливается и мистер Ахмед не сообщает, что они подъехали к офису.
Через несколько дней он получает приглашение от Музея современного искусства — судя по всему, «Жизнь после смерти» будет открывать ретроспективу Симона Бергессона в июне, после сеанса организуют круглый стол с участием обоих режиссеров и Фаусты, и они надеются, что он тоже сможет прийти, и — да, они помнят, что уже обращались с этим предложением, но все же — будут очень рады, если он согласится принять участие в дискуссии и рассказать о том, как Виллем снимался в фильме. Он задумывается: они уже его приглашали? Должно быть. Но он не может вспомнить. Из того, что было в последние полгода, он помнит очень немногое. Он смотрит на даты ретроспективы: с третьего по одиннадцатое июня. Он спланирует все, чтобы уехать в эти дни из города, иначе никак. Виллем снимался еще в двух короткометражках у Бергессона, они относились друг к другу с симпатией. Он не хочет видеть новые плакаты с лицом Виллема, снова натыкаться на его имя в газете. Он хочет избежать встречи с Бергессоном.
Ближе к ночи, перед тем как лечь в кровать, он подходит к той стороне шкафа, где до сих пор висит одежда Виллема. Вот рубашки Виллема на вешалках, вот его свитеры на полках, вот его выставленные в ряд ботинки. Он берет нужную рубашку — клетчатую, темно-красную с желтыми полосками, которую Виллем носил дома в весенние дни, и продевает в нее голову. Но вместо того чтобы просунуть руки в рукава, он завязывает их спереди, как будто это смирительная рубашка, для того чтобы вообразить — с усилием, — будто руки Виллема его обнимают. Он залезает в постель. Это ритуальное объятие кажется ему нелепым и стыдным, но он прибегает к такому способу, только когда чувствует в нем острую необходимость, а сегодня он ее чувствует.
Он не засыпает. Время от времени он дотрагивается носом до воротника, чтобы попытаться почувствовать запах Виллема на рубашке, но с каждым разом это все труднее. Он использовал уже три рубашки Виллема, это четвертая, и он тщательно следит за тем, чтобы сберечь ее запах. Первые три рубашки он надевал почти каждую ночь на протяжении нескольких месяцев, и они больше не пахнут Виллемом, они пахнут им. Иногда он пытается утешить себя тем, что его собственный запах подарен ему Виллемом, но этого утешения никогда не хватает надолго.
Даже до того, как они стали парой, Виллем всегда привозил ему что-нибудь оттуда, где работал, и, вернувшись со съемок «Одиссеи», он предъявил две склянки духов, которые заказал в ателье знаменитого флорентийского парфюмера.
— Я понимаю, что это диковатая идея, — сказал он тогда. — Но один человек, — он тогда улыбнулся про себя, понимая, что это значит «одна девушка», — мне про это рассказал, и я решил, что идея занятная.
Виллем объяснил, что пришлось описать его парфюмеру — какие цвета ему нравятся, какая еда, какие страны — и тогда парфюмер создал этот аромат лично для него.
Он понюхал: пахло зеленью с примесью перца, с сырой, резкой завершающей нотой.
— Ветивер, — сказал Виллем. — Попробуй.
И он попробовал, брызнув на ладонь, потому что тогда еще не показывал Виллему свои запястья.
Виллем принюхался.
— Мне нравится, — сказал он. — Он хорошо пахнет именно на тебе.
И они оба вдруг страшно смутились.
— Спасибо, Виллем, — сказал он. — Мне очень нравится.
Виллем заказал аромат и для себя тоже. Базовой нотой в его духах был сандал, и он скоро приучился ассоциировать сандал с Виллемом. Где бы ему ни приходилось почувствовать этот запах, особенно вдали от дома — в деловой поездке по Индии, в Японии, в Таиланде, — он всегда вспоминал Виллема, и ему становилось менее одиноко. Они оба так и продолжали заказывать эти духи у флорентийского парфюмера, и два месяца назад, как только присутствие духа позволило ему делать хоть что-то, он первым делом заказал оптовую поставку личных духов Виллема. Он испытал такое облегчение, такое возбуждение, когда посылка наконец доехала, что у него тряслись руки, пока он разматывал пленку и разрезал ящик. Он уже чувствовал, что Виллем от него ускользает; уже понимал, что должен прилагать усилия, чтобы его удержать. Хотя он побрызгал духами — осторожно, стараясь не увлекаться — рубашку Виллема, все-таки это было не то. Не только духи придавали одежде Виллема его запах — это был он сам, самое его существо. В ту ночь он лежал в постели в рубашке, источавшей сладкий аромат сандала, такой сильный, что он заглушал все остальные запахи, полностью уничтожал все, что оставалось от самого Виллема. В ту ночь он плакал, впервые за долгое время, а на следующий день уволил ту рубашку — сложил и запаковал в ящик в углу шкафа, чтобы она не повлияла на остальные вещи Виллема.
Духи, ритуал с рубашкой — это два элемента подмостков, шатких и хрупких, которые он научился воздвигать, чтобы как-то трепыхаться, продолжать жить свою жизнь. Хотя он часто чувствует, что не столько живет, сколько существует, что это дни проходят мимо, а не он осмысленно проживает каждый день. Но он себя за это не слишком корит: просто существовать — уже тяжелый труд.
Прошли месяцы, прежде чем он разобрался, что ему помогает. Одно время он каждый вечер не отрывался от фильмов с участием Виллема, смотрел их, пока не засыпал на диване, прокручивал до сцен с репликами Виллема. Но кинореплики, актерская игра Виллема отдаляли его, а не приближали, и в конце концов он осознал, что лучше было просто остановиться на каком-то кадре, чтобы лицо Виллема застыло, уставившись на него, а он бы впивался в него взглядом, смотрел и смотрел до рези в глазах. Проведя так месяц, он понял, что нужно бережнее обращаться с запасом фильмов, чтобы они не утратили силу. Тогда он начал по порядку, с самого первого фильма Виллема «Девушка с серебряными руками», который он жадно смотрел каждую ночь, останавливая и снова запуская, то и дело вглядываясь в очередной стоп-кадр. По выходным он смотрел его часами: начинал, когда небо только меняло цвет с ночного на утренний, а заканчивал, когда оно уже давно снова почернело. А потом он понял, что смотреть эти фильмы в хронологическом порядке опасно, потому что это значило, что с каждым днем он подбирается все ближе к гибели Виллема. Тогда он стал выбирать фильм месяца в случайном порядке, и оказалось, что так безопаснее.
Но главная, самая успокаивающая фантазия, которую он себе сочинил, заключалась в том, что Виллем просто уехал на съемки. Это очень долгий и очень сложный проект, но когда-нибудь он закончится и Виллем вернется. То была хрупкая иллюзия — ведь не бывало таких съемок, на протяжении которых они с Виллемом не разговаривали по телефону, не обменивались письмами или записками (часто и то, и другое, и третье) каждый день. Он радовался, что сохранил столько электронных писем Виллема, и некоторое время мог читать эти старые письма по ночам и делать вид, будто только что получил их; даже когда хотелось читать все запоем, он удерживался и позволял себе не больше одного письма за раз. Но он понимал, что вечно этим сыт не будешь — он должен быть строже к себе в деле выдачи писем. Теперь он читает по одному письму в неделю, не больше. Он может перечитывать то, что уже прочел в предыдущие недели, но не может прикасаться к тем, которые еще не прочел. Это еще одно правило.
Но это не решало проблему с молчанием Виллема: какие обстоятельства, думал он, пока плавал по утрам, пока стоял и смотрел невидящим взглядом на плиту, ожидая, когда засвистит чайник, могут помешать Виллему связаться с ним во время съемок? В конце концов он смог придумать сценарий. Виллем снимается в картине об экипаже советских космонавтов времен «холодной войны», и съемки этого воображаемого фильма по-настоящему проходят в космосе, потому что его финансирует русский промышленник-миллиардер, вероятно, сумасшедший. Так что Виллем далеко, облетает землю над его головой каждый день и каждую ночь, хочет домой, но не может с ним связаться. Запредельная невозможность этого воображаемого фильма его смущала, как и запредельность собственного отчаяния, но все-таки проект казался достаточно вероятным, чтобы усилием воли поверить в его реальность, иногда надолго, аж на несколько дней. (В тот момент он испытывал чувство благодарности за то, что в логистику и вообще в реальность работы Виллема так часто невозможно было поверить; а теперь, когда ему это было так нужно, верить в невозможное помогала сама неправдоподобность киноиндустрии.)
Он представлял себе, как Виллем спрашивает: а как называется картина? — представлял, как он улыбается.
«Дорогой товарищ», отвечал он Виллему — так они иногда писали друг другу: дорогой товарищ; дорогой Джуд Гарольдович; дорогой Виллем Рагнарович, — это началось, когда Виллем снимался в первом фильме своей шпионской трилогии, действие которой разворачивалось в Москве 1960-х. В его воображении съемки «Дорогого товарища» должны были продлиться год, хотя он понимал, что их придется корректировать: уже наступил март, в этой его фантазии Виллем возвращался домой в ноябре, но он знал, что к ноябрю еще не сможет отказаться от игры. Он понимал, что придется придумывать пересъемки, задержки. Он понимал, что придется изобрести сиквел, какую-то причину, которая продолжит удерживать Виллема вдали от него.
Чтобы фантазия была еще правдоподобнее, он каждый вечер садился за компьютер и писал Виллему письмо с рассказом о событиях дня, точно так же, как он делал бы, будь Виллем жив. Каждое сообщение всегда заканчивалось одинаково: «Надеюсь, что съемки продвигаются успешно. Я очень по тебе скучаю. Джуд».
В январе прошлого года, когда он наконец вышел из ступора, окончательность отсутствия Виллема по-настоящему его догнала. Тогда-то он и понял, что его дела плохи. Он очень смутно помнит все предыдущие месяцы; очень смутно помнит тот самый день. Он помнит, что сделал салат с пастой, порвал листья базилика над миской, взглянул на часы и подумал, куда это они запропастились. Но не обеспокоился: Виллем любил возвращаться по проселочным дорогам, Малкольм любил фотографировать, так что они могли где-то остановиться, могли не отследить время.
Он позвонил Джей-Би, выслушал его жалобы на Фредрика, нарезал дыню на десерт. К этому времени они уже серьезно задерживались, и он позвонил Виллему, но в трубке были только гудки. Да куда ж они делись, раздраженно подумал он.
А потом прошло еще время. Он шагал туда-сюда по кухне. Он позвонил Малкольму, Софи — нет ответа. Он снова позвонил Виллему. Он позвонил Джей-Би: они ему не звонили? Он ничего не слыхал? Джей-Би не слыхал.
— Да не парься, Джуди, — сказал он. — Наверняка за мороженым заехали или что-нибудь такое. Или решили сбежать.
— Ха, — сказал он, уже понимая, что что-то не так. — Ладно. Позвоню тебе попозже, Джей-Би.
И как только он положил телефон, зазвенел дверной звонок, и он в ужасе замер, потому что никто еще ни разу не звонил им в дверь. Дом было трудно найти, его нужно было искать, а от главной дороги приходилось идти вверх — и это был долгий путь, — если никто не открывал подъездные ворота, а он не слышал, чтобы у ворот кто-нибудь звонил. О господи, подумал он. О нет. Нет. Но звонок раздался снова, и он обнаружил, что идет к двери, и, открывая ее, отметил не столько выражение лиц полицейских, сколько то, что они снимали фуражки, и тут он все понял.
После этого он потерял счет дням. Он приходил в себя проблесками и видел те же лица — Гарольда, Джей-Би, Ричарда, Энди, Джулии, — что и после попытки самоубийства: те же люди, те же слезы. Они плакали тогда и плакали сейчас, и время от времени он запутывался, думал, что минувшее десятилетие — годы жизни с Виллемом, ампутация — могло быть все-таки сном, что он до сих пор в психиатрическом отделении. Он помнит, что в эти дни он постепенно узнавал разные подробности, но не помнит, как он их узнавал, потому что не помнит ни одного разговора. Но, наверное, разговоры были. Он узнал, что это он опознавал тело Виллема, но ему не позволили увидеть лицо — Виллема выбросило из машины, и он врезался головой в вяз, который рос в тридцати футах от дороги, на другой ее стороне; этот удар уничтожил его лицо, переломал все лицевые кости. Поэтому он опознавал его по родимому пятну на левой икре, по родинке на правом плече. Он узнал, что тело Софи было раздроблено — он помнил, как кто-то сказал «стерто в порошок» — и что у Малкольма была диагностирована смерть мозга и он четыре дня прожил на искусственной вентиляции легких, а потом его родители запустили процедуру донорства органов. Он узнал, что все они были пристегнуты; что у прокатного автомобиля — этого дурацкого, блядского прокатного автомобиля — были неисправны подушки безопасности; что водитель грузовика, принадлежавшего пивоваренной компании, был смертельно пьян и проехал на красный свет.
Он почти все время был накачан лекарствами. Так было, когда он ходил на поминальную службу по Софи, которую он не помнил вообще, ни одной детали; так было, когда он ходил на службу по Малкольму. Там он запомнил, что мистер Ирвин схватил его, потряс за плечи, а потом прижал так крепко, что чуть не задушил, и так рыдал, уткнувшись в него, пока кто-то — должно быть, Гарольд — не сказал что-то, и его отпустили.
Он знал, что была какая-то служба и по Виллему, очень скромная; он знал, что Виллема кремировали. Но он не помнит о ней ничего. Он не знает, кто ее организовал. Он даже не уверен, что был на ней, а спрашивать боится. Он помнит, что в какой-то момент Гарольд сказал ему — ничего страшного, если он не будет произносить надгробную речь, что он может устроить что-то в память о Виллеме позже, когда будет к этому готов. Он помнит, что кивнул, помнит, что подумал: но я же никогда не буду готов.
В какой-то момент он вернулся на работу; наверное, в конце сентября. К этому моменту он знал, что произошло. Правда знал. Но еще пытался не знать, и тогда это еще давалось сравнительно легко. Он не читал газет, не смотрел новостей. Через две недели после гибели Виллема они с Гарольдом шли по улице, и по пути им попался газетный киоск, и вот перед ним возник журнал с лицом Виллема и двумя датами, и он понял, что первая дата — это год рождения Виллема, а вторая — год его смерти. Он стоял, уставившись на журнал, и Гарольд потянул его за рукав.
— Пойдем, Джуд, — сказал он ласково, — не смотри. Пойдем со мной.
И он послушался.
Перед тем как вернуться в офис, он проинструктировал Санджая:
— Я не хочу никаких соболезнований. Не хочу никаких намеков на то, что случилось. Я хочу, чтобы никто никогда не упоминал его имени.
— Хорошо, Джуд, — тихо сказал Санджай, и вид у него был испуганный. — Я понял.
И они подчинились. Никто не соболезновал. Никто не произносил имени Виллема. А теперь ему хочется, чтобы имя произнесли. Он сам на это не способен. Но ему хотелось бы, чтобы кто-то смог. Иногда на улице он слышит что-то похожее на его имя: «Уильям!» — мать зовет сына, — и он жадно оборачивается на ее голос.
В первые месяцы у него были дела, которые не давали ему простаивать, наполняли дни гневом, а гнев, в свою очередь, поддерживал костяк этих дней. Он судился с производителем автомобиля, с производителем ремней безопасности, с производителем предохранительных подушек, с компанией по аренде автомобилей. Он судился с водителем грузовика, с компанией, на которую тот работал. У водителя, сообщил ему адвокат ответчика, больной ребенок; иск погубит их семью. Но ему было наплевать. Когда-то он задумался бы, но не теперь. Он был зол и безжалостен. Пусть он будет уничтожен, думал он. Пусть разорится. Пусть почувствует то, что чувствую я. Пусть потеряет все, то единственное, что важно. Он хотел выжать их всех, все компании, всех работников этих компаний, до последнего доллара. Он хотел, чтобы у них не осталось надежды. Он хотел, чтобы они были опустошены. Он хотел, чтобы они жили в мерзости запустения. Он хотел, чтобы они потерялись в собственной жизни.
Иск к ним, к каждому из них, был подан на сумму, которую Виллем заработал бы, проживи он нормальную человеческую жизнь, и это была абсурдная цифра, невероятная цифра, и, видя ее, он каждый раз приходил в отчаяние — не из-за самой цифры, а из-за тех лет, которые за ней стояли.
Они готовы заключить соглашение и выплатить убытки, сообщил его адвокат, эксперт по деликтному праву по имени Тодд, известный своей агрессивностью и беспринципностью, с которым он был знаком по редакции юридического журнала; выплаты будут щедрые.
Щедрые, не щедрые — это его не интересовало. Его интересовали только страдания, которые эти выплаты им принесут.
— Сотри их в порошок, — велел он Тодду хриплым от ненависти голосом, и Тодд вздрогнул.
— Хорошо, Джуд, — сказал он. — Не беспокойся.
Деньги ему, конечно, не были нужны. Ему хватало своих. За исключением денежных выплат помощнику и крестнику и пожертвований разным благотворительным организациям — тем же, которым Виллем помогал каждый год, плюс еще одной, фонду, заботившемуся о детях — жертвах насилия, — Виллем оставил ему все свое состояние; это было зеркальное отражение его собственного завещания. В том году они с Виллемом учредили две стипендии в своей alma mater в честь семидесятипятилетия Гарольда и Джулии: одну в юридической школе, названную в честь Гарольда, другую в медицинской, названную в честь Джулии. Они финансировали их вместе, и Виллем оставил достаточно средств в доверительном управлении, чтобы так оставалось впредь. Он распределил остальные средства согласно завещанию Виллема: подписал чеки благотворительным организациям, фондам, музеям, которые Виллем указал в качестве бенефициаров. Он раздал друзьям Виллема — Гарольду и Джулии, Ричарду, Джей-Би, Роману, Кресси, Сусанне, Мигелю, Киту, Эмилю, Энди, — но не Малкольму, Малкольму уже ничего нельзя было отдать, — те вещи (книги, картины, сувениры, связанные с фильмами и пьесами, произведения искусства), которые Виллем им оставил. В завещании Виллема не было сюрпризов, хотя иногда он хотел, чтобы они там были: как благодарен он был бы за тайного ребенка, с которым он мог бы встретиться, увидеть на его лице улыбку Виллема; как испугало и одновременно взбудоражило бы его тайное письмо с давно откладываемой исповедью. Как благодарен он был бы за предлог, который позволил бы ему ненавидеть Виллема, злиться на него, за тайну, которую нужно было бы разгадать и потратить на это долгие годы. Но ничего такого не было. Жизнь Виллема закончилась. В смерти он был так же чист, как и в жизни.
Он думал, что справляется неплохо, по крайней мере сносно. Как-то раз Гарольд позвонил и спросил, что он собирается делать на День благодарения, и на мгновение он растерялся, не понимая, о чем тот говорит, что вообще значит само это слово — «благодарение».
— Не знаю, — ответил он.
— Это на следующей неделе, — сказал Гарольд тем новым тихим голосом, которым теперь все к нему обращались. — Ты можешь приехать к нам, или мы к тебе, или поедем куда-нибудь все вместе?
— Не могу, наверное, Гарольд, — сказал он. — У меня очень много работы.
Но Гарольд настаивал.
— Где угодно, Джуд, — сказал он. — С кем хочешь. Или ни с кем. Но нам нужно тебя повидать.
— Вам не удастся хорошо провести время со мной, — сказал он наконец.
— Нам не удастся хорошо провести время без тебя, — сказал Гарольд. — Точнее, вообще никак не удастся. Прошу тебя, Джуд. Куда угодно.
Так что они поехали в Лондон. Остановились в их с Виллемом квартире. Он был рад уехать из страны, где по телевизору показывают семейные сцены, а коллеги радостно сплетничают про своих детей, жен, мужей и прочих родственников. В Лондоне это был просто обычный день. Они гуляли втроем. Гарольд готовил сложные блюда с катастрофическим результатом, а он их ел. Он все время спал. Потом они вернулись домой.
А потом, однажды в воскресенье, в декабре, он проснулся и понял: Виллема больше нет. Он ушел от него навсегда. Он больше не вернется. Он больше никогда его не увидит. Он больше никогда не услышит голос Виллема, не вдохнет его запах, не почувствует, как руки Виллема его обнимают. Он больше никогда, всхлипывая от стыда, не сбросит груз очередного воспоминания, больше никогда, ослепленный ужасом, не вырвется с содроганием из очередного сна и не почувствует, что Виллем гладит его по лицу, не услышит, как сверху доносится его голос: «Все хорошо, Джуди, все хорошо. Все позади, все позади, все позади». И тогда он заплакал, заплакал по-настоящему, заплакал впервые после аварии. Он плакал о Виллеме, о том, как он, должно быть, испугался, как он страдал, плакал о его несчастной короткой жизни. Но главным образом он плакал о себе. Как ему теперь жить дальше без Виллема? В его жизни — жизни после брата Луки, жизни после доктора Трейлора, жизни после монастыря, после номеров в мотелях, после приюта, после дальнобойщиков, в той единственной части его жизни, о которой имело смысл говорить, — всегда был Виллем. Не было дня, с тех пор как он, шестнадцатилетний, познакомился с Виллемом в общежитской комнате Худ-Холла, когда бы они не общались так или иначе.
— Джуд, — сказал Гарольд, — станет легче. Клянусь тебе. Клянусь. Сейчас кажется, что это невозможно, но станет.
Они все так говорили — и Ричард, и Джей-Би, и Энди; те, кто писал ему открытки. Кит. Эмиль. Только это они и говорили: станет легче. Но хотя он понимал, что никогда не скажет это вслух, про себя он думал: не станет. Джейкоб был у Гарольда пять лет. Виллем был у него тридцать четыре года. Никакого сравнения. Виллем был первым, кто его полюбил, первым, кто увидел в нем не объект эксплуатации или жалости, а что-то иное — друга; он был вторым, кто всегда, неизменно был к нему добр. Если бы у него не было Виллема, у него не было бы никого из них — он никогда не смог бы довериться Гарольду, если бы прежде не доверился Виллему. Он не мог представить себе жизнь без Виллема, до такой степени Виллем определял для него, что есть жизнь и чем она может быть.
На следующий день он сделал то, чего не делал никогда: позвонил Санджаю и сказал, что не выйдет на работу в ближайшие два дня. А потом лежал в кровати и плакал, кричал в подушки, пока полностью не потерял голос.