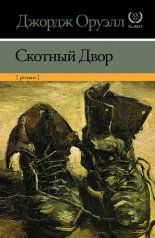Маленькая жизнь Янагихара Ханья

— И чем все закончилось?
— Не знаю. Когда Флора уехала в колледж, они перестали общаться. Больше она о ней ничего не рассказывала.
Они снова умолкли. Он знал, что как-то так вышло, как-то они так молчаливо условились, что за Джуда в первую очередь отвечать будет он, и он понял, что Малкольм пытается подсунуть ему какую-то задачку, требующую решения, хотя что это за задачка — и какое у нее вообще может быть решение, — он толком не знал и готов был поспорить, что Малкольм тоже не знает.
Следующие несколько дней он избегал Джуда, потому что понимал: останься он с ним наедине, не сможет удержаться от разговора, а пока что Виллем и сам точно не знал, хочется ли ему с ним разговаривать, да и о чем говорить, не знал тоже. Избегать его было не сложно: днем они всегда были вместе, вчетвером, а по вечерам все расходились по своим комнатам. Но однажды вечером Малкольм и Джей-Би ушли за лобстерами, а они с Джудом остались на кухне мыть салат и резать помидоры. День выдался долгим, сонным, солнечным, Джуд в кои-то веки был в приподнятом, почти беззаботном настроении, и, еще не договорив, Виллем уже заранее расстраивался, что испортит этот идеальный миг, когда все — от закапанного алым неба до ножа, что так ловко резал овощи — складывалось в такую безупречную картину.
— Может, какую-нибудь мою футболку наденешь? — спросил он Джуда.
Джуд молча вырезал сердцевинку помидора, окинул Виллема ровным, ничего не выражающим взглядом и только потом ответил:
— Нет.
— А тебе не жарко?
Джуд улыбнулся — легонько, предостерегающе.
— Вот-вот снова похолодает.
Он был прав. Когда скрылся последний блик солнца, стало прохладно, и Виллему самому пришлось идти к себе в комнату за свитером.
— Но… — он уже и сам понимал, что скажет глупость, что, стоило ему завести этот разговор, как он перестал с ним справляться, будто с рвущейся из рук кошкой, — ты же все рукава в лобстере перепачкаешь.
В ответ Джуд как-то странно крякнул — не засмеялся, слишком громким, слишком лающим вышел звук — и снова взялся за овощи.
— Я как-нибудь справлюсь, Виллем, — сказал он, и хоть он очень мягко это произнес, Виллем заметил, как крепко он стиснул, сдавил даже, ручку ножа — так что костяшки стали сально-желтого цвета.
Им тогда повезло, повезло обоим, что Джей-Би с Малкольмом вернулись прежде, чем они продолжили разговор, но Виллем еще успел услышать, как Джуд спросил было: «А почему ты?..» Он так и не договорил (да и вообще за весь ужин, после которого рукава у него остались идеально чистыми, не сказал Виллему ни слова), но Виллем знал, что вопрос был не «А почему ты спрашиваешь?», а «Почему ты спрашиваешь?», ведь Виллем всегда старался не выказывать излишнего интереса к шкафу с многочисленными ящиками, в котором прятался Джуд.
Будь это кто другой, твердил себе Виллем, он бы не колебался ни минуты. Он потребовал бы объяснений, обзвонил бы всех общих друзей, уселся бы с ним рядом — и криками, мольбами и угрозами вытянул бы из него признание. Но если хочешь дружить с Джудом, подписываешься совсем на другое: и он сам это понимал, и Энди это понимал, и все они это понимали. Ты учишься не обращать внимания на голос инстинкта, гонишь от себя все подозрения. Ты понимаешь, что доказательством вашей дружбы становится умение держать дистанцию, верить в то, что тебе говорят, отворачиваться и уходить, когда перед тобой захлопывают дверь, а не пытаться ее выломать. Военные советы, которые они держали вчетвером, когда дело касалось других — когда они думали, что девушка, с которой встречается Черный Генри Янг, ему изменяет, и не знали, как ему об этом сказать, когда они знали, что девушка Эзры ему изменяет, и не знали, как ему лучше об этом сказать… таких советов они никогда не станут держать о Джуде. Он сочтет это предательством, да и толку от них не будет.
Весь оставшийся вечер они друг друга избегали, но когда Виллем уже шел спать, он вдруг задержался возле двери Джуда, занес было руку, чтобы постучать, но потом передумал и пошел к себе. Что он скажет? И что он хочет услышать? И Виллем ушел и вел себя как ни в чем не бывало, и на следующий день, когда Джуд ни словом не обмолвился о прошлом вечере и их почти-разговоре, Виллем тоже промолчал, и вскоре и этот день сменился ночью, а за ним — еще один и еще, и они все дальше и дальше удалялись от того времени, когда Виллем хотя бы попытался, пусть и безуспешно, добиться от Джуда ответа на вопрос, который у него не хватало мужества задать.
Но вопрос так никуда и не делся, он пробивался в сознание в самые неожиданные минуты, упрямо пролезал вперед всех его мыслей и каменел там, будто тролль. Четыре года назад, когда они с Джей-Би учились в магистратуре и снимали на двоих квартиру, к ним в гости приехал Джуд, который доучивался в Бостоне в юридической школе. И тогда ночью дверь ванной тоже оказалась запертой, и Виллема вдруг охватил необъяснимый ужас; он принялся колотиться в дверь, и Джуд вышел к нему — с сердитым, но (или это ему только показалось) в то же время почему-то виноватым видом, спросил: «Что такое, Виллем?» — и Виллем, зная, что тут что-то не так, снова не сумел ему ничего ответить. В ванной стоял терпкий и резкий, металлически-ржавый запах крови, и Виллем даже порылся в мусорной корзине — нашел скрученную обертку от пластыря, но не знал, валялась ли она там с ужина, когда Джей-Би ткнул себе в руку ножом, пытаясь нарезать морковь прямо в руке (Виллем подозревал, что тот вел себя на кухне подчеркнуто неуклюже, чтобы его не просили помочь), или осталась от ночных самоистязаний Джуда. Но он опять (опять!) ничего не сделал, и, проходя мимо Джуда, который спал (или притворялся, что спит?) на диване в гостиной, он так ничего и не сказал, ничего он не сказал и на следующий день, и дни шелестели один за другим чистыми листами, и каждый день он ничего, ничего, ничего ему не говорил.
А теперь это. Если б он сделал что-нибудь (что?) три года назад, восемь лет назад, случилось бы это сегодня? И что такое это «это»?
Но теперь он заговорит, потому что теперь у него есть доказательства. Потому что, если он и теперь позволит Джуду увернуться, избежать расспросов, сам Виллем и будет виноват, если что-нибудь случится.
Едва он принял решение, как почувствовал, что на него наваливается усталость и уносит все ночные страхи, тревоги и волнения. Был последний день года, он прилег на кровать, закрыл глаза и едва успел удивиться тому, что сон пришел к нему так быстро.
Виллем проснулся почти в два часа дня и сразу же вспомнил свое вчерашнее решение. Но то, что он увидел, несколько охладило его пыл. Постель Джуда была убрана, и Джуда в ней не было. Зайдя в ванную, он почувствовал запах хлорки. А за складным столиком сидел сам Джуд и вырезал кружки из раскатанного теста с таким стоическим видом, что Виллем испытал одновременный прилив раздражения и облегчения. Значит, если уж он решится поговорить с ним начистоту, то не сможет сослаться ни на беспорядок, ни на свидетельства вчерашней катастрофы.
Он опустился на стул напротив Джуда.
— Ты что делаешь?
— Гужеры, — спокойно ответил Джуд, не поднимая глаз. — Вчера одна партия получилась неудачно.
— Да кому они, на фиг, сдались, — недобро сказал он и неуклюже, по инерции, добавил: — Мы могли бы всем подать сырные палочки, вышло бы ровно то же самое.
Джуд пожал плечами, и раздражение Виллема распалилось до гнева. Вот он сидит тут после такой страшной — да, страшной — ночи и делает вид, будто ничего не произошло; а между тем его забинтованная рука лежит неподвижно на столе. Он уже открыл было рот, но тут Джуд отставил стакан, которым вырезал круги из теста, и посмотрел на него.
— Виллем, прости меня, — сказал он едва слышно. Увидев, что Виллем смотрит на забинтованную руку, он другой рукой перетащил ее на колени. — Я не… — Он помолчал. — Прости. Не сердись на меня.
Гнев развеялся.
— Джуд, — сказал он, — что это было?
— Не то, что ты думаешь. Честное слово, Виллем.
Много лет спустя Виллем будет пересказывать этот разговор — в общих чертах, не дословно — Малкольму в доказательство своей несостоятельности, своего провала. Можно ли было все изменить, если бы он произнес одну-единственную фразу? Например: «Джуд, ты что, пытаешься покончить с собой?» или «Джуд, немедленно расскажи мне, что происходит» или «Джуд, зачем ты с собой такое делаешь?» Любая из них сгодилась бы; любая подвела бы к серьезному разговору — целительному или, по крайней мере, профилактическому.
Так ведь?
Но тогда он всего лишь промычал:
— Ну ладно.
Они сидели молча — долго, как им казалось, под бормотание телевизора в соседней квартире, и только много позже Виллем задался вопросом, опечалился Джуд или вздохнул с облегчением оттого, что ему так легко поверили.
— Ты сердишься?
— Нет. — Он откашлялся. Нет, он не сердился. Во всяком случае, он не стал бы описывать свои чувства таким словом, хотя правильного слова тоже подобрать не мог. — Но нам, конечно, придется отменить гостей.
— Почему? — с ужасом спросил Джуд.
— Почему? Ты издеваешься?
— Виллем, — в голосе Джуда зазвучала интонация, которую он про себя называл «судебной», — мы не можем ничего отменить. Гости начнут собираться часов через семь, даже раньше. Причем мы понятия не имеем, кого наприглашал Джей-Би. Эти-то придут в любом случае, даже если мы предупредим всех остальных. И потом, — он сделал резкий вдох, как будто переболел затяжным бронхитом и теперь показывал, что вылечился, — я в полном порядке. Отменять будет сложнее, чем оставить все как есть.
Почему, ну почему он всегда слушался Джуда? Но он снова послушался; и вот уже восемь, и окна снова открыты, и в кухне снова жарко от выпечки — как будто прошлой ночи не было, как будто все это был мираж, — и вот уже пришли Малкольм и Джей-Би. Виллем стоял на пороге спальни, застегивая рубашку, и слушал, как Джуд объясняет им, что обжег руку, выпекая гужеры, и что Энди пришлось намазать место ожога мазью.
— Говорил я тебе не делать эти дурацкие гужеры, — услышал он радостный голос Джей-Би; Джей-Би любил выпечку Джуда.
Тогда на него нахлынуло наваждение: он сейчас закроет двери, ляжет спать, а когда проснется — будет новый год, и все будет стерто подчистую, и у него перестанет скрести на душе. Мысль о том, что придется общаться с Малкольмом и Джей-Би, улыбаться, шутить, вдруг показалась невыносимой.
Но, конечно, общаться пришлось, и когда Джей-Би потребовал, чтобы они вчетвером поднялись на крышу, потому что ему нужно глотнуть свежего воздуха и покурить, он, не вступая в разговор, позволил Малкольму поныть — вяло и безрезультатно — про лютый холод, а потом послушно потащился, замыкая процессию, по узкой лестнице, которая выходила на покрытую рубероидом крышу.
Он все еще злился и отошел в сторонку, чтобы не мешать общей беседе. Небо над ним было уже совершенно темным, полночно-темным. Повернувшись на север, он видел прямо под собой магазин для художников, где теперь подрабатывал Джей-Би (месяц назад он уволился из журнала), а вдалеке — неуклюжую неоновую громаду Эмпайр-Стейт-Билдинг, башня которого горела ярко-голубым светом и напоминала ему о придорожных заправках и о долгой дороге в родительский дом из больницы, где лежал Хемминг, давным-давно.
— Эй, — крикнул он, — холодно! — Он вышел без куртки, как и остальные. — Пошли обратно.
Но когда он подошел к двери на лестничную площадку, то не смог ее открыть. Он попробовал еще раз — ручка не поворачивалась и застряла намертво. Дверь заклинило.
— Блядь! — крикнул он. — Блядь, блядь, блядь!
— Виллем, ты чего? — встревоженно сказал Малкольм: Виллем редко выходил из себя. — Джуд, у тебя есть ключ?
Но у Джуда ключа не было.
— Блядь!
Он не мог сдержаться. Все шло наперекосяк. Он не мог поднять глаза на Джуда. Он винил его, хоть это и было несправедливо. Он винил себя, так было справедливее, но от этого становилось еще хуже.
— У кого телефон с собой?
Но по закону идиотизма ни у кого не оказалось с собой телефона: они остались внизу, в квартире, где были бы и они, если бы не чертов Джей-Би и не чертов Малкольм, который всегда подхватывает самую его глупую, самую недоделанную идею, и не чертов Джуд вдобавок, если б не прошлая ночь, не прошлые девять лет, не все, что он делает с собой, не позволяя себе помочь, если бы не этот вечный страх за него, не вечная беспомощность; если бы не это вот все.
Они покричали, постучали ногами по крыше в надежде, что услышит кто-нибудь внизу, кто-то из трех соседей, с которыми они так до сих пор и не познакомились. Малкольм предложил швырнуть чем-нибудь в окна одного из соседних зданий, но швыряться им было нечем (даже все бумажники остались внизу, уютно заткнутые в карманы курток), и к тому же ни в одном из окон не горел свет.
— Слушайте, — сказал наконец Джуд, хотя Виллему в этот момент меньше всего хотелось выслушивать Джуда. — У меня есть идея. Спустите меня к пожарному выходу, и я залезу в окно спальни.
Идея была такая дурацкая, что он даже не сразу отреагировал; такое мог бы выдумать Джей-Би, но не Джуд.
— Нет, — отрезал он. — Это бред.
— Почему? — спросил Джей-Би. — По-моему, отличный план.
Пожарный выход был ненадежный, плохо продуманный и более или менее бесполезный — ржавый металлический скелет, прилаженный к фасаду между пятым и третьим этажами как декоративный элемент повышенной уродливости; от крыши до площадки было футов девять, а сама площадка была вдвое уже их гостиной; даже если бы им удалось спустить Джуда на нее в целости и сохранности, не спровоцировав очередной приступ и не переломав ему ноги, все равно ему бы пришлось перегнуться через край площадки, чтобы дотянуться до окна.
— Даже не думай, — сказал Виллем Джей-Би и потом еще некоторое время препирался с ним, пока на волне отчаяния не осознал, что другого выхода нет. — Но только не Джуд, — сказал он. — Я сам полезу.
— Ты не сумеешь.
— Почему? Там даже не надо вламываться в спальню, я просто залезу в одно из окон в гостиной.
Окна в гостиной были зарешечены, но одного из прутьев не хватало, и Виллем рассудил, что сможет пролезть в образовавшуюся щель, хотя и не без труда. Так или иначе, придется.
— Я закрыл окна, перед тем как мы сюда поднялись, — еле слышно признался Джуд, и Виллем сразу понял, что он их еще и запер, потому что Джуд запирал все, что запирается: двери, окна, шкафы — он делал это автоматически, не думая. Но задвижка на окне в спальне была сломана, и Джуд соорудил некий механизм — сложное, увесистое приспособление из болтов и проволоки, которое, по его словам, служило абсолютно надежным замком.
Преувеличенная настороженность Джуда, его готовность отовсюду ждать беды были для него вечной загадкой: он давно заметил, что Джуд, входя в любое незнакомое помещение, первым делом ищет ближайший выход и становится к нему поближе, — сначала это казалось забавным, а потом как-то перестало, так же, как и его страсть к мерам безопасности. Как-то раз, поздно ночью, они болтали в спальне, и Джуд сказал ему (шепотом, как будто открывал драгоценную тайну), что механизм на окне вообще-то можно открыть снаружи, но как это сделать — знает только он один.
— Почему ты об этом заговорил? — спросил он.
— Потому что, — ответил Джуд, — я думаю, надо нам эту задвижку заменить.
— Но если, кроме тебя, никто не сумеет ее открыть, какая разница?
У них не было лишних денег на слесаря, уж во всяком случае — на починку того, что в починке не нуждается. Они не могли обратиться к управляющему: когда они уже въехали, Анника призналась, что формально не имеет права сдавать им квартиру, но если они будут вести себя прилично, хозяин, скорее всего, их не тронет. Так что они старались вести себя прилично: сами все чинили, сами шпаклевали стены, сами возились с сантехникой.
— На всякий случай, — ответил Джуд. — Просто хочу знать, что мы в безопасности.
— Джуд, — сказал он, — мы в безопасности. Ничего не случится. Никто к нам не вломится. — Джуд молчал, и он со вздохом сдался. — Завтра вызову слесаря.
— Спасибо, Виллем, — сказал Джуд.
Но слесаря он так и не вызвал.
Этот разговор состоялся два месяца назад, а теперь они мерзли на крыше, и в этом окне была их единственная надежда.
— Блядь, блядь! — простонал он. Голова раскалывалась. — Ну скажи мне, как его открыть, и я открою.
— Это очень сложно, — сказал Джуд. Они успели забыть, что Малкольм и Джей-Би стоят здесь же и смотрят на них, причем Джей-Би на удивление тих. — Я не смогу объяснить.
— Конечно, я, по-твоему, полный дебил, но если ты обойдешься без длинных слов, я постараюсь понять, — огрызнулся он.
— Виллем, — удивленно сказал Джуд и запнулся. — Я ничего такого не имел в виду.
— Я знаю, — сказал он. — Прости. Я знаю. — Он глубоко вздохнул. — Даже если попытаться — хотя я считаю, что не надо, — как мы вообще тебя спустим?
Джуд подошел к краю крыши, обнесенной плоским парапетом, не доходившим до колен, и посмотрел через край.
— Я сяду на этот парапет спиной к вам, ровно над пожарным выходом, — сказал он. — Вы с Джей-Би прижметесь по сторонам, ухватите меня за руки и спустите, покуда хватит рук, а потом отпустите, и я приземлюсь на площадку.
Он рассмеялся — такой глупый это был план и опасный.
— Ну и как ты потом дотянешься до окна спальни?
Джуд посмотрел на него:
— Придется исходить из того, что я справлюсь.
— Чушь собачья.
Тут вмешался Джей-Би:
— Какие варианты, Виллем? Мы тут сейчас околеем от холода.
Холод и впрямь был пронизывающий; только злость его и согревала.
— Джей-Би, ты вообще, блядь, заметил, что у него рука перевязана?
— Да я в полном порядке, Виллем, — сказал Джуд, прежде чем Джей-Би успел ответить.
Они препирались еще минут десять, потом Джуд решительно подошел к краю.
— Если ты не поможешь, я попрошу Малкольма, — сказал он, хотя Малкольм тоже был сам не свой от страха.
— Я помогу, — сказал он.
И вот они с Джей-Би встали на колени и прислонились к стене, и каждый сжал руку Джуда в ладонях. Он уже так заиндевел, что почти не чувствовал собственных пальцев, обхвативших ладонь Джуда. Он держал его за левую руку и ощущал только слой бинтов. В эту секунду перед его глазами возникло лицо Энди, и его замутило от чувства вины.
Джуд оттолкнулся от края, и у Малкольма вырвался короткий стон, перешедший на излете в писк. Виллем и Джей-Би изогнулись насколько могли, так, что еще немного — и сами перевалились бы через край, и когда Джуд велел отпускать, они его отпустили и увидели, как он с грохотом приземлился на покрытую шифером площадку пожарного выхода.
Джей-Би крикнул «ура», и Виллем едва удержался, чтобы ему не врезать.
— Все в порядке! — крикнул Джуд снизу и помахал забинтованной рукой, как флагом, а потом подошел к самому краю площадки и оседлал перила, чтобы добраться до своего запорного устройства. Он обхватил один из прутьев перил ногами, но держался неустойчиво, и Виллем видел, что он слегка покачивается, стараясь удержать равновесие, а его занемевшие от холода пальцы едва шевелятся.
— Спустите меня, — велел он Малкольму и Джей-Би, не обращая внимания на кудахтанье Малкольма, и спрыгнул вниз, окликнув Джуда перед самым прыжком, чтобы тот от неожиданности не потерял равновесия.
Прыжок оказался страшнее, а приземление — жестче, чем он предполагал, но он быстро пришел в себя, подошел к Джуду и обхватил его за пояс, ногой зацепившись за прутья перил, чтобы крепче держаться. «Держу», — сказал он Джуду, и тот вытянулся за перила — дальше, чем смог бы без посторонней помощи, — а Виллем держал его так крепко, что чувствовал позвонки Джуда через ткань свитера, чувствовал, как надувается и опадает его живот с каждым вдохом и выдохом, чувствовал, как движение пальцев эхом проходило по мышцам, пока Джуд откручивал и расцеплял проволочки, которыми окно крепилось к раме. А когда дело было сделано, Виллем первый вскарабкался на перила и залез в спальню, а потом высунулся, схватил Джуда за руки и втащил его внутрь, осторожно, стараясь не задеть повязку.
Они стояли, тяжело дыша от усталости, и смотрели друг на друга. Несмотря на ветер из открытого окна, в комнате было так восхитительно тепло, что он наконец расслабился и обмяк от облегчения. Они были в безопасности, они спаслись. Джуд тогда широко улыбнулся ему, и он улыбнулся в ответ; будь это Джей-Би, он бы бросился его обнимать от избытка чувств, но Джуд не любил обниматься, и он не сдвинулся с места. Но тут Джуд поднял руку, чтобы вытряхнуть из волос чешуйки ржавчины, и Виллем увидел, что с внутренней стороны запястья по повязке расползается темно-багровое пятно, и запоздало сообразил, что Джуд дышит так часто не только от напряжения, но и от боли. Он не сводил с Джуда глаз, пока тот тяжело садился на кровать, перевязанной рукой нашаривая твердую поверхность.
Виллем опустился на корточки рядом с ним. Эйфория ушла, уступив место какому-то другому чувству. Он чувствовал, как подкатывают слезы, хотя не мог объяснить почему.
— Джуд… — начал он, но не знал, что еще сказать.
— Ты бы сходил за ними, — сказал Джуд; каждое слово давалось ему с трудом, но он снова улыбнулся Виллему.
— Да хрен с ними, — сказал Виллем, — я с тобой останусь.
И Джуд засмеялся, хотя и морщась от боли, и осторожно лег на бок, и Виллем помог ему положить ноги на кровать. На свитере Джуда виднелись еще чешуйки ржавчины, и Виллем подобрал несколько штук. Он сел на кровать рядом с ним, не зная, с чего начать.
— Джуд, — снова позвал он.
— Ступай, — сказал Джуд и закрыл глаза, все еще улыбаясь, и Виллем нехотя встал, закрыл окно, потушил свет в спальне и вышел, прикрыв за собой дверь, и направился к лестничной клетке, чтобы вызволить Джей-Би и Малкольма, а далеко внизу по лестничному пролету уже разносились трели звонка, оповещая о прибытии первых гостей.
II
Постчеловек
1
По субботам он работал, а по воскресеньям гулял. Прогулки начались вынужденно пять лет назад, когда он только приехал в город и плохо его знал: каждую неделю он выбирал новый квартал, шел до него от Лиспенард-стрит, обходил квартал по периметру и возвращался домой. Он не пропускал ни одного воскресенья, разве что из-за погоды прогулка становилась невозможной, и даже сейчас, изучив почти каждый квартал на Манхэттене и многие в Бруклине и Квинсе, он по-прежнему каждое воскресенье уходил из дома в десять утра и возвращался, только когда совершал полный обход. Прогулки давно перестали его радовать, хотя сказать, что они его не радовали, тоже было нельзя — просто он так делал, и все. Некоторое время он даже надеялся, что это не просто моцион, что в них есть что-то целебное, как любительский сеанс физиотерапии, хотя Энди с этим не соглашался и даже отговаривал его от прогулок. «Я не против, чтобы ты разрабатывал ноги, — говорил он. — Но для этого лучше бы ты плавал, а не таскался по тротуарам». Вообще-то он не возражал бы против плавания, но трудно было найти место, чтобы плавать в одиночестве.
Раньше Виллем иногда присоединялся к его прогулкам, и теперь, если маршрут пролегал мимо театра, он рассчитывал время так, чтобы встретиться с ним после дневного представления, возле стойки с фруктовыми соками неподалеку. Там они что-нибудь пили, и Виллем рассказывал, как прошел спектакль, и заказывал салат, чтобы перекусить перед вечерним представлением, а он шел дальше, на юг, к дому.
Они все еще жили на Лиспенард-стрит, хотя каждый из них мог уже снять отдельную квартиру: он точно мог, Виллем — вероятно. Но ни один не заговаривал о такой возможности, и никто никуда не съезжал. Однако же они превратили левую половину гостиной во вторую спальню, вчетвером выстроив за выходные неровную стену из гипсокартона, разделившую пространство, так что теперь вошедшего приветствовал серый свет из двух, а не из четырех окон. Виллем переселился в новую комнату, а он остался в их старой спальне.
Если не считать коротких набегов в театр, он, казалось, вовсе не виделся с Виллемом, а Виллем, постоянно жалующийся на свою лень, все время работал или пытался работать: три года назад, когда ему исполнилось двадцать девять, он поклялся, что уйдет из «Ортолана» до тридцатилетия, и вот за две недели до этой даты, когда они теснились в своей недавно уполовиненной гостиной, а Виллем беспокоился, сможет ли он себе позволить уйти из ресторана, ему позвонили, и это был звонок, которого Виллем ждал много лет. Его пригласили играть в пьесе, и пьеса эта стала достаточно популярной и привлекла достаточно внимания к Виллему, чтобы он смог навсегда бросить «Ортолан» — ровно тринадцать месяцев спустя, всего на год позже назначенного срока. Пьеса называлась «Теорема Маламуда» — это была семейная драма про профессора-филолога с начинающейся деменцией и его сложные отношения с сыном-физиком. Он ходил на нее пять раз, по два раза с Малкольмом и Джей-Би и один раз с Гарольдом и Джулией, которые приехали в город на выходные, и каждый раз ухитрялся забыть, что на сцене — его старинный друг и сосед по квартире, а когда актеры выходили на поклон, чувствовал одновременно и гордость, и печаль, как будто сама приподнятая над залом сцена уже указывала на вознесение Виллема в иные сферы бытия, куда ему будет нелегко войти.
Приближение его собственного тридцатилетия не вызвало у него ни тайной паники, ни всплеска бурной деятельности, ни потребности перестроить жизнь так, чтобы она больше напоминала нормальную жизнь тридцатилетнего человека. Но у его друзей все было иначе, и он провел три года перед круглой датой, выслушивая элегические плачи по уходящему десятилетию, отчеты о сделанном и несделанном, списки промахов и обетов на будущее. Что-то стало меняться в эти годы. Например, вторая спальня была возведена отчасти из-за того, что Виллем чувствовал — нехорошо в двадцать восемь лет жить в одной комнате все с тем же университетским соседом, и сходное беспокойство — боязнь, что когда им стукнет сорок, они, словно в сказке, обернутся во что-то иное, им неподвластное, и избежать этой участи можно, только совершив нечто радикальное, — вдохновило Малкольма поспешно признаться родителям в своей гомосексуальности, а потом отыграть назад меньше чем через год, когда он начал встречаться с женщиной.
Несмотря на беспокойство друзей, он знал, что ему тридцатилетие понравится по той же причине, по какой они его страшились: это возраст неопровержимой взрослости. (Он с нетерпением ждал тридцати пяти — тогда он сможет сказать, что его взрослая жизнь стала вдвое длиннее детства.) Когда он рос, тридцатилетие казалось далеким, невообразимым. Он ясно помнил, что в раннем детстве — в монастырские годы — он спросил у брата Михаила, который любил рассказывать ему, где побывал в своей прежней жизни, когда и он сможет отправиться путешествовать.
— Когда подрастешь, — ответил брат Михаил.
— Когда? — спросил он. — В следующем году? — В то время даже месяц казался долгим как вечность.
— Через много лет, — сказал брат Михаил. — Когда будешь большой. Когда тебе исполнится тридцать.
И вот еще несколько недель, и ему исполнится тридцать.
В эти воскресенья, собираясь на прогулку, он иногда стоял на кухне, босой, в полной тишине, и маленькая, уродливая квартира казалась ему настоящим чудом. Здесь время принадлежало ему, и пространство тоже, здесь каждую дверь можно было закрыть, каждое окно — запереть. Он стоял перед крошечным шкафом в прихожей — всего лишь нишей, которую они завесили куском холстины, — и любовался скрытыми там богатствами. На Лиспенард-стрит никто не бегал по ночам в лавку на Вест-Бродвее за рулоном туалетной бумаги, не принюхивался с гадливостью к пакету с давно прокисшим молоком, который завалялся в дальнем углу холодильника: здесь всегда был запас. Здесь не бывало ничего просроченного. Он за этим следил. В первый год жизни на Лиспенард-стрит он немного стеснялся своих привычек, больше подходивших человеку совсем другого возраста и, вероятно, другого пола, и свои запасы туалетной бумаги прятал под кровать, а купоны на скидки — в портфель, чтобы изучить их потом, когда Виллема не будет дома, как будто это особо экзотический жанр порнографии. Но однажды, в поисках заброшенного под кровать носка, Виллем обнаружил его схрон.
Он смутился.
— Что в этом такого? — спросил Виллем. — Отлично же. Слава богу, что ты за всем этим следишь.
Но он все равно чувствовал свою уязвимость, чувствовал, что в и без того разбухшее досье добавилось еще одно свидетельство его подавленной стародевической натуры, его фундаментальной и непоправимой неспособности быть тем человеком, каким он хотел казаться окружающим.
Но, как и во многом другом, он не мог ничего с собой поделать. Кому он мог бы объяснить, что неуютное жилье на Лиспенард-стрит и припасы, словно для бомбоубежища, дарили ему такую же защиту и удовлетворение, как и его дипломы, как и работа? Или что эти одинокие минуты на кухне были чем-то сродни медитации — единственные мгновения, когда можно было по-настоящему расслабиться и перестать рваться вперед, заранее планируя тысячи мелких умалчиваний и искажений, сокрытие правды и фактов, которыми он обставлял каждое свое взаимодействие с миром и его обитателями? Никому не расскажешь, конечно, даже Виллему. Но он потратил целые годы на то, чтобы научиться держать свои мысли при себе; в отличие от друзей, он не рассказывал о своих странностях в попытке выделиться из толпы, хотя был и счастлив, и горд, когда ему рассказывали о своих.
Сегодня он отправится в Верхний Ист-Сайд: по Вест-Бродвей до Вашингтон-Сквер-парк, до университета, через Юнион-сквер и дальше по Бродвею до Пятой, с которой он свернет только на Восемьдесят шестой, а потом — обратно по Мэдисон до Двадцать четвертой, где перейдет на восточную сторону к Лексингтон и свернет сначала на юг, а потом снова на восток, на Ирвинг-плейс, а там возле театра встретится с Виллемом. Он уже много месяцев, почти год не ходил по этому маршруту — потому что это долгий путь и потому что он и так каждую неделю бывал в Верхнем Ист-Сайде, в таунхаусе недалеко от дома родителей Малкольма, где давал уроки двенадцатилетнему мальчику по имени Феликс. Но была середина марта, весенние каникулы; Феликс с семьей уехал в Юту, и можно было не бояться, что он их там встретит.
Отец Феликса был друг друзей родителей Малкольма, и именно отец Малкольма предложил ему эту работу.
— Небось не очень-то тебе платят у федерального прокурора? — спросил мистер Ирвин. — Давай я познакомлю тебя с Гэвином?
Гэвин был однокашник мистера Ирвина по юридической школе, ныне президент одной из крупнейших адвокатских фирм в городе.
— Папа, да не хочет он работать в частной фирме, — начал было Малкольм, но его отец продолжал, как будто тот не открывал рта, так что Малкольм снова нахохлился и отодвинулся. В этот момент он посочувствовал Малкольму, но и слегка разозлился, потому что он просил Малкольма ненавязчиво разузнать, нет ли у каких-нибудь родительских друзей ребенка, которому нужен репетитор, а не прямо спрашивать у них.
— Нет, серьезно, — сказал отец Малкольма, — это здорово, что ты намерен пробиваться сам. — Малкольм еще сильнее вжался в спинку кресла. — А что, дела настолько плохи? Не думал, что федеральное правительство так мало платит, хотя, конечно, я-то оставил государственную службу сто лет назад. — И мистер Ирвин широко улыбнулся.
Он улыбнулся в ответ.
— Нет, — сказал он, — зарплата нормальная. — Это была правда. Конечно, не по понятиям мистера Ирвина, да и Малкольма тоже, но он получал больше денег, чем когда-либо рассчитывал, и каждые две недели дивился неустанному возрастанию чисел. — Я просто коплю на ипотеку. — Это была ложь, и он увидел, как Малкольм вскинулся, и мысленно отметил, что надо будет то же самое сказать Виллему, прежде чем Виллем услышит об этом от Малкольма.
— А, ну это дело, — сказал мистер Ирвин. Такую жизненную цель он понимал. — И у меня как раз есть подходящий кандидат.
Кандидата звали Говард Бейкер; после пятнадцати минут рассеянного собеседования он нанял его в качестве преподавателя для сына по следующим предметам: латынь, математика, немецкий, фортепиано. (Он удивился, что мистер Бейкер не нанимает специалистов по каждому из предметов — ведь мог бы себе это позволить, — но спрашивать не стал.) Ему было жалко мелкого тихоню Феликса, который имел обыкновение царапать изнутри узкую ноздрю, засовывая указательный палец все глубже, пока не спохватывался — тогда он торопливо вытаскивал палец и вытирал о джинсы. Прошло восемь месяцев, а он так и не составил мнения о способностях Феликса. Мальчик не был глуп, но ему не хватало огня, как будто к двенадцати годам он уже смирился с тем, что и жизнь — сплошное разочарование, и от него всем сплошное разочарование. Он всегда ждал его вовремя, с выполненными заданиями, каждую субботу в час дня, и послушно отвечал на каждый вопрос; его ответы всегда заканчивались тревожной, вопросительной, восходящей нотой, как будто каждый из них, даже простейший («Salve, Felix, quis agis?» — «Э-э-э… bene?»), был отчаянной догадкой, но собственных вопросов у него никогда не возникало, и когда он спрашивал Феликса, не хочет ли тот обсудить какую-нибудь тему на любом из двух языков, мальчик лишь пожимал плечами и невнятно мычал, а его указательный палец дрейфовал в направлении носа. Когда они прощались в конце занятия, Феликс безвольно поднимал руку и отступал в глубину коридора, и ему всегда казалось, что его ученик никогда не выходит из дому, не бывает в гостях, не приглашает к себе друзей. Бедный Феликс, даже имя его звучало издевкой.
Месяц назад мистер Бейкер попросил его зайти после уроков, и, попрощавшись с Феликсом, он проследовал за горничной в кабинет. В тот день он сильно хромал и чувствовал себя — как часто бывало — актером, исполняющим роль нищей гувернантки из диккенсовского романа.
Он ожидал, что мистер Бейкер будет раздражен, возможно, рассержен, хотя отметки Феликса заметно улучшились, и приготовился защищаться в случае необходимости — мистер Бейкер платил ему намного больше, чем он рассчитывал заработать репетиторством, и он уже решил, на что потратит эти деньги, — но вместо этого ему предложили сесть на стул, стоявший перед письменным столом.
— Как вам кажется, что с Феликсом не так? — спросил мистер Бейкер.
Он не ожидал такого вопроса, поэтому задумался, прежде чем ответить.
— Мне не кажется, что с ним что-то не так, сэр, — осторожно сказал он. — Мне просто кажется, что он не очень… — «счастлив», почти сказал он.
Но что такое счастье, как не излишество, как не состояние, которое невозможно удержать отчасти именно потому, что его так сложно выразить? Он не помнил, чтобы в детстве у него было представление о счастье: только тоска и страх или отсутствие тоски и страха, и ему ничего не нужно было, ничего не хотелось, кроме этого второго состояния.
— Я думаю, он застенчивый, — закончил он.
Мистер Бейкер хмыкнул (он, очевидно, ждал какого-то другого ответа) и спросил:
— Но ведь он вам нравится?
Спросил с таким странным и беззащитным отчаянием, что ему вдруг стало бесконечно жаль и Феликса, и мистера Бейкера. Значит, вот что такое быть родителем? Вот что такое быть ребенком, у которого есть родители? Столько несчастья, столько разочарований, столько ожиданий, которые нельзя ни выразить, ни оправдать!
— Конечно, — сказал он, и мистер Бейкер со вздохом выдал ему чек, который обычно перед выходом передавала ему горничная.
На следующей неделе Феликс не захотел играть заданную пьесу. Он выглядел еще апатичнее, чем обычно.
— Сыграем что-нибудь другое? — спросил он.
Феликс пожал плечами. Он задумался.
— Хочешь, я тебе что-нибудь сыграю?
Феликс снова пожал плечами. Но он все-таки сел за рояль — это был красивый инструмент, и порой, наблюдая, как Феликс волочит пальцы по его приятно-гладким клавишам, он мечтал остаться с роялем наедине и пробежать руками по клавиатуре с максимально возможной скоростью.
Он сыграл Гайдна — сонату 50 ре мажор, одно из своих любимых произведений, такое яркое и духоподъемное, что оно, по его расчету, должно было развеселить их обоих. Но когда он закончил и рядом сидел все такой же тихий мальчик, ему стало стыдно — и за хвастливый, напористый оптимизм Гайдна, и за собственный всплеск самолюбования.
— Феликс, — сказал он и остановился. Феликс выжидательно молчал. — Что случилось?
И тут, к его изумлению, Феликс расплакался, и он попытался его утешить.
— Феликс, — сказал он, неловко обнимая мальчика за плечи. Он притворился Виллемом, который знал бы, что делать и что говорить, не задумываясь об этом. — Все будет хорошо. Честное слово, все образуется.
Но Феликс только зарыдал сильнее.
— У меня нет друзей, — всхлипывал он.
— Ох, Феликс, — сказал он, и сочувствие, которое до этого было отстраненным, абстрактным, кольнуло его в самое сердце. — Это плохо.
Он остро ощутил, как одиноко живется Феликсу, каково ему проводить каждую субботу с юристом-инвалидом почти тридцати лет от роду, который приходит сюда ради денег, а потом уходит к людям, которых он любит, которые даже любят его, а Феликс остается один, потому что его мать — третья жена мистера Бейкера — все время где-то порхает, а отец считает, что с ним что-то не так и это надо исправить. Позже, шагая домой (если погода была хорошая, он отказывался от машины мистера Бейкера и шел пешком), он размышлял о причудливой несправедливости мира: вот Феликс, ребенок по всем параметрам лучше, чем он сам когда-то, и у Феликса до сих пор нет друзей, а у него, у ничтожества, — есть.
— Феликс, друзья рано или поздно появятся, — сказал он, и Феликс, завывая, протянул «Но когда?» — с такой тоской, что он вздрогнул.
— Скоро, скоро, — сказал он, гладя мальчика по худой спине, — честное слово. — И Феликс кивнул, хотя позже, когда Феликс шел за ним до дверей и его маленькое гекконье лицо из-за слез казалось еще более рептильным, он отчетливо сознавал, что Феликс видит его обман насквозь. Как знать, появятся ли у Феликса когда-нибудь друзья? Дружба, товарищество — они так часто идут вразрез с логикой, так часто обходят стороной достойных, так часто осеняют странных, нехороших, причудливых, искалеченных. Он помахал рукой вслед узкой спине Феликса, который уже удалялся в глубину дома, и, хоть ни за что не сказал бы этого Феликсу, про себя подумал, что мальчик именно поэтому такой унылый: он уже это понял, давно; он уже об этом знает.
Он знал французский и немецкий. Он знал таблицу Менделеева. Он знал — сам того не желая — большие куски Библии практически наизусть. Он умел принять новорожденного теленка, починить лампу, прочистить засор в трубе, собрать урожай грецких орехов. Он знал, какие грибы ядовиты, как прессовать сено в тюки и как проверить спелость арбуза, дыни, яблока, тыквы, постучав в нужном месте. (И еще он знал то, чего не хотел знать, умел то, что, как он надеялся, никогда ему больше не понадобится, и когда он думал об этом или видел это во сне, то сжимался от ненависти и стыда.)
И все-таки ему часто казалось, что он не знает ничего по-настоящему полезного. Ну хорошо, языки и математику. Но ежедневно он сталкивался с тем, как многого не знает. Он не смотрел сериалов, которые все беспрестанно цитировали. Он никогда не был в кино. Он никуда не ездил на каникулы. Не был в летнем лагере. Не пробовал пиццу, фруктовый лед, макароны с сыром (и уж конечно, в отличие от Джей-Би и Малкольма, не знал вкуса фуа-гра, или суши, или костного мозга). У него никогда не было компьютера или мобильника, ему редко позволяли выйти в интернет. Он вдруг понял, что у него, по сути, вообще ничего нет: книги, которыми он так гордился, рубашки, которые он бесконечно зашивал и штопал, — это все была ерунда, мусор, гордиться таким имуществом было стыднее, чем не иметь никакого. Учебная аудитория была для него самым безопасным местом, единственным местом, где он чувствовал твердую почву под ногами: за ее пределами на него обрушивалась лавина чудес, каждое из которых ставило в тупик, каждое напоминало о его бездонном невежестве. Он мысленно составлял списки всего нового, с чем столкнулся, о чем услышал. Но спросить о непонятном было нельзя. Потому что спросить значило признаться в своей бесконечной чуждости, и тогда ему стали бы задавать вопросы, он оказался бы на виду, вынужден был бы вести беседы, к которым не был готов. Он часто чувствовал себя не то чтобы иностранцем — потому что иностранцы (даже Одвал, девушка из деревни под Улан-Батором) понимали все эти вещи, — а человеком из другого времени; его детские годы с тем же успехом могли пройти в девятнадцатом веке, а не в двадцать первом, столько всего он пропустил, таким смутным, показным было его знание жизни. Как так вышло, что все его сверстники, будь они родом из Лагоса или Лос-Анжелеса, имели общий опыт, общий культурный багаж? Должен же быть кто-то еще, кто знает так же мало, как он? А если нет, то как ему всех догнать?
Вечерами, когда они все вместе собирались у кого-нибудь в комнате (теплилась свеча, тлела самокрутка), его товарищи часто говорили о своем детстве, которое только что кончилось, но по которому они, как ни странно, уже скучали, уже были им одержимы. Они, казалось, пытались вспомнить каждую деталь, но он не мог понять, хотят ли они найти что-то общее или же похвалиться непохожестью, потому что, по всей видимости, то и другое доставляло им равное удовольствие. Они говорили о запретах, о бунтах, о наказаниях (некоторых родители даже били, и они рассказывали об этом почти с гордостью, что тоже казалось ему любопытным). Они говорили о домашних животных, о братьях и сестрах, об одежде, от которой у родителей волосы вставали дыбом, о компаниях, с которыми водились в старших классах, с кем, как и когда они потеряли невинность, какие машины разбили, какие кости ломали, каким занимались спортом, какие музыкальные группы создавали. Они рассказывали о семейных каникулах, когда все шло наперекосяк, о колоритных родственниках, чудаковатых соседях и учителях, любимых или ненавистных. Он неожиданно обнаружил, что получает удовольствие от этих посиделок: вот они, настоящие подростки с настоящей обычной жизнью, о которой ему так хотелось узнать; сидя с ними по ночам, слушая их, он одновременно отдыхал душой и учился жизни. Его собственное молчание было необходимостью и одновременно защитой, а к тому же делало его загадочнее и интереснее, чем на самом деле. «А ты, Джуд?» — спрашивали его иногда, особенно поначалу, но он уже научился тогда — он быстро учился — просто пожимать плечами и говорить с улыбкой: «Да ну, ничего интересного». С удивлением и облегчением он убедился, что они легко принимают такой ответ, он был благодарен за их зацикленность на себе. Никто не хотел слушать чужую историю, каждый хотел рассказать свою.
И все же его молчание не осталось незамеченным, и именно благодаря ему он получил свою кличку. В тот год Малкольм открыл для себя постмодернизм, и Джей-Би так громко сокрушался о невежестве Малкольма, что он не отважился признаться в своем.
— Ты не можешь взять и решить, что будешь пост-черным, Малкольм, — говорил Джей-Би. — Чтобы стать выше этого, надо для начала быть черным.
— Как ты меня достал, Джей-Би, — говорил Малкольм.
— Или уж ты должен быть таким неклассифицируемым, чтоб к тебе вообще не подходили обычные мерки. — Тут Джей-Би повернулся к нему, и он похолодел от ужаса. — Вот как Джуди: мы не знаем, нравятся ему мальчики или девочки, мы не знаем, какой он расы, мы вообще ничего о нем не знаем. Вот тебе пост-сексуальность, пост-расовость, пост-идентичность, пост-история. — Он улыбнулся, показывая, что в его словах есть доля шутки. — Пост-человек. Джуд Постчеловек.
— Постчеловек, — повторил Малкольм: в неловкие моменты он всегда был не прочь отвлечь внимание от себя за счет кого-то другого. И хотя прозвище не приклеилось — вошедший в комнату Виллем только закатил глаза, услышав эту шутку, что несколько охладило пыл Джей-Би, — он понял, что, сколько бы он ни убеждал себя, что стал своим, сколько бы ни старался скрыть свою болезненную непохожесть, ему не удалось их обмануть. Они знали, что он странный, и глупо с его стороны было убеждать себя, будто он убедил их в обратном. И все-таки он продолжал приходить на ночные посиделки в комнаты однокурсников: его тянуло туда, хотя он понимал, что они таят для него опасность.
Иногда во время этих занятий (он стал думать о них именно так, как об интенсивной учебе, которая поможет ему заполнить культурные пробелы) он ловил взгляд Виллема, наблюдавшего за ним с каким-то непонятным выражением лица, и задавался вопросом, о чем Виллем догадывается. Иногда он едва удерживался, чтобы самому не рассказать что-то Виллему. Может быть, я не прав, думал он. Может быть, было бы хорошо признаться кому-то, что большую часть времени он вообще не понимает, о чем речь, что не знает всем знакомого языка детских неудач и разочарований. Но он тут же останавливался: ведь если он не понимает этого языка, придется объяснять, какой язык он понимает.
Но если б он решился кому-то рассказать, то именно Виллему. Он восхищался всеми тремя своими товарищами, но Виллему — доверял. В приюте он усвоил, что есть три типа мальчишек: одни лезут в драку (это был Джей-Би), другие сами не дерутся, но и других не выручают (это был Малкольм), а третьи изо всех сил стараются помочь (это был самый редкий тип, и к нему принадлежал Виллем). Может быть, у девочек все так же, но он слишком мало общался с девочками, чтобы сказать наверняка.
И ему все чаще казалось, что Виллем что-то знает. (Что знает? — спорил он сам с собой, когда разум брал верх. Ты просто ищешь предлог, чтобы рассказать ему, и что он тогда о тебе подумает? Не глупи. Молчи. Возьми себя в руки.) Конечно, в этом не было никакой логики. Даже до колледжа он понимал, что детство его было нетипичным — чтобы прийти к такому выводу, достаточно было прочитать несколько книг, — но только недавно он осознал насколько. Сама странность его жизни изолировала и отрезала его от остального мира. Нельзя было даже представить себе, что кто-то догадается о конкретных деталях, а если бы кто-то догадался, это значило бы, что он сам оставил какие-то улики, будто коровьи лепешки — приметные, огромные, отвратительные мольбы о помощи.
И все же. Подозрение все крепло, иногда становилось невыносимым, как будто он неизбежно должен сказать что-то, как будто ему посылают приказы, которым легче подчиниться, чем противиться.
Однажды вечером они сидели вчетвером, без посторонних. Это было начало третьего курса, и такое случалось редко — настолько, что они особенно остро ощущали уют и даже некоторое умиление от того, что составляют такую неразлучную четверку. Они действительно были неразлучны, и он был частью этой компании: здание, где они жили, называлось Худ-Холл, и на кампусе их называли «мальчики из Худа». У каждого из них были и другие приятели (больше всего у Джей-Би и Виллема), но все знали (или, по крайней мере, считали, а это почти то же самое), что между собой они самые близкие друзья. Они никогда не обсуждали это вслух, но им нравилось, что о них так думают, нравился тот кодекс дружбы, который им приписывали.
В тот вечер на ужин у них была пицца — ее заказал Джей-Би, а оплатил Малкольм. У них была травка, которую добыл Джей-Би; дождь, а потом град, лупил по стеклу, от ветра окна дребезжали в старых рассохшихся рамах, и от всего этого их счастье казалось еще более полным. Косяк переходил из рук в руки, и хотя он пропускал свою очередь (он никогда не курил траву; его слишком пугала потеря контроля — кто знает, что он может сказать или сделать?), дым застилал глаза, давил на веки пушистой звериной лапой. Он был осторожен — если за еду платил кто-то другой, он всегда старался съесть как можно меньше, и хотя он еще не наелся (оставалось два куска пиццы, некоторое время он глядел на них, не отрываясь, а потом, спохватившись, решительно отвернулся), ему было хорошо и спокойно. Так можно и уснуть, подумал он, вытягиваясь на диване и накрываясь одеялом Малкольма. Он чувствовал приятную усталость, впрочем, усталость была привычным его состоянием: столько сил уходило на то, чтобы казаться нормальным, что ни на что другое энергии уже не оставалось. (Иногда он понимал, что кажется со стороны деревянным, ледяным, скучным; многие, наверное, сочли бы это худшей участью, чем быть тем, кем он был на самом деле.) Он слышал как будто издалека, как Джей-Би с Малкольмом спорят о природе зла.
— Нам бы не пришлось спорить, если б ты прочитал Платона.
— Да, но что у Платона?
— Ты вообще читал Платона?
— Да при чем тут…
— Так читал или нет?
— Нет, но…
— Вот, видишь! Видишь!
Малкольм прыгал и показывал пальцем на Джей-Би, Виллем смеялся. От травки Малкольм всегда становился глупее и педантичнее, и они, все трое, раскручивали его на глупые и педантичные философские споры, которые Малкольм начисто забывал к утру.
Потом он слышал, как Виллем и Джей-Би говорили о чем-то — его слишком клонило в сон, чтобы прислушиваться, он лишь различал их голоса, — и потом сквозь морок прорвался звонкий голос Джей-Би:
— Джуд!
— Что? — спросил он, не открывая глаз.
— Хочу задать тебе вопрос!
Он сразу весь подобрался. Под кайфом Джей-Би обретал зловещую способность задавать крайне неудобные вопросы или высказывать неприятные для окружающих наблюдения. Наверное, он делал это не со зла, но стоило задуматься, что творится в его подсознании. Как понять, какой Джей-Би настоящий — тот, что спросил девушку из их общежития, Тришу Парк, каково ей было расти уродливым близнецом (бедная Триша вскочила и выбежала из комнаты), или тот, который, оказавшись свидетелем особенно тяжкого приступа, когда он то терял сознание, то приходил в себя (тошнотворное ощущение, как на американских горках), улизнул в ночи со своим обдолбанным бойфрендом и вернулся перед рассветом с пучком набухших цветами веток магнолии, наворованных во дворе колледжа?
— Какой вопрос? — спросил он настороженно.
— Мы знаем друг друга уже довольно давно, — начал Джей-Би, затянувшись косяком.
— Да ну? — Виллем изобразил крайнее изумление.
— Заткнись, Виллем. Так вот, — продолжал Джей-Би, — мы все хотим знать, почему ты нам не рассказываешь, что случилось с твоими ногами.
— Ничего подобного, — начал было Виллем, но его перебил Малкольм, который под кайфом всегда энергично поддерживал Джей-Би:
— Это очень обидно, Джуд. Ты что, нам не доверяешь?
— О господи, Малкольм. — Виллем передразнил его визгливым фальцетом: — «Это о-очень обидно». Ты как девчонка. Это личное дело Джуда.
Почему-то от этого стало еще хуже — всегда Виллему, именно Виллему приходилось защищать его от Малкольма и Джей-Би! В эту минуту он ненавидел их всех, хотя, конечно же, он не мог позволить себе их ненавидеть. Это были его друзья, его первые друзья, и он понимал, что дружба — это постоянный обмен: обмен приязнью, временем, иногда деньгами и всегда — информацией. У него не было денег. Ему нечего было им дать, нечего им предложить. Он не мог дать Виллему поносить свитер, хотя Виллем давал ему свой, не мог вернуть Малкольму сто долларов, которые тот однажды ему всучил, не мог даже помочь Джей-Би таскать вещи при выезде из общаги, хотя Джей-Би помогал ему.
— Это не очень интересно, — начал он, чувствуя их общее напряженное внимание, даже Виллема. Он не открыл глаз, потому что было легче рассказывать, не видя их лиц, и потому что он просто не мог этого вынести. — Меня сбила машина. Мне было пятнадцать, за год до колледжа.