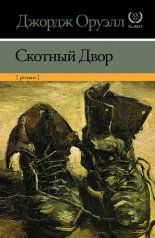Маленькая жизнь Янагихара Ханья

— Я постараюсь, — сказал он, беря у нее из рук бланк заказа, на котором стояло имя клиента: Гарольд Стайн. Он провел небольшое исследование, посоветовался с Си-Эм и Янушем и изготовил печенья, похожие на пейсли, на булавы, на огурцы, а потом с помощью разноцветной глазури изобразил на каждом цитоплазму, клеточные мембраны, рибосомы, сделал жгутики из полосок лакрицы. Он напечатал листок с названиями бактерий и вложил его в коробку, прежде чем перевязать ее бечевкой; он тогда не очень хорошо знал Гарольда, но был рад что-то для него сделать, произвести впечатление, пусть даже и анонимно. И ему было приятно гадать, что они празднуют: публикацию статьи? День рождения? Он просто заботливый муж? Или, может быть, Стайн из тех людей, кто может заявиться в лабораторию жены с коробкой печенья без всякой причины? Он подозревал, что да.
На следующей неделе Гарольд рассказал ему о потрясающих печеньях, которые испекли в «Глазури». Энтузиазм Гарольда, который всего несколько часов назад в аудитории был обращен на Единообразный торговый кодекс, теперь нашел себе новую пищу: печенье. Он сидел, кусая губы, чтобы не улыбаться, пока Гарольд говорил ему, как гениально был выполнен заказ, и как вся лаборатория Джулии просто онемела от того, как тщательно, как правдоподобно все было сделано, и как Гарольд на минутку стал всеобщим кумиром: «А от них ведь не дождешься, между прочим, они всех гуманитариев считают тупицами».
— Похоже, эти печенья делал какой-то маньяк, — сказал он.
Он не говорил и не собирался говорить Гарольду, что работает в кондитерской.
— Хотел бы я познакомиться с этим маньяком, — откликнулся Гарольд. — Они были еще и вкусные!
— Мм… — протянул он, думая, что бы еще такое спросить, чтобы Гарольд продолжал говорить о печеньях.
У Гарольда, конечно, были и другие научные ассистенты, двое со второго курса и один с третьего, которых он знал только в лицо; их расписание было устроено так, что они никогда не пересекались. Иногда они писали друг другу записки или общались по электронной почте, объясняя, на чем остановились, чтобы другой мог подхватить работу и продолжить с нужного места. Но во втором семестре первого курса Гарольд выделил ему собственный участок работы — Пятую поправку.
— Отличная тема, — сказал Гарольд. — Самый смак.
Два второкурсника занимались Девятой поправкой, а третьекурсник — Десятой, и хотя он понимал, что это смешно, он не мог не торжествовать, чувствуя, что ему оказали особую честь.
Гарольд впервые пригласил его к себе на ужин внезапно, холодным и темным мартовским вечером.
— Вы уверены? — робко спросил он.
Гарольд взглянул на него с любопытством.
— Конечно, — сказал он. — Это просто ужин. Есть-то надо, верно?
Гарольд жил в трехэтажном доме в Кеймбридже, прямо за кампусом.
— Не знал, что вы здесь живете, — сказал он, когда Гарольд припарковался у входа. — Люблю эту улицу. Я каждый день ходил по ней, чтобы срезать путь к другой части кампуса.
— Все так делают, — ответил Гарольд. — Когда я купил дом, перед самым разводом, в этом районе жили одни аспиранты; все ставни отваливались. Запах травки стоял такой, что можно было окосеть, просто проезжая мимо.
Шел снег, совсем не сильно, но он был рад, что у крыльца всего две ступеньки: вероятность поскользнуться невелика, и не придется просить Гарольда о помощи. Внутри пахло маслом, перцем, крахмалом: на ужин паста, подумал он. Гарольд бросил портфель на пол и провел краткую экскурсию: «Гостиная, за ней кабинет, кухня и столовая — налево»; и вышла Джулия, высокая, как Гарольд, с короткими каштановыми волосами — она сразу же ему понравилась.
— Джуд! — сказала она. — Наконец-то! Я столько о тебе слышала; я так счастлива, что мы познакомились наконец!
Похоже, она говорила искренне.
За ужином завязалась беседа. Джулия была родом из Оксфорда, из профессорской семьи, в Америку она переехала, когда поступила в аспирантуру в Стэнфорде; они с Гарольдом познакомились пять лет назад в гостях у общего знакомого. Ее лаборатория изучала новый вирус, возможно, вариант H5N1, и они пытались картировать его геном.
— Я правильно понимаю, что микробиологов едва ли не больше всего беспокоит потенциальная возможность использовать эти геномы как оружие? — спросил он и скорее почувствовал, чем увидел, как Гарольд повернулся к нему.
— Да, это правда, — сказала Джулия и стала объяснять сложности, проистекающие из их работы, а он украдкой посмотрел на Гарольда и увидел, что тот наблюдает за ним; поймав его взгляд, Гарольд поднял одну бровь с выражением, которое он затруднился расшифровать.
Но потом беседа потекла в другом русле, и он почти видел, как она неуклонно передвигается от Джулии и ее лаборатории к нему, видел, как преуспел бы Гарольд в зале суда, если бы выбрал эту стезю, как он перенаправляет беседу, словно это вода, которую можно пустить по желобам и трубам, не давая возможности свернуть с пути, направляя к неизбежной цели.
— А ты, Джуд, где жил раньше? — спросила Джулия.
— В Южной Дакоте и Монтане в основном, — ответил он, а зверек внутри вскинулся, почуяв опасность и не зная, куда бежать.
— У твоих родителей там ранчо? — спросил Гарольд.
За последние годы он научился предсказывать последовательность вопросов и уклоняться от них.
— Нет, но у многих там ранчо, это красивые места; а вы бывали на Западе?
Обычно этого хватало, но с Гарольдом номер не прошел.
— Ха! — сказал он. — Какой изящный маневр. — Гарольд пристально смотрел на него, так что он отвел взгляд и уставился в тарелку. — Ты таким образом даешь понять, что не скажешь нам, чем они занимаются?
— Ох, Гарольд, отстань от него, — сказала Джулия, но он чувствовал, что Гарольд не сводит с него взгляда, и был рад, когда ужин закончился.
После того первого вечера у Гарольда их отношения стали ближе и сложнее. Он чувствовал, что раздразнил любопытство Гарольда, он представлял его себе в виде насторожившегося смышленого пса — терьера, например, энергичного и неутомимого, — и не был уверен, что это хорошо кончится. Ему хотелось лучше узнать Гарольда, но за ужином он в очередной раз вспомнил, что этот процесс — узнавание кого-то — неизбежно оказывается опаснее, чем ему думалось. Он всегда об этом забывал, и всегда приходилось вспоминать заново. Ему хотелось, как это часто бывало, проскочить этап, когда люди обмениваются секретами и воспоминаниями, телепортироваться на следующую стадию, когда отношения становятся уютными, мягкими, разношенными, когда границы определены и соблюдаются обеими сторонами.
Другой человек сделал бы еще пару попыток, но потом все равно бы оставил его в покое, ведь его все оставили в покое в конце концов — друзья, сокурсники, другие преподаватели, — но от Гарольда отделаться было не так легко. Даже обычный метод, который он так успешно применял к своим собеседникам — мол, он хотел бы узнать побольше об их жизни, а не говорить о своей, тактика не только выигрышная, но и правдивая, — не действовал на Гарольда. Он никогда не знал, в какой момент терьер снова на него напрыгнет, и каждый раз оказывался не готов, и чем больше времени они проводили вместе, тем менее свободно он себя чувствовал.
Например, они могли сидеть в кабинете Гарольда и обсуждать дело о позитивной дискриминации Университета Западной Виргинии, которое слушалось в Верховном суде, и Гарольд вдруг спрашивал: «Джуд, а ты каких кровей?» — «Смешанных», — отвечал он и пытался сменить тему, даже если для этого приходилось уронить на пол стопку книг.
Иногда вопросы возникали стихийно, вне контекста, без всякой преамбулы, так что их невозможно было предугадать. Однажды они с Гарольдом заработались в офисе допоздна, и Гарольд заказал ужин с доставкой. На десерт там были печенье и брауни, и Гарольд придвинул к нему пакет.
— Нет, спасибо, — отказался он.
— Не будешь? — Гарольд поднял бровь. — Мой сын любил такие. Мы пытались печь их дома, но всегда получалось как-то не так. — Он разломил брауни пополам. — А тебе родители пекли что-нибудь, когда ты был маленьким? — Гарольд задавал эти вопросы с нарочитой непринужденностью, которая казалась ему невыносимой.
— Нет, — сказал он, делая вид, что проверяет свои записи.
Он смотрел, как Гарольд жует и явно раздумывает, отступить или продолжить допрос.
— Ты часто видишься с родителями? — спросил его Гарольд внезапно через несколько дней.
— Они умерли, — ответил он, не отрывая глаз от страницы.
— Очень сочувствую тебе, Джуд, — сказал Гарольд, помолчав, — так искренне, что он поднял глаза. — Мои тоже. Относительно недавно. Конечно, я намного старше тебя.
— Мне очень жаль, Гарольд, — сказал он. И добавил наугад: — Ты был с ними близок.
— Да, очень. А ты? Ты был близок со своими?
Он покачал головой:
— Нет, не очень.
Гарольд помолчал.
— Но я уверен, они гордились тобой, — сказал он наконец.
Когда Гарольд задавал вопросы такого рода, он весь холодел, будто его замораживали изнутри, все органы и нервы покрывались защитной ледяной оболочкой. В этот момент ему показалось, что если он ответит, то просто сломается: лед хрустнет, пройдет трещина, он расколется пополам. Поэтому он подождал, пока не уверился, что голос его прозвучит нормально, и только потом спросил Гарольда, нужно ли ему сегодня найти все статьи или можно сделать это завтра утром. Однако он не смотрел на Гарольда, а говорил как будто со своим блокнотом.
Гарольд долго ничего не отвечал.
— Можно завтра, — негромко сказал Гарольд, и он кивнул, собрал вещи, чтобы уйти домой, и чувствовал, как Гарольд провожает его взглядом до самой двери.
Гарольд хотел знать, где он вырос, есть ли у него братья и сестры, с кем он дружит и как проводит время с друзьями. Гарольд жаждал информации. Он мог ответить по крайней мере на последние два вопроса и рассказал ему про своих друзей, как они познакомились, где они сейчас: Малкольм в магистратуре в Колумбийском университете, Джей-Би и Виллем в Йеле. Ему нравилось отвечать на вопросы о них, нравилось о них говорить, нравилось, что Гарольд смеется над его рассказами. Он рассказывал и о Си-Эм, и о том, как Сантош и Федерико воюют со студентами с инженерного факультета, живущими в доме по соседству, который принадлежит братству Массачусетского технологического института, и как, проснувшись однажды утром, он обнаружил за окном целый флот дирижаблей из презервативов с приделанными моторчиками: они шумно поднимались мимо его окна к четвертому этажу, и с каждого свисала табличка: «У САНТОША ДЖАЙНА И ФЕДЕРИКО ДЕ ЛУКИ МИКРОПЕНИСЫ».
Но когда Гарольд задавал другие вопросы, он задыхался от их тяжести, частоты и неизбежности. А иногда воздух так накалялся от вопросов, которые Гарольд не задавал, что уж лучше бы он их задал. Людям так много надо знать, им нужно так много ответов. Он понимал это, ей-богу, — ему тоже нужны были ответы, ему тоже хотелось все знать. Он был благодарен своим друзьям за то, что они вытянули из него сравнительно немного сведений, и за то, что оставляли его наедине с собой, в пустых, безликих прериях, где под желтой поверхностью черви и жуки сновали в черной земле и медленно каменели осколки костей.
— Как тебя это интересует, — огрызнулся он однажды от отчаяния, когда Гарольд спросил его, встречается ли он с кем-нибудь, и сразу же, ужаснувшись собственному тону, извинился. К тому времени они были знакомы уже почти год.
— Это? — переспросил Гарольд, игнорируя извинение. — Меня интересуешь ты. И я не вижу в этом ничего странного. Друзья говорят о таких вещах.
И все же, несмотря на дискомфорт, он возвращался к Гарольду, принимал его приглашения на ужин, хотя в любом их разговоре наступал момент, когда он мечтал исчезнуть или начинал беспокоиться, что Гарольд разочаруется в нем.
Однажды за ужином его представили лучшему другу Гарольда, Лоренсу, с которым Гарольд познакомился еще в студенчестве и который теперь работал судьей апелляционного суда в Бостоне, и его жене Джиллиан, преподававшей литературу в Симмонс-колледже.
— Джуд, — сказал Лоренс, чей голос был еще ниже, чем у Гарольда, — Гарольд говорит, ты учишься на магистра в Массачусетском технологическом. По какой специальности?
— Чистая математика, — ответил он.
— А чем она отличается от обычной? — со смехом спросила Джиллиан.
— Ну, обычная, или прикладная, математика — это то, что можно назвать практической математикой, — ответил он. — Она используется для решения определенных задач в экономике, бухгалтерии, инженерии и так далее. Но чистая математика существует не для того, чтобы приносить немедленную, очевидную практическую пользу. Это чистое выражение формы, если угодно; единственное, что она доказывает, — так это почти бесконечную гибкость самой математики, в рамках тех предположений, которыми мы ее определяем, конечно.
— Ты имеешь в виду что-то вроде воображаемых геометрий? — спросил Лоренс.
— И это тоже. Но не только. Часто речь идет о доказательстве невозможной, но последовательной внутренней логики самой математики. Внутри чистой математики есть разные специализации: геометрическая чистая математика, как вы сказали, но и алгебраическая, и алгоритмическая математика, и криптография, и теория информации, и чистая логика, которую я как раз изучаю.
— А это что? — спросил Лоренс.
Он задумался.
— Математическая логика, или чистая логика, — это, в сущности, диалог между истинным и ложным. Например, я могу сказать вам: «Все положительные числа являются действительными. Два — положительное число. Следовательно, два должно быть действительным числом». Но истинно ли это утверждение? Это математический вывод, предположение об истине. Я не доказал, что два — действительное число, но по логике вещей это должно быть так. Поэтому можно написать доказательство, чтобы доказать, что логика этих двух утверждений — истинная и приложимая к бесконечному набору случаев. — Он остановился. — Это понятно?
— Video, ergo est, — сказал Лоренс внезапно. — Я вижу это, следовательно, оно существует.
Он улыбнулся:
— Это как раз в точности прикладная математика. А вот чистая математика — он задумался на мгновение — это, скорее, imaginor, ergo est.
Лоренс улыбнулся ему в ответ, кивнул:
— Очень хорошо.
— А теперь у меня вопрос, — заявил Гарольд, который все это время сидел и слушал молча. — Как, скажи на милость, тебя занесло в юридическую школу?
Все засмеялись, он тоже. Ему часто задавали этот вопрос (доктор Ли, например, с возмущением; научный руководитель его магистерской диссертации доктор Кашен — с недоумением), и он всегда отвечал по-разному, в зависимости от того, кто спрашивал, потому что настоящий ответ — хотел научиться себя защищать, хотел быть уверенным, что больше никто никогда не сможет до него добраться — казался слишком эгоистичным, мелким, незначительным, чтобы произносить его вслух (и к тому же вызывал многочисленные новые вопросы). Кроме того, он знал уже достаточно, чтобы понимать: закон — очень хрупкая защита, и, чтобы по-настоящему почувствовать себя в безопасности, нужно становиться снайпером, который щурится в оптический прицел, или химиком в лаборатории, полной пипеток и ядов.
Но в тот вечер он сказал:
— Так ведь закон похож на чистую математику — в теории он тоже может предложить ответ на любой вопрос. Любые законы должны проверяться на прочность и на разрыв, и если они не могут предложить решение любого вопроса, который находится в их компетенции, то они уже не законы, верно?
Он остановился, чтобы обдумать сказанное.
— Пожалуй, разница в том, что в законе есть много путей ко многим ответам, а в математике — много путей к единственному ответу. И еще в том, что закон на самом деле не про истину, а про управление. Но математике не надо быть ни удобной, ни практичной, ни функциональной, только истинной. Однако похожи они еще в том, что в математике и в праве самое главное — или, точнее, самое замечательное — не конкретная задача, не доказательство, не то, удалось ли выиграть дело или найти ответ, но красота и экономность исполнения.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Гарольд.
— В юриспруденции, — сказал он, — мы говорим о красивой заключительной речи или о красивой формулировке решения, и говорим мы, конечно, не только о логике, но и о форме. И точно так же в математике, когда мы говорим о красивом доказательстве, мы имеем в виду простоту доказательства, его… естественность, наверное. Его неизбежность.
— А теорема Ферма? — спросила Джулия.
— Это прекрасный пример некрасивого доказательства. Потому что хотя и важно, что эта задача была решена, но многие — например, мой научный руководитель — были разочарованы. Доказательство заняло сотни страниц, соединяло в себе разные разделы математики, оно было такое вымученное, сложенное из кусочков, словно мозаика, что до сих пор многие стараются доказать теорему заново, более элегантно, хотя она уже доказана. А красивое доказательство лаконично, как и красивое судебное решение. Оно соединяет лишь несколько разных концепций, пусть даже из разных частей математической вселенной, но всего несколько цепочек шагов ведет к величественному новому обобщению, новой истине в математике, к доказательному неоспоримому абсолюту в сконструированном мире, где неоспоримых абсолютов очень мало. — Он остановился, чтобы перевести дыхание, осознав вдруг, что все говорит и говорит, а остальные молча наблюдают за ним. Он почувствовал, что краснеет, что застарелая ненависть снова захлестывает его, словно грязная вода. — Простите, — сказал он, — простите. Заболтался. Я нечаянно.
— Ты шутишь? — ответил Лоренс. — Джуд, это первый по-настоящему содержательный разговор, который я слышу в доме Гарольда за последние лет десять, если не больше.
Все снова засмеялись, и Гарольд откинулся на спинку стула: он явно был доволен. Джуд заметил, как он сказал Лоренсу «Видишь?» одними губами, а Лоренс кивнул, и он понял, что это о нем, и был невольно польщен и немного смутился. Неужели Гарольд говорил о нем со своим другом? Может быть, на самом деле это была проверка, о которой он и не подозревал? Какое облегчение, что он прошел ее, не опозорил Гарольда; и еще он чувствовал облегчение от того, что завоевал свое место в этом доме, что его пригласят снова, пусть даже порой ему здесь бывает и неловко.
С каждым днем он все больше доверял Гарольду, но иногда спрашивал себя, не совершает ли снова все ту же ошибку. Что лучше: доверять или вечно быть настороже? Можно ли по-настоящему дружить с человеком, если подспудно всегда ожидаешь предательства? Иногда ему казалось, что он злоупотребляет щедростью Гарольда, его радостной верой в него, а иногда он думал, что настороженность все-таки не лишняя: если что-то пойдет не так, винить можно будет только себя. Но было трудно не доверять Гарольду: Гарольд не облегчал ему этой задачи, и, что еще важнее, сам он тоже хотел доверять Гарольду, хотел ослабить защиту, хотел, чтобы зверек у него внутри заснул и никогда больше не проснулся.
Однажды поздно вечером на втором курсе юридической школы он собирался уходить от Гарольда, но когда они открыли входную дверь, оказалось, что крыльцо, улица, деревья — все засыпано снегом, и снежные хлопья летели на них с такой силой, что они оба невольно отступили.
— Я вызову такси, — сказал он, чтобы Гарольду не пришлось его отвозить.
— Нет, ты просто переночуешь у нас.
И он остался в гостевой спальне Гарольда и Джулии на втором этаже. От их спальни его отделяла большая комната с окнами, которую они использовали как библиотеку, и короткий коридор.
— Вот тебе футболка, — сказал Гарольд, бросив ему что-то серое и мягкое, — а вот зубная щетка. — Он положил ее на книжный стеллаж. — Чистые полотенца в ванной. Тебе что-нибудь еще нужно? Воды?
— Нет, — сказал он. — Спасибо, Гарольд.
— Не за что. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
Он уснул не сразу — устроившись на удобном матрасе под пуховым одеялом, он смотрел, как окно заносит снегом, слушал, как по трубам идет вода, слышал, как негромко переговариваются Гарольд и Джулия, их шаги, потом наступила тишина. В эти минуты он представлял, что они его родители, он приехал домой из колледжа на выходные, это его комната, и назавтра они все встанут и будут проводить день так, как проводят день родители с выросшими детьми.
Летом после второго курса Гарольд пригласил его в их дом в Труро, на Кейп-Код. «Тебе понравится, — сказал он. — И позови своих друзей, им тоже понравится». И вот в четверг перед Днем труда, когда и у него, и у Малкольма закончилась практика, они все отправились на машине из Нью-Йорка, и на весь длинный уикенд внимание Гарольда сдвинулось в сторону Джей-Би, Малкольма и Виллема. Он тоже наблюдал за ними, восхищаясь тем, как они умеют парировать каждый выпад Гарольда, как щедро делятся своей жизнью, как умеют рассказать историю о себе и посмеяться над ней, и Гарольд с Джулией смеются тоже; как естественно они общаются с Гарольдом и он с ними. Он испытывал особенное удовольствие, наблюдая, как любимые им люди начинают любить друг друга. На участке была тропинка, которая вела на их собственный кусочек пляжа, и по утрам они вчетвером спускались вниз и плавали — даже он, в брюках, футболке и в старой рубашке с длинными рукавами, и никто к нему не приставал с вопросами, — а потом жарились на солнышке, и одежда, высыхая, отклеивалась от его тела. Иногда Гарольд тоже приходил составить им компанию или поплавать с ними. Ближе к вечеру Малкольм и Джей-Би отправлялись на велосипедную прогулку в дюны, а они с Виллемом шли пешком, поднимая осколки ракушек и печальные пустые панцири давно сгинувших раков-отшельников, и Виллем приноравливался к его шагу. Вечерами, когда воздух становился мягче, Джей-Би и Малкольм рисовали, а они с Виллемом читали. Ему казалось, что он все время пьян — от солнца, еды, соли, покоя и довольства, он рано ложился и быстро засыпал, а утром вставал раньше всех, чтобы в одиночестве постоять на крыльце, глядя на море.
— Что со мной будет? — спрашивал он у моря. — Что со мной?
Каникулы закончились, начался осенний семестр, и вскоре он понял, что в тот уикенд один из его друзей что-то сказал Гарольду, хотя он был уверен, что это был не Виллем, единственный из всех, кому он хоть что-то поведал о своем прошлом — совсем немного, три факта, один пустячней другого, все незначительные, из которых даже начало истории не сложишь. Даже в первых фразах сказки было больше деталей, чем в том, что он рассказал Виллему: жили-были мальчик и девочка в лесной чаще, с отцом-дровосеком и мачехой. Дровосек очень любил своих детей, но был очень беден, и вот однажды… Так что Гарольд мог услышать лишь умозаключения, выведенные из наблюдений, теории, догадки, выдумки. И все-таки этого оказалось достаточно, чтобы Гарольд прекратил задавать ему вопросы о том, кто он и откуда.
Шли месяцы и годы, и так повелось в их дружбе, что первые пятнадцать лет его жизни оставались нерассказанными, незатронутыми, как будто их и не было вовсе, как будто в колледже его вынули из коробки готовым, нажали кнопку на затылке, и он пробудился к жизни. Он знал, что эти пустые годы Гарольд так или иначе заполнил в своем воображении, и, может быть, что-то из воображаемого было хуже, чем то, что случилось на самом деле, а что-то — лучше. Но Гарольд никогда не рассказывал ему о своих предположениях, да он и не хотел знать.
Он никогда не считал эту дружбу временной, но был готов к тому, что Гарольд и Джулия смотрят на нее именно так. Поэтому, когда он переехал в Вашингтон, получив место референта, он решил, что они забудут его, и старался подготовить себя к потере. Но этого не случилось. Они писали и звонили, а когда кто-то из них приезжал в город, они вместе ужинали. Каждое лето он с друзьями приезжал в Труро, на День благодарения они все отправлялись в Кеймбридж. А когда через два года он переехал в Нью-Йорк работать в федеральной прокуратуре, Гарольд так обрадовался, что ему стало не по себе. Они даже предложили ему поселиться в их нью-йоркской квартире в Верхнем Ист-Сайде, но он знал, что они часто пользуются этой квартирой, и сомневался, что предложение было высказано всерьез, поэтому отказался.
Каждую субботу Гарольд звонил и расспрашивал его про работу, и он рассказывал ему про своего начальника Маршалла, зампрокурора, обладавшего жутковатой способностью декламировать наизусть решения Верховного суда от корки до корки, закрыв глаза и вызвав в памяти страницу; голос его становился механическим, монотонным, но Маршалл никогда не пропускал и не добавлял ни единого слова. Он всегда считал, что у него самого хорошая память, но Маршалл его поражал.
В каком-то смысле офис генерального прокурора напоминал ему приют: почти исключительно мужское царство, неуемная постоянная враждебность, желчь, неизбежно вскипающая там, где в тесном пространстве собирается группа соперников, ни в чем не уступающих друг другу, но знающих, что на самый верх поднимутся единицы. (Только здесь они не уступали друг другу в умениях, а там — в голодном ожесточении.) Младшие обвинители — добрых две сотни — все как на подбор окончили какую-нибудь из пяти-шести лучших юридических школ, и все они в этих школах участвовали в учебных судебных процессах и входили в редколлегии студенческих юридических журналов. Он работал в команде из четырех человек, которой поручали в основном дела о мошенничестве с ценными бумагами, и у каждого из них было что-то — какое-то отличие, какой-то козырь, который, как они надеялись, выделяет их среди других: у него была магистерская степень Массачусетского технологического (до нее никому не было дела, но это, по крайней мере, была диковинка) и работа в окружном суде референтом Салливана, с которым Маршалл был дружен. Ситизен, его ближайший приятель на работе, получил юридическую степень в Кембридже и два года, перед тем как переехать в Нью-Йорк, работал барристером в Лондоне. А Родс, третий в их трио, после колледжа отправился в Аргентину по фулбрайтовской стипендии. (Четвертый член команды был неизлечимый лентяй по имени Скотт, который, как поговаривали, получил эту работу только потому, что его отец играл в теннис с президентом.)
Он проводил почти все время в офисе, и иногда, если они с Ситизеном и Родсом засиживались допоздна и заказывали какую-то еду, ему все это напоминало вечера в общежитии. И хотя ему нравилось общаться с Ситизеном и Родсом и он ценил в каждом из них глубину и оригинальность ума, все же в такие минуты он скучал по своим друзьям, которые думали совсем не так, как он, и его заставляли думать по-новому. Разговаривая с Ситизеном и Родсом о логике, он внезапно вспомнил вопрос, заданный ему доктором Ли на первом курсе, когда его экзаменовали, перед тем как принять в семинар по чистой математике: почему крышки люков круглые? Это был простой вопрос, с простым ответом, но когда он повторил его своим соседям по комнате, воцарилось молчание. А потом Джей-Би начал мечтательным тоном бродячего сказителя: «Давным-давно жили на земле мамонты, и бродили они по земле, и оставляли следы, круглые отпечатки, которые ничем не выровнять…» — и все засмеялись. Он улыбнулся, вспоминая это; иногда ему хотелось думать как Джей-Би, сочинять истории на радость окружающим, а не искать всему и всегда объяснение, которое, даже будучи правильным, оказывалось лишено романтики, фантазии, юмора.
«Надо показать товар лицом», — шептал ему Ситизен, когда появлялся сам федеральный прокурор и все младшие обвинители вились вокруг, как мошкара, в своих серых костюмах. Они с Родсом присоединялись к этому рою, но на всех этих сборищах он ни разу не воспользовался случаем, хотя мог обратить на себя внимание не только Маршалла, но и федерального прокурора. После того как он получил эту работу, Гарольд попросил его передать привет Адаму, федеральному прокурору, который, как выяснилось, был давним его приятелем. Но он сказал Гарольду, что хотел бы пробиться самостоятельно. Это было правдой, но не всей правдой; ему не хотелось упоминать Гарольда на случай, если тот когда-нибудь пожалеет об их знакомстве. И он ничего не говорил.
Однако часто ему казалось, что Гарольд здесь, с ним. Разговоры о юридической школе (и сопутствующее хвастовство собственными достижениями) были любимым времяпровождением всего офиса, и поскольку многие коллеги учились там же, где он, и знали Гарольда (или были о нем наслышаны), ему нередко приходилось слышать рассказы о лекциях Гарольда или о том, как тщательно приходилось готовиться к его занятиям, и он гордился им и — понимая, что это глупо — гордился собой, тем, что они знакомы. На следующий год выйдет книга Гарольда о Конституции, и все они прочтут в разделе благодарностей его имя и узнают об их знакомстве, и многие станут смотреть на него с подозрением и тревогой, стараясь припомнить, что именно они говорили о Гарольде в его присутствии. Но к тому времени он будет знать, что занял определенное место в офисе собственными силами, стал работать бок о бок с Ситизеном и Родсом, выстроил отношения с Маршаллом.
И как бы ему того ни хотелось, как бы ни мечтал он об этом, он пока не решался назвать Гарольда другом: иногда он боялся, что только вообразил их близость, раздул ее в своем воображении, и тогда (стесняясь сам себя) он доставал с полки «Прекрасное обещание» и читал среди прочих благодарностей слова Гарольда о нем, как будто сами эти слова были договором, декларацией, утверждавшей, что его чувства к Гарольду хотя бы отчасти взаимны. И все-таки он всегда был готов: все может кончиться уже в этом месяце. А потом, когда месяц проходил: в следующем. В следующем месяце он расхочет со мной разговаривать. Он вечно готовился к разочарованию, хотя и надеялся, что его не последует.
И все же их дружба росла и крепла, словно мощная река подхватила его и несла куда-то в неведомые края. Каждый раз, когда ему казалось, что он подошел к границе их отношений, Гарольд и Джулия открывали перед ним следующую дверь и приглашали войти. Он познакомился с отцом Джулии, пульмонологом на пенсии, и с ее братом, профессором-искусствоведом, когда те приехали из Англии на День благодарения; а когда Гарольд и Джулия бывали в Нью-Йорке, они водили их с Виллемом ужинать в рестораны, о которых они только слышали, но не могли себе позволить там побывать. Джулия с Гарольдом приходили в квартиру на Лиспенард-стрит — Джулия вежливо молчала, Гарольд бурно ужасался, — а когда их батареи вдруг таинственно перестали работать, Джулия и Гарольд дали им ключи от своей нью-йоркской квартиры, где было так тепло, что, зайдя внутрь, они с Виллемом целый час просто сидели на диване, как манекены, слишком потрясенные возвращением тепла в их жизнь, чтобы шевелиться. А после того как Гарольд увидел его во время приступа — это было на День благодарения, когда он уже переехал в Нью-Йорк: в отчаянии он выключил плиту, на которой пассеровал шпинат, заполз в кладовку (понимая, что не сможет подняться наверх), закрыл дверь и улегся на пол, чтобы переждать, — они перепланировали дом, и когда он приехал в следующий раз, то обнаружил, что кабинет Гарольда на первом этаже за гостиной стал гостевой спальней, а письменный стол, стул и книги Гарольда переехали наверх.
Но даже после всего этого какая-то частица его ждала, что в один прекрасный день он подойдет к двери, а дверь окажется заперта. Он даже не очень возражал против этого; было что-то пугающее в том, что ему все позволено, что ему готовы дать все, ничего не требуя взамен. Он тоже пытался дать им все, что мог, но понимал, что этого ничтожно мало. И было такое, чего он не мог дать, а Гарольд давал так легко — ответы, ласку.
Однажды, когда они были знакомы уже почти семь лет, он гостил у них весной. Джулия отмечала день рождения, ей исполнился пятьдесят один год, и она решила устроить большое празднование, поскольку в прошлом году, в свой юбилей, была на конференции в Осло. Они с Гарольдом убирали в гостиной, вернее, он убирал, а Гарольд наугад снимал книги с полок и рассказывал истории о том, как ему досталась каждая из них, или открывал книгу, чтобы посмотреть, не написаны ли внутри имена других людей, пока не дошел до экземпляра «Леопарда», где на титульном листе было накарябано: «Собственность Лоренса В. Рэйли. Не брать. Гарольд Стайн, я к тебе обращаюсь!!!»
Он пригрозил, что расскажет Лоренсу, и Гарольд прорычал:
— Не смей, Джуд, а не то…
— Не то что? — спросил он, дразня Гарольда.
— А не то…
И Гарольд прыгнул в его сторону, и, не успев осознать, что это шутка, он рванулся прочь с такой силой, уклоняясь от контакта, что налетел на книжный шкаф и сбил с полки бугристую керамическую кружку, которую сделал Джейкоб, сын Гарольда, и кружка упала и раскололась на три куска. Гарольд отступил на шаг, и воцарилась внезапная, жуткая тишина, от которой он чуть не разрыдался.
— Гарольд, — сказал он, скрючившись на полу и подбирая осколки, — прости, прости меня. Мне так жаль. — Ему хотелось биться об пол; он знал, что эта кружка — последнее, что слепил Джейкоб для Гарольда, прежде чем заболел. Над собой он слышал дыхание Гарольда. — Гарольд, прости меня, пожалуйста! — повторил он, баюкая осколки в ладонях. — Знаешь, я, наверное, смогу склеить их, поправить… — Он не мог отвести взгляд от кусков кружки, от масляно-блестящей глазури.
Гарольд опустился на пол рядом с ним.
— Джуд, ничего страшного. Ты ведь не нарочно. — Он говорил очень тихо. — Дай мне осколки. — Гарольд бережно взял остатки чашки, но голос его не звучал сердито.
— Я могу уехать, — предложил он.
— Ты, конечно же, никуда не поедешь, — сказал Гарольд. — Джуд, ничего страшного не произошло.
— Но это была кружка Джейкоба, — услышал он собственный голос.
— Да, — сказал Гарольд. — Была и осталась. — Он встал. — Джуд, посмотри на меня. — И он наконец посмотрел. — Все хорошо. Дай мне руку.
Он взял руку Гарольда, и тот помог ему встать на ноги. Ему хотелось завыть: после всего, что Гарольд сделал для него, он отплатил ему тем, что уничтожил самое драгоценное, созданное самым дорогим человеком.
Гарольд поднялся в свой кабинет, неся в руках разбитую кружку, а он закончил уборку в тишине, весенний день померк для него. Когда вернулась Джулия, он ждал, что Гарольд расскажет ей, что он натворил, тупой увалень, но Гарольд ничего не сказал. Вечером за ужином Гарольд вел себя как обычно, но, вернувшись на Лиспенард-стрит, он написал Гарольду настоящее бумажное письмо, с настоящими извинениями, как положено, и послал.
А через несколько дней он получил ответ, тоже настоящее письмо, которое он будет хранить до конца своих дней.
«Дорогой Джуд, — писал Гарольд, — спасибо за твое прекрасное (хоть и излишнее) письмо. Я дорожу каждым словом в нем. Ты прав: эта кружка много для меня значит. Но ты значишь больше. Поэтому, пожалуйста, перестань себя казнить.
Будь я другим человеком, я бы мог сказать, что этот случай — метафора всей жизни. Неизбежно что-то ломается, иногда это можно починить, но в большинстве случаев ты понимаешь: какой бы ущерб ни нанесла тебе жизнь, она перестроится и воздаст тебе за твою потерю, иногда самым чудесным образом.
А может быть, я и есть такой человек и скажу именно так.
С любовью, Гарольд».
Он всего пару лет назад простился со слабенькой, но стойкой надеждой на выздоровление — хоть и знал, что так не бывает, хоть Энди и твердил ему об этом с семнадцати лет. В самые тяжелые дни он словно мантру повторял про себя слова того хирурга из Филадельфии: у позвоночника превосходные способности к восстановлению. Через несколько лет после знакомства с Энди, когда он уже учился на юриста, он наконец набрался храбрости и поделился с ним этим предсказанием, которым так дорожил, за которое так цеплялся, надеясь, что Энди кивнет и скажет: «Совершенно верно. Нужно просто подождать».
Но Энди фыркнул:
— Это он так сказал? Джуд, лучше тебе не станет, с возрастом будет только хуже.
Говоря это, Энди глядел на рану, которая открылась у него на лодыжке, и выковыривал из нее пинцетом кусочки омертвевшей кожи — и вдруг застыл, и он, даже не видя его лица, понял, что Энди корит себя за сказанное.
— Прости, Джуд, — Энди взглянул на него, по-прежнему придерживая его ногу одной рукой. — Прости, что не могу тебя обнадежить.
Он не сумел на это ничего ответить, и Энди вздохнул:
— Ты расстроился.
Конечно же он расстроился.
— Все в порядке, — выдавил он, но так и не нашел в себе сил поглядеть на Энди.
— Прости, Джуд, — тихо повторил Энди.
У Энди манера поведения часто менялась от грубоватой до мягкой, и он часто сталкивался с обеими этими его сторонами, подчас — за один прием.
— Но вот что я тебе обещаю, — сказал Энди и снова занялся его лодыжкой, — на мою помощь ты всегда можешь рассчитывать.
И он не солгал. Можно сказать, что Энди и знал о нем больше всех остальных его друзей: Энди был единственным человеком, перед которым он, уже будучи взрослым, раздевался донага, единственным, кто знал его тело со всех сторон. Когда они встретились, Энди учился в ординатуре, специализацию получал тоже в Бостоне, а затем оба они, с разницей в каких-нибудь несколько месяцев, перебрались в Нью-Йорк. Энди был хирург-ортопед, но его лечил от всего — и от боли в ногах и спине, и от простуды.
— Ну надо же, — сухо заметил Энди как-то раз, когда он отхаркивался у него в кабинете (прошлой весной, как раз перед тем, как ему исполнилось двадцать девять, чуть ли не весь их офис переболел бронхитом). — Как же здорово, что я стал ортопедом. Мне есть где применить мои знания. Я же для этого столько учился.
Он засмеялся было, но тут его снова скрутил кашель, и Энди похлопал его по спине.
— Может, если бы кое-кто порекомендовал мне хорошего терапевта, мне не пришлось бы из-за каждого чиха ходить к костоправу, — сказал он.
— Гммм… — сказал Энди. — Знаешь, может, тебе и вправду стоит найти терапевта. Видит бог, это сэкономит мне кучу времени, да и проблем на мою голову поменьше будет.
Но он так и не нашел себе другого врача и думал, что и Энди — хоть они с ним никогда об этом не заговаривали — этого бы тоже не хотелось.
Несмотря на то что Энди знал о нем порядочно, сам он об Энди не знал почти ничего. Он знал, что Энди учился в одном с ним колледже, что он на десять лет его старше, что его отец гуджаратец, а мать валлийка и что сам он вырос в Огайо. Три года назад Энди женился, и он весьма удивился, получив приглашение на свадьбу, которую отпраздновали в узком кругу, дома у тестя и тещи Энди, в Верхнем Вест-Сайде. Он уговорил Виллема пойти с ним и удивился еще больше, когда Джейн, невеста Энди, узнав, кто он такой, кинулась ему на шею и воскликнула:
— Знаменитый Джуд Сент-Фрэнсис! Я столько о тебе слышала!
— Вот как? — ответил он, страх зашумел у него в голове стаей летучих мышей.
— Ничего такого, — улыбнулась Джейн (она тоже была врачом, гинекологом). — Но он тебя обожает, Джуд. Я так рада, что ты пришел.
Тогда же он познакомился и с родителями Энди, а когда праздник уже подходил к концу, Энди обхватил его рукой за шею и неуклюже, но крепко чмокнул в щеку, и теперь делал так при каждой их встрече. Вид у него при этом был такой, будто ему ужасно неловко, но он твердо намерен придерживаться ритуала, и его это забавляло и трогало.
Он ценил в Энди многое, но превыше всего — невозмутимость. После того как они познакомились, после того как Энди сделал все, чтобы он не увиливал от визитов (когда он пропустил два повторных приема — не забыл о них, просто решил не ходить и не ответил на три телефонных звонка и четыре имейла, — Энди сам заявился в Худ-Холл и принялся колотить в дверь), он свыкся с мыслью, что иметь лечащего врача не так уж и плохо — в конце концов, от этого никуда не деться — и что Энди, пожалуй, можно довериться. Во время их третьей встречи Энди заполнил его историю болезни — все, что он счел возможным рассказать, — и записывал все факты молча, с непроницаемым лицом.
И впрямь, только несколько лет спустя — года четыре тому назад — Энди впервые напрямую упомянул его детство. Случилось это во время их первой крупной ссоры. Конечно, у них и до того бывали и споры, и разногласия, и раз или два в год Энди прочитывал ему длинную нотацию (он приходил к Энди раз в полтора месяца — теперь, правда, чаще — и, если Энди был особенно немногословен, заранее знал, что прием будет сопровождаться Нотацией) о том, как Энди удивляет и удручает его нежелание следить за своим здоровьем, как раздражает его отказ от помощи психотерапевта и что его нелюбовь к обезболивающим вообще ни в какие ворота не лезет, потому что они, скорее всего, здорово облегчили бы ему жизнь.
Поссорились они из-за того, что Энди показалось, будто он хотел покончить с собой. Это случилось прямо перед Новым годом, он тогда резал себя и полоснул слишком близко к вене, и все переросло в какой-то грязный, кровавый бардак, в который ему пришлось втянуть еще и Виллема. Когда они ночью приехали к Энди в смотровую, тот до того разозлился, что даже отказался с ним разговаривать и сердито бурчал что-то себе под нос, пока его зашивал — маленькими, аккуратными стежками, словно трудился над вышивкой.
Когда он пришел к Энди в следующий раз, то сразу понял, что тот в ярости, хоть Энди еще и рта не успел раскрыть. Сначала он вообще думал не приходить на осмотр, но понимал, что Энди будет ему названивать, или, хуже того, будет названивать Виллему, или, еще хуже, — Гарольду и не успокоится, пока он не придет.
— Надо было тебя, на хер, упечь в больницу! — вот с чего начал Энди, и потом добавил: — Какой же я придурок!
— По-моему, ты зря так разволновался, — начал было он, но Энди его и слушать не стал.
— Хорошо хоть я не считаю, что ты пытался покончить с собой, не то ты бы и глазом не успел моргнуть, как оказался в психушке. Это все только потому, что по статистике люди, которые режут себя так часто и в течение такого длительного времени, как ты, менее склонны к суициду, чем те, у кого приступы аутоагрессии случаются эпизодически. — Энди обожал статистику. Иногда он подозревал, что Энди сам ее и выдумывает. — Но, Джуд, это бред какой-то, ты был на волосок от смерти! Так что или ты сам идешь к психотерапевту, или я упрячу тебя в психушку.
— Ничего у тебя не выйдет! — сказал он, и сам распаляясь, хотя и знал, что Энди вполне может исполнить свою угрозу: он уже изучил законы о принудительной психиатрической помощи, которые действовали в штате Нью-Йорк, и они были не в его пользу.
— Выйдет, и ты сам это знаешь! — перешел на крик Энди.
Он всегда приходил после приемных часов, потому что после осмотра, когда у Энди было время и настроение, они частенько болтали.
— Я тебя засужу, — глупо сказал он, и тогда Энди заорал в ответ:
— Давай, вперед! Ты хоть понимаешь, Джуд, какой это пиздец?! Ты понимаешь вообще, в какое положение ты меня ставишь?!
— Не волнуйся, — саркастически ответил он. — Семьи у меня нет. Если я умру, никто не подаст на тебя в суд за врачебную халатность.
Энди отшатнулся, будто его ударили.
— Да как ты смеешь, — медленно произнес он. — Ты же знаешь, я не это имел в виду.
Конечно же он знал. Но сказал только:
— Как скажешь. Я пошел.
Он сполз со стола (хорошо, что Энди сразу кинулся его отчитывать и он не успел раздеться) и хотел было эффектно хлопнуть дверью, но на это и надеяться не стоило, не с его скоростью, поэтому Энди успел его перехватить.
— Джуд, — тут у него снова резко переменилось настроение, — я знаю, ты не хочешь идти к психотерапевту. Но это все уже зашло слишком далеко. — Он глубоко вздохнул. — Ты хоть с кем-нибудь говорил о том, что с тобой случилось в детстве?
— Это тут ни при чем, — сказал он, похолодев.
О том, что он ему рассказал, Энди не упоминал ни разу, и теперь ему показалось, будто тот его предал.
— Еще как связано, черт тебя дери! — воскликнул Энди, и неуклюжая театральность этой фразы — так ведь только в кино разговаривают — вызвала у него невольную улыбку, но Энди, приняв ее за насмешку, снова сменил тон. — Твое упрямство, Джуд, отдает каким-то невероятным высокомерием, — продолжил он. — Едва речь заходит о твоем здоровье и благополучии, как ты и слышать ни о чем не желаешь, вот и выходит — или мы имеем дело с патологическим случаем аутоагрессии, или тебе просто на всех нас насрать.
Его это задело.
— А твои постоянные угрозы посадить меня в психушку, стоит мне с тобой не согласиться, отдают каким-то невероятным манипуляторством, особенно сейчас, когда я тебе сказал, что это просто глупая случайность, — огрызнулся он в ответ. — Энди, я очень тебя ценю, правда. Я не знаю, что я бы без тебя делал. Но я взрослый человек, и ты не можешь мне указывать, что мне можно, а что нельзя.
— Тогда знаешь что, Джуд? — снова закричал Энди. — Ты прав. Я не могу ничего за тебя решать. Но и соглашаться с твоими решениями я тоже не обязан. Пусть теперь какой-нибудь другой придурок тебя лечит. Я этого больше делать не собираюсь.
— Ну и прекрасно, — бросил он и ушел.
Он и не помнил, когда ему в последний раз было так за себя обидно. Конечно, его многое задевало: и повсеместная несправедливость, и непрофессионализм, и что режиссеры никак не давали Виллему хорошую роль, но он редко обижался на то, что происходило или когда-то произошло с ним, на свою боль, на прошлое и на настоящее — на этих вещах он старался не зацикливаться, не тратить время на поиск ответов. Он и так знал, почему это все с ним случилось: это все с ним случилось потому, что он все это заслужил.
Но, с другой стороны, он понимал, что зря обижается. Зависимость от Энди его, конечно, злила, но в то же время он был ему благодарен и понимал, что Энди его поведение кажется нелогичным. Но такая у Энди была работа — улучшать людей: Энди смотрел на него, как сам он смотрел на запутанное налоговое законодательство, как на что-то, что нужно распутать и починить, а уж считает ли он сам, что его можно починить, или нет — дело десятое. Но исправлений, о которых он мечтал, — избавиться от шрамов, проступавших на спине жутким, неестественным рельефом, от стянутой кожи, тугой и блестящей как у жареной утки, — исправлений, на которые он и копил деньги, Энди бы точно не одобрил. «Джуд, — сказал бы Энди, если б узнал о его планах, — вот честное слово, это тебе не поможет, ты только деньги зря потратишь. Не делай этого». — «Но они же омерзительные», — промямлит он тогда. «Нет, Джуд, — ответит Энди, — честное слово, вовсе нет».
(Впрочем, он не собирался ничего рассказывать Энди, так что не будет и этого разговора.)
Шли дни, он не звонил Энди, и Энди не звонил ему. Словно желая его наказать, запястье по ночам саднило и не давало уснуть, а на работе он однажды забылся и за чтением принялся ритмично постукивать рукой по краю стола — застарелый тик, от которого он так не сумел полностью избавиться. Из швов потекла кровь, и он кое-как промыл их в ванной под краном.
— Что стряслось? — как-то вечером спросил его Виллем.
— Ничего, — ответил он.
Конечно, он мог обо всем рассказать Виллему, который бы выслушал его и очень по-виллемовски протянул бы: «Гммм…», — но он знал, что Виллем встанет на сторону Энди.
Через неделю после той ссоры он вернулся домой, на Лиспенард-стрит, — было воскресенье, он шел с прогулки по западному Челси — и застал Энди на ступеньках под дверью.
Он удивился.
— Привет, — сказал он.
— Привет, — ответил Энди. Они так и стояли под дверью. — Я не знал, возьмешь ли ты трубку, если я позвоню.
— Конечно взял бы.
— Слушай, — сказал Энди. — Прости меня.
— И ты меня. Прости, Энди.
— Но я правда думаю, что тебе нужно к кому-нибудь обратиться.
— Я тебе верю.
И каким-то образом они сумели на этом и остановиться — на ненадежном и взаимно неудовлетворительном перемирии, и вопрос о психотерапии застыл между ними бескрайней серой демилитаризованной зоной. Компромисс (хотя как они до него договорились, он теперь и сам не очень понимал) заключался в том, что в конце каждого приема он показывал Энди руки, а Энди проверял, нет ли на них свежих порезов. Каждый свежий порез он заносил в историю болезни. Он никогда не знал, из-за чего Энди может вспылить — иногда новых порезов много, а Энди только вздохнет тяжело, их записывая, а иногда порезов всего ничего, а Энди все равно заведется. «Ты себе все руки, на хер, испортил, ты это хоть понимаешь?» — спрашивал он тогда. Но он молчал и пропускал все нотации Энди мимо ушей. Отчасти он понимал, что мешая Энди делать свою работу, которая все-таки и заключалась в том, чтобы его лечить, он проявляет к нему неуважение и даже, можно сказать, издевается над ним на его же территории. Все эти подсчеты (иногда ему хотелось спросить, получит ли Энди подарок, если соберет определенное число, но он знал, что тот обидится) позволяли Энди хотя бы притвориться, будто он контролирует ситуацию, даже если на самом деле это было не так, — сбор данных как небольшая компенсация за отсутствие настоящего лечения.
А потом, два года спустя, у него открылась другая рана, на левой ноге, с которой всегда было больше хлопот, чем с правой, и от порезов Энди перешел к более насущным проблемам с ногой. Первая рана открылась, когда после травмы не прошло еще и года, и тогда она быстро зажила. «Но этим дело не кончится, — предупредил его хирург в филадельфийской больнице, — от этой травмы серьезно пострадали все системы — и покровная, и сосудистая, — поэтому время от времени раны на ногах будут открываться».
Эта стала одиннадцатой по счету, все ощущения были знакомыми, но причину он никогда не мог угадать (укус насекомого? Задел за уголок металлического ящика с документами? Всякий раз это была какая-нибудь крошечная колючая штучка, которая, однако, с легкостью пропарывала ему кожу, будто это и не кожа вовсе, а лист бумаги) и никогда не мог справиться с отвращением: гной, нарывный, рыбный запах, тонкая прореха на коже, будто рот эмбриона, который потом будет пускать пузыри вязкой непонятной жидкости. Это было противоестественно: когда он расхаживал с дырой на ноге, которую нельзя было заткнуть, то словно оказывался в фильме ужасов или в страшной сказке. Теперь он ходил к Энди каждую пятницу, по вечерам, и пока тот чистил рану, промывал ее, удалял кусочки мертвой ткани и изучал кожу вокруг, чтобы проверить, как рана зарастает, он, затаив дыхание, цеплялся за края стола и изо всех сил старался не кричать.
— Джуд, ты обязательно говори, если будет больно, — сказал Энди, пока он пыхтел, потел и считал про себя. — Если ты чувствуешь боль, это хорошо, а не плохо. Это значит, что нервы не отмерли и делают свою работу.
— Больно, — наконец выдавил он.
— По шкале от одного до десяти?
— Семь. Восемь.
— Прости, — ответил Энди. — Еще немного, честное слово. Еще пять минут.
Он зажмурился и стал считать до трехсот, заставляя себя не торопиться.