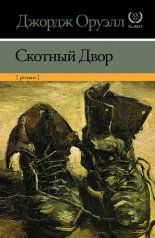Маленькая жизнь Янагихара Ханья

— Прости, Виллем, — сказал он наконец. — Прости, что притащил тебя сюда. Я оставлю картину здесь, пока не решу, что с ней делать.
— Все нормально, — ответил Виллем, и они снова завернули портрет и положили его под стол.
После того как Виллем ушел, он включил телефон, и на этот раз написал Джей-Би: «Джей-Би, большое спасибо за картину и за извинения, и то и другое много значит для меня». Он помедлил, раздумывая, что еще написать. «Я скучал по тебе и хочу узнать, что происходит в твоей жизни. Позвони, когда у тебя будет время повидаться». Все это было правдой.
И вдруг он понял, что надо сделать с картиной. Он нашел адрес регистратора галереи и написал ей записку — благодарил за то, что она послала ему «Джуда с сигаретой», и сообщал, что хочет передать картину в дар МоМА, не может ли она помочь ему с этой процедурой?
Позже он будет вспоминать это как поворотный момент, как переход между отношениями, которые были чем-то одним, а стали чем-то другим: это относилось к его дружбе с Джей-Би, но также и к его дружбе с Виллемом. Когда ему было двадцать с чем-то, он нередко смотрел на своих друзей и ощущал такое чистое, глубокое удовлетворение, что иногда ему хотелось, чтобы мир вокруг остановился, чтобы никому из них не пришлось двигаться дальше, чтобы можно было остаться здесь, в абсолютном равновесии, когда его любовь к ним абсолютна. Но, конечно, так быть не могло: мгновение, и все сдвинется, момент бесшумно исчезнет.
Утверждение, что Джей-Би навеки упал в его глазах, было бы слишком мелодраматичным, слишком окончательным. Но он и вправду впервые осознал, что люди, которым он научился доверять, все-таки могут предать его и, как бы грустно это ни было, это неизбежно, а жизнь будет катиться себе дальше, потому что на каждого, кто так или иначе подведет его, приходится по крайней мере один человек, который этого не сделает никогда.
Он всегда считал (и Джулия была с ним согласна), что Гарольд страшно усложняет празднование Дня благодарения. Каждый год, начиная с самого первого Дня благодарения у Гарольда и Джулии, Гарольд обещал ему — обычно в начале ноября, еще бурно увлеченный своим начинанием, — что на этот раз он потрясет мир до основания и подорвет самую банальную из американских кулинарных традиций. Гарольд всегда приступал к делу с размахом: на первый их совместный День благодарения, девять лет назад, когда он был на втором курсе юридической школы, Гарольд объявил, что приготовит утку l’orange, только заменит апельсины на кумкваты.
Но когда он приехал к ним с испеченным накануне пирогом из грецких орехов, встретила его одна Джулия. «Про утку ни слова», — шепнула она, целуя его. На кухне Гарольд с загнанным видом вынимал из духовки здоровущую индейку.
— Молчать, — предупредил Гарольд.
— А что тут скажешь? — спросил он.
В этом году Гарольд спросил, как он смотрит на форель, и добавил:
— Форель, фаршированную всяким фаршем.
— Форель — это отлично, — ответил он с опаской. — Но вообще, знаешь, Гарольд, я индейку тоже люблю.
Этот разговор так или иначе заводили каждый год: Гарольд предлагал разные белковые продукты и разных животных — черноногих китайских кур на пару, филе миньон, тофу с грибами муэр, салат из копченого сига на подушке из пророщенной ржи — в качестве улучшенного заменителя индейки.
— Ни одна живая душа не любит индейку, Джуд, — с чувством сказал Гарольд. — Я тебя раскусил. Ты притворяешься, что любишь индейку, только потому, что я, по-твоему, не в состоянии приготовить ничего другого. Это оскорбительно. Будет форель, решено. А ты можешь испечь такой же пирог, как в прошлом году? Мне кажется, он хорошо пойдет с вином, которое я купил. Пришли мне список продуктов, которые тебе нужны для готовки.
Самое удивительное, думал он, что Гарольд в обычной жизни равнодушен к еде (и вину). Прямо сказать, вкус у него был отвратительный; Гарольд часто водил его в дорогие, но посредственные рестораны, где радостно поглощал пережаренное мясо с неизобретательным гарниром из переваренной пасты. Он каждый год обсуждал странный пунктик Гарольда с Джулией (которая тоже не очень интересовалась едой): у Гарольда было много навязчивых идей, в том числе необъяснимых, но эта казалась особенно необъяснимой и к тому же неотвязной.
Виллем считал, что Гарольдовы искания на День благодарения начались в шутку, но с годами преобразились во что-то более серьезное и теперь он действительно не мог остановиться, даже понимая, что цель недостижима.
— Но знаешь, — сказал Виллем, — вообще-то это все из-за тебя.
— В каком смысле? — спросил он.
— Это спектакль для тебя, — сказал Виллем. — Это он говорит тебе, что тебя любит, причем так сильно, что хочет произвести на тебя впечатление, — но не произнося самих слов.
Он немедленно отверг это предположение: «Вряд ли, Виллем», — но иногда воображал, что Виллем прав, и чувствовал себя глупым и немножко жалким от того, что эта мысль приносила ему столько счастья.
В нынешнем году на День благодарения с ним поехал только Виллем; когда они с Джей-Би помирились, тот уже договорился погостить у теток и взять с собой Малкольма; он попытался было переиграть, но тетки так всполошились, что Джей-Би решил их не злить.
— А что у нас на этот раз? — спросил Виллем. Они поехали на поезде в среду, вечером накануне праздника. — Изюбрь? Оленина? Черепаха?
— Форель, — ответил он.
— Форель! — повторил Виллем. — Ну, форель — это легко. Вдруг он и правда приготовит форель.
— Только он собрался ее чем-то фаршировать.
— А. Беру свои слова обратно.
За ужином собралось восемь человек: Гарольд и Джулия, Лоренс и Джиллиан, друг Джулии Джеймс со своим бойфрендом Кэри и они с Виллемом.
— Форель получилась просто улетная, — сказал Виллем, расправляясь со второй порцией индейки, и все посмеялись.
Когда же, думал он, он перестал чувствовать себя не в своей тарелке в гостях у Гарольда? Конечно, не обошлось без помощи друзей. Гарольд любил с ними спорить, любил провоцировать Джей-Би на резкие, почти расистские высказывания, любил поддразнивать Виллема и спрашивать, когда же тот наконец остепенится, любил поговорить с Малкольмом о новых направлениях в архитектуре и эстетике. Он знал, что Гарольду нравится с ними разговаривать и что им это тоже нравится, и сам радовался их непринужденности, не стремясь участвовать в беседе — как стайка попугаев, они распускали друг перед другом пестрые перья, красуясь в привычной среде без боязни подвоха.
За ужином только и разговора было что о дочери Джеймса, которая летом выходила замуж. «Я старик», — стонал Джеймс, а Лоренс и Джиллиан, чьи дочери еще учились в колледже и на праздник поехали к друзьям в Кармел, сочувственно похмыкивали.
— Кстати, — сказал Гарольд, уставившись на них с Виллемом, — вы-то когда остепенитесь?
— По-моему, он к тебе обращается, — улыбнулся он Виллему.
— Гарольд, мне тридцать два! — возмутился Виллем, и все снова засмеялись, а Гарольд возмущенно фыркнул:
— Это, по-твоему, объяснение? Это оправдание? Тебе же не шестнадцать!
Но, какой бы приятной ни была беседа, в закоулке сознания что-то напряженно зудело: он не мог понять, что за разговор Гарольд и Джулия собираются с ним завести на следующий день. Он рассказал об этом Виллему по дороге в Бостон, и за работой (фаршируя индейку, бланшируя картошку, накрывая стол) они пытались угадать, что Гарольд собирается ему сообщить. После ужина они накинули куртки и засели в саду за домом, теряясь в догадках.
По крайней мере, он знал, что с ними все в порядке — это первое, что он спросил, и Гарольд уверил его, что они с Джулией здоровы. Но что же тогда это могло быть?
— Может, он считает, что я слишком много у них торчу, — сказал он Виллему. Может быть, он просто надоел Гарольду.
— Исключено, — сказал Виллем — так быстро и решительно, что он испытал облегчение. Они помолчали. — Может, кому-то из них предложили интересную работу и они переезжают?
— Об этом я тоже думал. Но вряд ли Гарольд уедет из Бостона. Да и Джулия тоже.
В конечном счете вариантов оставалось немного — по крайней мере, таких, которые требовали бы разговора с ним: может, они продают дом в Труро (но при всей его любви к этому дому — почему об этом надо говорить с ним?). Может, Гарольд и Джулия решили расстаться (но никакой перемены в их отношениях заметно не было). Может, они решили продать нью-йоркскую квартиру и хотят узнать, не купит ли он ее (маловероятно: он был уверен — они ни за что не станут продавать квартиру). Может, они ремонтируют ту квартиру и хотят, чтобы он проследил за ремонтом.
Потом их предположения стали более конкретными и менее правдоподобными: может, Джулия сменил сексуальную ориентацию (или Гарольд). Может, Гарольд вступил в секту (или Джулия). Может, они бросают работу и переезжают в ашрам на севере штата Нью-Йорк. Может, они решили стать аскетами и жить в труднодоступной долине в штате Кашмир. Может, они ложатся на совместную омолаживающую пластическую операцию. Может, Гарольд стал республиканцем. Может, Джулия уверовала в Бога. Может, Гарольду предложили должность министра юстиции. Может, правительство Тибета в изгнании установило, что Джулия — это очередная инкарнация Панчен-ламы, и она переезжает в Дармсалу. Может, Гарольд собрался участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от социалистов. Может быть, они открывают ресторан на центральной площади, где будут подавать только индейку, фаршированную каким-нибудь еще мясом. К этому времени они так хохотали — и от нервной, успокаивающей беспомощности незнания, и от абсурдности своих догадок, — что согнулись пополам, и каждый зажимал рот воротником куртки, чтобы не шуметь, а замерзающие слезы пощипывали им щеки.
Но, уже лежа в постели, он опять вернулся к мысли, которая выползла, как некая лиана, из темного уголка сознания и оплела его тонкими зелеными побегами: вдруг они что-то узнали о его прошлом. Может быть, ему продемонстрируют улики — справку от врача, фотографию или (при самом мрачном развитии событий) кадр из видеозаписи. Он заранее решил, что не станет ничего отрицать, не станет спорить, не станет оправдываться. Он признает подлинность улик, он попросит прощения, объяснит, что не хотел их обмануть, пообещает, что они его больше никогда не увидят, и уйдет. Он только попросит их хранить его тайну, больше никому не рассказывать. Он отрепетировал свою речь: «Прости меня, Гарольд. Прости, Джулия. Я не хотел ставить вас в неловкое положение». Но, конечно, это были пустые извинения. Может, и не хотел, но какая разница — поставил бы; и поставил-таки.
Виллем уехал наутро, вечером у него был спектакль.
— Позвони мне, как только узнаешь, ладно?
Он кивнул.
— Джуд, все будет в порядке, — пообещал Виллем. — Что бы ни случилось, мы разберемся. Не дергайся, ладно?
— Ты же знаешь, я все равно буду дергаться, — сказал он и попытался улыбнуться Виллему.
— Ну знаю, да, — сказал Виллем. — А ты все-таки постарайся. И позвони сразу.
Остаток дня он провел за уборкой — в этом доме всегда было чем заняться, потому что ни Гарольд, ни Джулия не отличались любовью к порядку — и, сев за ранний ужин, им же и приготовленный (тушеная индейка и свекольный салат), почувствовал, что от волнения стал почти невесомым, и только притворялся, что ест, передвигая еду по тарелке в надежде, что Гарольд и Джулия не заметят. Потом он принялся составлять посуду в стопку, чтобы отнести на кухню, но Гарольд его остановил.
— Оставь, Джуд, — сказал он. — Давай, может, поговорим сейчас?
Он почувствовал, что мелко дрожит от ужаса.
— Но их надо сполоснуть, а то все засохнет, — запротестовал он, сам слыша, как глупо это звучит.
— Да и хрен бы с ними, — сказал Гарольд, и, даже зная, что Гарольду и правда искренне наплевать, что засохнет или не засохнет на его тарелках, он на мгновение задумался, не слишком ли беспечна эта беспечность, не притворное ли это спокойствие. Но что ему оставалось? Он поставил тарелки на стол и поплелся за Гарольдом в гостиную, где Джулия наливала себе и Гарольду кофе, а ему уже налила чаю.
Он опустился на диван, Гарольд — на стул слева от него, а Джулия — на приземистый пуф, обитый сюзане, напротив: они всегда так садились вокруг низкого столика, и он загадал, чтобы время остановилось — вдруг это последнее такое мгновение в этом доме и он последний раз сидит в теплой темной комнате с книжными полками, и терпким, сладковатым запахом мутного яблочного сока, и сине-алым турецким ковром, собравшимся в складки под кофейным столиком, и пятном на диванной подушке, где ткань протерлась и почти обнажила бледную кожу муслина, — со всеми вещами, к которым он позволил себе так привязаться, потому что они принадлежали Гарольду и Джулии, потому что он позволил себе думать об их доме как о своем.
Прошло несколько минут; они потягивали свои напитки, не глядя друг на друга, и он пытался притвориться, что это просто обычный вечер, хотя в обычный вечер ни один из них не стал бы так долго молчать.
— Так вот, — начал наконец Гарольд, и он, внутренне подобравшись, поставил чашку на стол. Что бы он ни сказал, напомнил он себе, не придумывай оправданий. Что бы он ни сказал, прими это как должное и поблагодари за все.
Последовала еще одна длинная пауза.
— Как трудно-то это выговорить, — продолжил Гарольд и повертел кружку в руке, и ему пришлось переждать еще одну паузу. — У меня же была речь заготовлена, правда? — обратился он к Джулии, и она кивнула. — А я нервничаю сильнее, чем рассчитывал.
— Да, — подтвердила Джулия. — Но ты отлично начал.
— Ха! — откликнулся Гарольд. — Ты очень трогательно врешь. — И Гарольд улыбнулся жене, а у него возникло ощущение, что только они и остались в комнате, а про него совершенно забыли. Но вот Гарольд снова затих, подбирая слова.
— Джуд, я — мы — мы знаем тебя уже почти десять лет, — наконец вымолвил Гарольд и посмотрел сначала на него, потом в сторону, куда-то над головой Джулии. — И за эти годы мы, мы оба, очень к тебе привязались. Ты наш друг, разумеется, но мы считаем тебя не только другом; больше чем другом. — Он посмотрел на Джулию, и она снова ему кивнула. — Так что не сочти нас слишком… самонадеянными, что ли, но мы хотели спросить, как ты отнесешься к тому, чтобы мы тебя, так сказать, усыновили. — Он снова повернулся к нему и улыбнулся. — С юридической точки зрения ты будешь наш сын и наследник, и когда-нибудь все это, — он сделал неуклюже-широкий жест свободной рукой, — будет твоим, если захочешь.
Он молчал. Он не мог говорить, не мог реагировать; он не чувствовал собственного лица, не знал, какое выражение на нем застыло, и Джулия поспешила на помощь.
— Джуд, — сказала она, — если ты этого не хочешь — не важно почему, — мы поймем, не беспокойся. Мы понимаем, это большое дело. Если ты откажешься, наше отношение к тебе не изменится, правда же, Гарольд? Ты всегда, всегда будешь у нас желанным гостем, и мы надеемся, что ты навсегда останешься в нашей жизни. Честное слово, Джуд, мы не рассердимся, а ты нам ничего не должен. — Она взглянула на него. — Может, тебе нужно время, чтобы подумать?
И тогда он почувствовал, что онемение отступает, но как будто в отместку руки начали трястись, и он схватил диванную подушку и обхватил ее, чтобы спрятать руки. Он несколько раз пытался что-то сказать и не мог, и смог наконец, только не глядя на них.
— Мне не надо думать, — сказал он, и собственный голос показался ему чужим и тонким. — Гарольд, Джулия — да вы смеетесь? Нет ничего, ничего на свете, чего бы я больше хотел. Всю жизнь. Я просто никогда не думал… — Он остановился; получалось сбивчиво. С минуту они все сидели тихо, пока он наконец не поднял на них глаза. — Я думал, вы мне скажете, что больше не хотите со мной дружить.
— Ох, Джуд, — сказала Джулия, а Гарольд недоуменно нахмурился.
— С чего ты вообще взял? — спросил он.
Но он покачал головой, не в силах им этого объяснить.
Они снова замолчали, а потом все заулыбались — Джулия Гарольду, Гарольд ему, он в подушку, — не зная, чем завершить эту сцену, что делать дальше. Наконец Джулия хлопнула в ладоши и встала.
— Шампанского! — сказала она и вышла из комнаты.
Они с Гарольдом тоже встали и посмотрели друг на друга.
— Ты уверен? — тихо спросил его Гарольд.
— Да уж не меньше, чем ты, — ответил он так же тихо. Тут можно было неостроумно и банально пошутить — так это все было похоже на предложение руки и сердца, — но у него не хватило духу.
— Ты понимаешь, что будешь с нами связан на всю жизнь, — с улыбкой сказал Гарольд и положил руку ему на плечо, а он кивнул. Он надеялся, что Гарольд не скажет больше ни слова, потому что иначе его вырвет, он заплачет, упадет в обморок, заорет или испепелится. Он внезапно осознал, как он вымотан, как полностью выжат — не только беспокойством последних нескольких недель, но и желанием, тоской, жаждой последних тридцати лет, как бы он ни говорил себе, что ему все равно, — так что, после того как они подняли бокалы и поздравили друг друга и сначала Джулия, а потом Гарольд его обняли — прикосновение Гарольда оказалось таким незнакомым и интимным, что он едва не вывернулся из его рук, — он испытал облегчение, когда Гарольд велел ему забыть о дурацких тарелках и идти спать.
В спальне он пролежал полчаса, прежде чем вспомнил о телефоне. Ему было необходимо ощутить каркас кровати, прикосновение хлопкового покрывала к щеке, знакомую податливость матраса. Ему было необходимо убедиться, что это все его мир, и он все еще в нем, и случившееся действительно случилось. Он внезапно вспомнил свой давний разговор с братом Петром: он спросил, усыновят ли его когда-нибудь или нет, и брат рассмеялся и сказал «нет» так убежденно, что больше он никогда такого вопроса не задавал. И хотя он был, наверное, еще совсем мал, он очень ясно помнил, что ответ брата только укрепил его решимость, хотя, конечно, он абсолютно никак не мог повлиять на то, как все обернется.
Он так разволновался, что позвонил Виллему, забыв, что тот уже на сцене, но когда в антракте Виллем перезвонил, он все так же лежал на кровати, так же свернувшись запятой, так же придерживая телефон ладонью.
— Джуд, — выдохнул Виллем, и он слышал, как искренне Виллем за него счастлив. Только Виллем — и Энди, и до некоторой степени Гарольд — хотя бы смутно представляли очертания его детства: монастырь, приют, жизнь у Дугласов. Со всеми остальными он старался быть уклончивым насколько возможно, а потом говорил, что потерял родителей в раннем детстве и вырос в приемных семьях, что обычно останавливало дальнейшие расспросы. Но Виллем знал несколько больше; Виллем знал, что это его самое невообразимое, самое страстное желание.
— Джуд, это потрясающе. Ты как себя чувствуешь?
Он попытался посмеяться.
— Чувствую, что я все запорю.
— Не запорешь. — Они оба помолчали. — Я даже не знал, что можно усыновить совершеннолетнего.
— Ну это экзотика, но можно. Если обе стороны согласны. Обычно делается из соображений наследства. — Он снова попытался засмеяться и обругал себя: перестань делать вид, что смеешься. — Я это когда-то проходил по семейному праву, помню смутно, но знаю, что мне полагается новое свидетельство о рождении с их именами.
— Ух ты, — сказал Виллем.
— Вот-вот.
Он услышал, как издалека кто-то строго позвал Виллема.
— Тебе пора, — сказал он Виллему.
— Черт, — ответил Виллем. — Но, Джуд, слушай, поздравляю. Ты заслуживаешь этого больше всех на свете. — Он крикнул кому-то «иду!». — Мне пора, — сказал он. — Можно я напишу Гарольду и Джулии?
— Конечно. Только, Виллем, не говори остальным, ладно? Мне надо с этим как-то сначала освоиться.
— Ни слова не скажу. Завтра увидимся. Джуд… — Виллем замолчал, не смог продолжить фразу.
— Ага, — ответил он. — Я знаю, Виллем. Я тоже это чувствую.
— Я люблю тебя, — сказал Виллем и сразу отключился.
Он никогда не знал, что ответить Виллему на эти слова, но всегда хотел их услышать. Это был вечер невозможных событий, и он боролся со сном, чтобы оставаться в сознании как можно дольше, чтобы снова прокрутить в уме все, что с ним произошло, и насладиться тем, как желания всей его жизни сбылись за несколько часов.
На следующий день, вернувшись домой, он обнаружил записку от Виллема, который просил дождаться его, а потом Виллем пришел с мороженым и морковным пирогом, и они все съели, хотя сладкое особенно не любили, и с шампанским, которое они выпили, хотя на следующий день ему надо было рано вставать. Пронеслось несколько недель: Гарольд занимался бюрократическими процедурами и посылал ему формуляры на подпись: запрос об усыновлении, заявление о смене свидетельства о рождении, запрос о его потенциальных судимостях, который он отнес в банк к нотариусу на заверение в обеденный перерыв. Он хотел, чтобы на работе об этом знали только те, кому он сообщил сам: Маршалл, Ситизен и Родс. Он рассказал Малкольму и Джей-Би, и они, с одной стороны, отреагировали в точности как он ожидал — Джей-Би выдал лавину несмешных шуток со скоростью почти невротической, как будто надеялся, что какая-нибудь из них в конце концов окажется удачной, Малкольм задал много крючкотворских вопросов о разных гипотетических сторонах дела, на которые он не мог ответить, — а с другой стороны, оба искренне за него порадовались. Он сказал Черному Генри Янгу, который в юридической школе ходил на два семинара к Гарольду и восхищался им, и Ричарду, другу Джей-Би, с которым он сблизился после особо затянувшейся и нудной вечеринки у Эзры год назад, где они оказались самыми трезвыми — разговор начался с системы социального обеспечения во Франции и перекинулся на другие темы. Он рассказал Федре, которая завизжала, и еще одному старинному университетскому другу, Илайдже, который тоже завизжал.
И конечно, он рассказал Энди, который сначала просто уставился на него и кивнул, как будто он попросил наложить ему еще одну повязку под конец рабочего дня. Но потом стал издавать причудливые тюленьи звуки, то ли лай, то ли чихание, и он понял, что Энди плачет. Это зрелище вызвало в нем ужас и легкую панику; он не знал, что делать. «Марш отсюда, — скомандовал Энди в промежутке между всхлипами. — Я серьезно, Джуд, исчезни», — и он послушался. На следующий день на работе курьер вручил ему букет роз размером с куст гардении и записку, написанную сердитым угловатым почерком:
ДЖУД МНЕ ТАК НЕЛОВКО ЧТО Я С ТРУДОМ ПИШУ. ПОЖАЛУЙСТА ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ВЧЕРАШНЕЕ. Я ДИКО СЧАСТЛИВ ЗА ТЕБЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС КАКОГО ХРЕНА ГАРОЛЬД СТОЛЬКО ТЯНУЛ. НАДЕЮСЬ ТЫ ВОСПРИМЕШЬ ЭТО КАК ЗНАК ЧТО ТЕБЕ НАДО О СЕБЕ ЗАБОТИТЬСЯ КАК СЛЕДУЕТ ЧТОБЫ ХВАТИЛО СИЛ МЕНЯТЬ ГАРОЛЬДУ ПОДГУЗНИКИ КОГДА ЕМУ СТУКНЕТ ТЫСЯЧА ЛЕТ И ОН БУДЕТ ХОДИТЬ ПОД СЕБЯ ВЕДЬ ТЫ ЗНАЕШЬ ОН НЕ СТАНЕТ ОБЛЕГЧАТЬ ТЕБЕ ЖИЗНЬ И НЕ ПОМРЕТ В НОРМАЛЬНОМ ПОЧТЕННОМ ВОЗРАСТЕ КАК ВСЕ ЛЮДИ. ПОВЕРЬ МНЕ РОДИТЕЛИ В ЭТОМ СМЫСЛЕ СТРАШНЫЙ ГЕМОРРОЙ. (НО И БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ, КОНЕЧНО) С ЛЮБОВЬЮ, ЭНДИ
Они с Виллемом единодушно решили, что письма лучше им читать не доводилось.
Но потом месяц эйфории прошел, настал январь, Виллем уехал на съемки в Болгарию, и старые страхи возвратились, на этот раз в компании новых. Судебное заседание назначено на пятнадцатое февраля, сказал Гарольд, и после небольших перестановок председательствовать должен был Лоренс. Теперь, когда срок приблизился, он остро, неотступно осознавал, что может все испортить, и поэтому начал — сначала бессознательно, а позже маниакально — избегать Гарольда и Джулии, уверенный, что если им слишком часто напоминать, во что они ввязываются, то они передумают. Когда во вторую неделю января они приехали в Нью-Йорк, чтобы сходить в театр, он сделал вид, что уехал в Вашингтон в командировку, а еженедельные телефонные разговоры с ними старался сокращать и заканчивать поскорее. Каждый день невозможность происходящего казалась ему все более очевидной, все более отчетливой; каждый раз, когда он краем глаза замечал в окне какого-нибудь здания, как его отражение ковыляет уродливой походкой зомби, он с отвращением думал: кому же такое может понадобиться? Мысль, что он может стать членом чьей-нибудь семьи, становилась все смехотворнее, и если Гарольд увидит его хотя бы еще разок, он неизбежно придет к такому же выводу. Он знал, что формально это не очень важно — в конце концов, он взрослый; он знал, что усыновление — акт скорее церемониальный, нежели социально значимый; но он хотел этого с упорной страстью, наперекор логике, и не мог пережить, что сейчас у него это отнимут, сейчас, когда все небезразличные ему люди так счастливы за него, сейчас, когда его желание вот-вот исполнится.
Однажды оно чуть было не исполнилось. Через год после его прибытия в Монтану, когда ему было тринадцать, его приют участвовал в объединенной усыновительной ярмарке трех штатов. Ноябрь был объявлен Национальным месяцем приемных детей, и как-то раз, холодным утром, им велели опрятно одеться, спешно погрузили в два школьных автобуса и два часа везли в Мизулу, а там вывели из автобусов и провели в конференц-зал гостиницы. Их автобусы прибыли последними, и зал уже был полон детей — мальчики с одной стороны, девочки с другой. В центре зала длинной полосой расположились составленные друг за другом столы, и, проходя на указанное место, он увидел, что на столах лежат папки с наклейками: «Мальчики-младенцы»; «Мальчики-ясельники»; «Мальчики 4–6»; «Мальчики 7–9»; «Мальчики 10–12»; «Мальчики 13–15»; «Мальчики 15+». В папках, сказали им, документы с их фотографиями, именами и другой информацией: откуда они, к какой этнической группе относятся, как учатся, каким спортом занимаются, какие у них способности и интересы. Что же, подумал он, сообщают его документы? Какие таланты ему придумали, какую расу, какое происхождение?
Старшие мальчики, те, чьи имена и лица были собраны в папке «15+», знали, что их ни за что не усыновят, и стоило воспитателям отвернуться, улизнули через запасной выход, чтобы накуриться. От младенцев и ясельников ничего не требовалось — их выберут первыми, а они об этом даже не знают. Глядя из угла, куда он забился, он обратил внимание, что у некоторых мальчиков — тех, кто по возрасту уже бывал на таких ярмарках, но еще не совсем перерос иллюзии — разработаны стратегии. Он видел, как мрачные становились улыбчивыми, как злобные обидчики становились веселыми и игривыми, как мальчики, которые обычно друг друга ненавидели, вдруг начинали играть и болтать с убедительным дружелюбием. Он видел, как мальчики, которые грубят воспитателям и обзывают друг друга в коридорах, улыбаются и учтиво беседуют со взрослыми, с потенциальными родителями, заходящими в зал. Он видел, как самый злобный, самый грубый из мальчишек, четырнадцатилетний Шон, который однажды повалил его на пол в туалете и держал, упершись коленями ему в лопатки, ткнул пальцем в карточку на груди, когда семейная пара, с которой он только что беседовал, направилась к столам с папками. «Шон! — крикнул он им вслед, явно пытаясь казаться вежливо-равнодушным. — Шон Грэди!» И что-то в хриплом, полном надежды голосе заставило его впервые пожалеть Шона и одновременно разозлиться на супругов, которые, как он заметил, на самом деле листали папку «Мальчики 7–9». Но такие чувства проходили быстро, потому что он в то время приучал себя не чувствовать ничего: ни голода, ни боли, ни гнева, ни грусти.
У него не было в запасе хитростей, не было умений, он никого не мог очаровать. Он попал в приют таким заторможенным, что в ноябре предыдущего года его даже не взяли на ярмарку, да и теперь, год спустя, вряд ли стало намного лучше. Он все реже вспоминал брата Луку, это правда, но дни за пределами классной комнаты смазывались в один; чаще всего он просто плыл по течению, стараясь притвориться, будто не имеет никакого отношения к собственной жизни, мечтая стать невидимым, надеясь, что никто его не заметит. С ним что-то делали, но он не буйствовал, как когда-то; порой, когда его били, в его душе — в той степени, в какой она еще могла на что-то реагировать — возникал вопрос, как отнеслись бы братья к нему нынешнему: его вспышки гнева, его истерики, его сопротивление — все куда-то ушло. Он стал тем мальчиком, каким они всегда хотели его сделать. Теперь он хотел быть перышком на ветру, чем-то легким, тонким, бесплотным, не занимающим места в пространстве.
Поэтому он удивился — не меньше, чем воспитатели, — когда оказалось, что он вошел в число выбранных детей (его выбрала семья Лири). Заметил ли он мужчину и женщину, смотревших на него, может быть даже улыбавшихся ему? Возможно. Но день прошел, как почти все дни, в тумане, и уже в автобусе, возвращаясь в приют, он начал старательно обо всем забывать.
Он должен был провести пробный уикенд — перед Днем благодарения — у Лири, чтобы стало понятно, как они друг другу понравятся. В четверг воспитатель по имени Бойд отвез его к ним. Бойд преподавал ремесла и сантехнику; они не были близко знакомы, но, конечно, Бойд был в курсе того, что делали с ним другие воспитатели; он их никогда не останавливал, но никогда и не присоединялся.
Но когда он вылез из машины возле дома Лири — одноэтажной кирпичной постройки, окруженной со всех сторон незасеянными, темными полями, — Бойд схватил его за руку и подтащил к себе, вытряхнув из забытья.
— Не просри свой шанс, Сент-Фрэнсис, — сказал он. — Это твой шанс, понял?
— Да, сэр, — ответил он.
— Ну вали, — сказал Бойд и отпустил его, и он зашагал к миссис Лири, которая ждала на пороге дома.
Миссис Лири была тучной, а ее муж — просто крупным, с огромными, похожими на молотки красными кулачищами. У них было две дочери, обеим за двадцать, обе замужем, поэтому они решили, что неплохо бы иметь в доме паренька, который помогал бы мистеру Лири — тот занимался починкой крупной сельскохозяйственной техники и сам тоже фермерствовал — работать в поле. Они выбрали его, сказали они, потому что он показался им тихим и вежливым, а буйные им не нужны; им нужен человек трудолюбивый, который ценит дом и крышу над головой. В папке они прочли, что он умеет выполнять разную работу, умеет делать уборку и хорошо проявил себя в приусадебном хозяйстве приюта.
— Вот имя у тебя необычное, — сказала миссис Лири.
Ему так никогда не казалось, но он ответил:
— Да, мэм.
— Как ты считаешь, можно тебя звать по-другому? — спросила миссис Лири. — Например, может быть, Коди? Мне всегда нравилось имя Коди. Оно как-то не такое… ну, больше нам подходит, мне кажется.
— Коди — хорошее имя, — сказал он, хотя на самом деле никакого мнения на этот счет не имел: Джуд, Коди, какая разница, как его зовут.
— Ну вот и хорошо, — сказала миссис Лири.
Ночью, оставшись один, он повторил это имя вслух: Коди Лири. Коди Лири. Возможно ли войти в дом одним человеком, а потом, как в зачарованном краю, превратиться в другого? И так просто, так быстро? Исчезнет Джуд Сент-Фрэнсис, а с ним — брат Лука, и брат Петр, и отец Гавриил, и монастырь, и воспитатели из приюта, и его стыд, страхи, грязь, и вместо них появится Коди Лири, у которого есть родители, собственная комната и возможность стать кем он захочет.
Остаток выходных прошел спокойно — так спокойно, что с каждым днем, с каждым часом ему казалось, что какие-то частицы его бытия возвращаются к жизни, что тучи, которые он собрал вокруг себя, расходятся и исчезают, что он смотрит в будущее и представляет себе свое место в нем. Он изо всех сил старался быть вежливым и усердным, и это было несложно: он вставал рано утром и готовил супругам завтрак (миссис Лири расхваливала его так шумно и так безудержно, что он смущенно улыбался, глядя в пол), потом мыл посуду, помогал мистеру Лири удалить смазку с инструментов, вкрутить новую лампочку, и хотя были и вещи, которые ему не нравились — скучная церковная служба, на которую они пошли в воскресенье, молитвы, которые нужно было прочитать, прежде чем его отпускали спать, — они не были хуже того, что ему не нравилось в приюте, и он мог все это проделывать, не выглядя недовольным или неблагодарным. Он чувствовал, что Лири не будут такими родителями, о каких пишут в книгах, родителями, о каких он страстно мечтал, но он умел быть усердным, умел предупреждать их желания. Его по-прежнему пугали огромные красные руки мистера Лири, и, оставаясь с ним наедине в коровнике, он то и дело напряженно вздрагивал, но, по крайней мере, здесь нужно было опасаться только мистера Лири, а не целой толпы мистеров Лири как раньше, как в приюте.
Когда вечером в воскресенье Бойд забрал его, он был доволен своими успехами и даже чувствовал себя уверенно.
— Как прошло? — спросил Бойд, и он, не лукавя, ответил:
— Хорошо.
Миссис Лири попрощалась с ним словами: «Есть у меня чувство, что мы очень скоро будем видеться гораздо чаще, Коди», — и он не сомневался, что в понедельник они позвонят и вскоре, может быть, уже к пятнице, он станет Коди Лири, а приют превратится в очередное воспоминание. Но понедельник прошел, а за ним вторник и среда, наступила новая неделя, а его все не вызывали к директору, и письмо, которое он написал мистеру и миссис Лири, оставалось без ответа, и каждый день стоянка возле спального корпуса была все такой же темной и пустой, и никто за ним не приезжал.
Прошло две недели после тех выходных, и он пошел к Бойду, зная, что по четвергам тот остается в своей мастерской допоздна. Весь ужин он прождал под дверью на скрипучем снегу, пока наконец Бойд не вышел из здания.
— Господи, — сказал Бойд, свернув за угол и чуть не налетев на него. — Ты почему до сих пор не в спальном корпусе, Сент-Фрэнсис?
— Скажите, — взмолился он, — скажите, Лири за мной приедут?
Но ответ был очевиден еще до того, как он взглянул Бойду в лицо.
— Они передумали, — сказал Бойд, и хотя ни воспитатели, ни мальчики не находили в нем особой доброты, в тот момент голос его был почти добр. — Забудь, Сент-Фрэнсис. Не вышло. — Бойд протянул руку в его сторону, но он отшатнулся, и Бойд, покачав головой, пошел восвояси.
— Подождите! — крикнул он, встряхнувшись и пробираясь через снег по следам Бойда. — Я попробую снова. Скажите, что я сделал не так, и я попробую еще раз.
Он чувствовал, как в нем поднимается прежняя истерика, дух того мальчишки, который впадал в буйство и орал, который своими воплями умел привести в онемение полную комнату народу.
Но Бойд снова покачал головой.
— Так не бывает, Сент-Фрэнсис, — сказал он, потом остановился и посмотрел прямо на него. — Послушай. Пройдет несколько лет, и ты отсюда уйдешь. Я понимаю, это кажется очень долго; на самом деле недолго. Ты будешь взрослый, сможешь делать что захочешь. Надо просто переждать эти несколько лет. — И он отвернулся уже окончательно и зашагал прочь.
— Как? — крикнул он вслед Бойду. — Бойд, скажите мне как! Как, Бойд, как? — Хотя воспитателя следовало называть «сэр», а не «Бойд».
В тот вечер он закатил первую за несколько лет истерику, и хотя наказание за нее было в общем-то такое же, как в монастыре, освобождение, чувство полета, некогда ему знакомое, ушло: теперь он знал, как все устроено, и крики не могли ничего изменить, и все, чего он добился своим ором, — это возвращения к себе же, так что каждая вспышка боли и каждое оскорбление казались более острыми, яркими, прилипчивыми, громкими, чем раньше.
Он так никогда и не узнал, что сделал не так в те выходные у Лири. Он не узнал, мог ли он на что-нибудь повлиять или нет. И из всех воспоминаний монастырских и приютских времен, которые он методично вымарывал, он усерднее всего стремился стереть тот уикенд, забыть особый стыд тех мгновений, когда он вздумал счесть себя кем-то другим.
Но, конечно, теперь, когда до судебного заседания оставалось шесть недель, пять недель, четыре недели, он постоянно вспоминал об этом. Без Виллема, пока некому было следить за его режимом и образом жизни, он не ложился, пока не начинало светать, и чистил все, что мог: отдраивал зубной щеткой пол под холодильником, отбеливал затирку в тонких швах между плитками кафеля в ванной. Он занимался уборкой, чтобы не резать себя, потому что за бритву он хватался так часто, что и сам понимал, какое это разрушительное безумие, и сам пугался — и того, что делал, и того, что не мог себя контролировать. Он стал использовать новый метод: прикасался лезвием к коже и нажимал, вгоняя его как можно глубже, чтобы потом, убрав бритву — которая торчала, как топор из пня, — на полсекунды раздвинуть плоть и увидеть чистую белую ложбинку, похожую на брусок сала, прежде чем кровь хлынет, заполняя порез. У него кружилась голова, как будто его накачали гелием; у еды был гнилой вкус, и он перестал есть без крайней необходимости. Он оставался на работе, пока ночные уборщицы не начинали по-мышиному шуршать в коридорах, а потом не спал дома; он просыпался с таким сердцебиением, что приходилось жадно глотать воздух, чтобы успокоиться. Только работа и звонки Виллема удерживали его в относительной вменяемости, иначе он не выходил бы из дома и резал себя, срезая целые пирамиды плоти с рук и спуская их в канализацию. Ему представлялось, что он срезает с себя сначала плоть на руках, потом на ногах, потом с груди, с шеи, с лица, и вот остаются одни кости, скелет, который двигается, дышит и ковыляет по жизни на пористых, хрупких ногах.
Он снова ходил к Энди раз в шесть недель и уже дважды откладывал последний визит, потому что боялся того, что Энди ему скажет. Но в конце концов, когда до судебного заседания оставалось меньше четырех недель, он поехал к нему в приемную; пока он сидел в смотровой, Энди высунулся из кабинета и сообщил, что задерживается.
— Не торопись, — отозвался он.
Энди оглядел его, нахмурившись.
— Я быстро, — сказал он наконец и исчез.
Несколько минут спустя в смотровую зашла Калли, медсестра, работавшая с Энди.
— Привет, Джуд, — сказала она. — Доктор попросил, чтобы я вас взвесила. Можете встать на весы?
Он не хотел взвешиваться, но понимал, что Калли не виновата, не она это придумала, так что он тяжело слез со стола, встал на весы, даже не взглянув на показания, а Калли что-то записала в его карту, поблагодарила и вышла.
— Ну, — спросил Энди, вернувшись и изучив его карту, — с чего начнем — с резкой потери веса или с усиленного членовредительства?
Он не знал, что на это ответить.
— Почему ты решил, что оно усиленное?
— Да я всегда знаю, — ответил Энди. — У тебя, ну, под глазами синеет. Ты, наверное, сам не замечаешь. И ты надел свитер поверх халата. Ты так делаешь, когда дела плохи.
— А, — сказал он. Он действительно этого не замечал.
Они помолчали. Энди подвинул табуретку ближе к столу и спросил:
— Когда назначили?
— На пятнадцатое февраля.
— Ага, — сказал Энди. — Скоро уже.
— Да.
— И что тебя тревожит?
— Меня тревожит… — начал он, и остановился, и попытался снова. — Меня тревожит, что, если Гарольд обнаружит, кто я на самом деле, он не захочет… — Он запнулся. — И я не знаю, что хуже — если он узнает заранее, и тогда он точно от меня откажется, или если узнает потом и поймет, что я его обманываю.
Он вздохнул; он никак не мог это сформулировать, а теперь сформулировал и понял, что именно этого и боится.
— Джуд, — осторожно сказал Энди, — что с тобой, по-твоему, не так, чтобы Гарольд не захотел тебя усыновлять?
— Энди, — взмолился он, — не заставляй меня об этом говорить.
— Но я правда не знаю!
— Я всякое делал, — сказал он, — я заработал этим болезни. — Он запнулся, охваченный ненавистью к себе. — Это отвратительно. Я отвратительный.
— Джуд, — начал Энди; он произносил несколько слов и останавливался, как будто осторожно и медленно шел по заминированной лужайке. — Ты был ребенком. Младенцем. С тобой это делали другие. Тебе не за что, вообще не за что винить себя. Ни при каких обстоятельствах, ни в какой вселенной. — Энди посмотрел на него. — И даже если бы ты не был ребенком, если бы ты был развратный мужик, который трахал все, что движется, и заработал кучу венерических заболеваний, все равно стыдиться было бы нечего. — Он вздохнул. — Попробуй мне поверить, а?
Он помотал головой.
— Не знаю.
— А я знаю, — грустно сказал Энди. — Сходил бы ты к психотерапевту, Джуд. — Он не отвечал, и через несколько минут Энди встал. — Ну, — сказал он решительно, — показывай.
И он снял свитер и вытянул руки.
По выражению лица Энди он понял, что там все хуже, чем он ожидал; он старался смотреть на себя как на что-то незнакомое и вспышками видел то, что видел Энди: куски пластырей на свежих порезах, полузатянувшиеся шрамы с хрупкой пленкой формирующейся рубцовой такни, один воспалившийся порез, над которым наросла заметная шапка засохшего гноя.
— Так, — сказал Энди после долгого молчания, почти закончив обрабатывать правую руку — он промыл воспалившийся порез и смазал остальные антибактериальным кремом, — а что мы будем делать с резкой потерей веса?
— Ну не такая уж она резкая.
— Джуд, — сказал Энди, — двенадцать фунтов меньше чем за восемь недель — это резкая потеря; те двенадцать фунтов тоже не сказать чтобы были лишние.
— Мне просто не хочется есть, — сказал он, помолчав.
Энди не говорил больше ничего, пока не обработал обе руки. Потом он вздохнул, снова сел и стал что-то писать в блокноте.
— Я хочу, чтобы ты три раза в день нормально питался, Джуд, — сказал он, — плюс ел что-то из этого списка. Каждый день. Это в дополнение к обычной еде, ты понял? Иначе я позвоню твоей банде и заставлю их сидеть с тобой за завтраком, обедом и ужином и следить за тем, как ты поел. Ты этого хочешь? Не думаю. — Он вырвал листок из блокнота. — Вот, возьми. И ты явишься сюда на следующей неделе. Никаких отговорок.
Он посмотрел на список — СЭНДВИЧ С АРАХИСОВЫМ МАСЛОМ. СЭНДВИЧ С СЫРОМ. СЭНДВИЧ С АВОКАДО. 3 ЯЙЦА (С ЖЕЛТКАМИ!!!). БАНАНОВЫЙ СМУЗИ — и сунул его в карман брюк.
— И вот еще какая штука, — сказал Энди. — Когда ты проснешься среди ночи и захочешь порезаться, позвони мне вместо этого. Мне плевать, во сколько, позвони, хорошо?
Он кивнул.
— Я серьезно, Джуд.
— Прости, Энди, — сказал он.
— Ага, — сказал Энди. — Но ты не должен просить прощения. У меня-то уж точно нет.
— У Гарольда.
— Нет, — возразил Энди. — И у Гарольда тоже нет. Только у себя самого.
Он пошел домой и там жевал банан, пока банан не превратился в грязь во рту, и тогда он переоделся и продолжил мыть окна в гостиной, за которые взялся еще прошлым вечером. Он оттирал их, подвинув диван поближе, чтобы можно было встать на подлокотник, не обращал внимания на прострелы в спине, когда карабкался вверх и вниз и медленно таскал ведра грязно-серой воды в ванную. Когда он закончил уборку в гостиной и комнате Виллема, у него все болело так, что до ванной пришлось ползти, и там он, порезав себя, замер, держа руку над головой и завернувшись в напольный коврик. Когда зазвонил телефон, он приподнялся, тупо огляделся вокруг и со стоном потащился в спальню — на часах было три часа ночи, — где услышал в трубке раздраженный, но бодрый голос Энди.
— Я опоздал, — догадался Энди.
Он ничего не ответил.
— Джуд, послушай, — сказал Энди, — если ты не прекратишь, мне придется тебя сдать в больницу. И я позвоню Гарольду и объясню ему, в чем дело. Можешь не сомневаться. И потом — ты не устал от этого, Джуд? Ты не должен это делать с собой. Не должен.
Он не знал, в чем было дело — может быть, просто в том, как спокоен был голос Энди, как четко он сформулировал свое обещание, не оставляя сомнений, что шутки кончились (а раньше было не так), или, может быть, он просто понял, что действительно устал, так устал, что наконец-то готов подчиниться приказу, — но в течение следующей недели он делал что было велено. Он ел по расписанию, хотя еда по каким-то странным алхимическим законам превращалась в грязь, в требуху: он заставлял себя жевать и глотать, жевать и глотать. Порции были невелики, но он ел. Энди звонил каждую ночь, в полночь, а Виллем каждое утро в шесть (у него не хватало духу спросить, позвонил ли Энди Виллему, а Виллем сам не говорил). Время между звонками было самым тяжелым, и хотя он не мог полностью отказаться от бритвы, он ставил себе ограничения: два пореза, и все. Без лезвий его тянуло к более ранним способам наказания — прежде чем его научили резать себя, он одно время бился о стену возле комнаты мотеля, где они жили с братом Лукой, бился снова и снова, пока не опускался, обессиленный, на пол, и левый бок у него был постоянно сине-пурпурно-коричневым от синяков. Теперь он так не делал, но помнил это ощущение, помнил освобождающий удар тела о стену, жутковатое удовольствие от столкновения с чем-то столь неподвижным.
В пятницу он пошел к Энди, который его не похвалил (он не поправился), но и нотации читать не стал (он не похудел), а на следующий день вылетел в Бостон. Он никому не сказал, что едет, даже Гарольду. Он знал, что Джулия на конференции в Коста-Рике; знал, что Гарольд будет дома.
Шесть лет назад Джулия дала ему ключи — тогда он должен был приехать на День благодарения, а они оба были заняты на кафедральных заседаниях, — поэтому он сам вошел в дом, налил себе воды и уставился на сад позади дома, стоя со стаканом в руке. Еще не было двенадцати, Гарольд в это время играл в теннис, поэтому он отправился в гостиную, чтобы подождать там, но уснул, а проснулся оттого, что Гарольд тряс его за плечо и настойчиво звал.
— Гарольд, — сказал он, выпрямляясь. — Прости, прости. Мне следовало позвонить.
— Господи, — проговорил Гарольд, тяжело дыша; от него остро пахло холодом. — Джуд, что случилось? Ты в порядке?
— Все хорошо, все хорошо, — повторял он, заранее слыша, какую глупость сейчас скажет. — Я просто решил заскочить.
— Ну… — протянул Гарольд и ненадолго умолк. — Я рад тебя видеть. — Он сел в свое кресло и посмотрел на него. — Ты в эти недели как-то отбился от рук.
— Знаю, — сказал он. — Прости.
Гарольд пожал плечами.
— Да что тут извиняться. Я рад, что ты в порядке.
— Да, — сказал он. — Я в порядке.
Гарольд наклонил голову набок.
— Выглядишь ты неважно.
Он улыбнулся:
— Переболел гриппом. — Он посмотрел на потолок, как будто там можно было прочитать нужные реплики. — Форзиция-то совсем завалилась.
— Ага. Зима была ветреная.
— Хочешь, помогу тебе ее подпереть?
Гарольд уставился на него долгим взглядом, слегка двигая челюстью, как будто одновременно пытался что-то сказать и промолчать. Наконец сказал:
— Ну пошли.