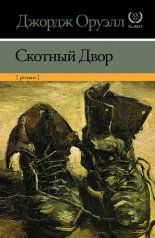Маленькая жизнь Янагихара Ханья

— Ох, — сказал Джей-Би. Наступила тишина, он чувствовал, что из всех как будто выпустили воздух, все как будто разом отрезвели. — Сочувствую, бро. Это хреново.
— А раньше ты мог ходить? — спросил Малкольм, как будто теперь он не ходил. Ему стало грустно и стыдно: видимо, только он думал, что ходит, остальные так не считали.
— Да, — ответил он и добавил, поскольку это было чистой правдой, хотя не совсем в том смысле, в каком они поймут: — Я даже бегал по пересеченной местности.
— Ни фига себе, — проговорил Малкольм. Джей-Би сочувственно хмыкнул.
Он заметил, что только Виллем ничего не сказал. Но не посмел открыть глаза и посмотреть на выражение его лица.
Как он и предполагал, эти сведения разлетелись по кампусу. (Вероятно, многим действительно хотелось знать про его ноги. Триша Парк подошла к нему и сообщила, что она всегда думала, будто у него церебральный паралич. И что он должен был на это сказать?) Постепенно, однако, в пересказах объяснение стало звучать как «автомобильная авария», позже появился и «пьяный водитель».
«Самое простые объяснения, как правило, верны», — говорил профессор математики, доктор Ли; видимо, этот принцип применили и здесь. Однако в данном случае принцип не сработал. Математика — особая статья, в жизни все сложное не сведешь к простому.
Но вот что странно: по мере того как история дрейфовала в сторону аварии, у него появилась возможность переписать ее, просто согласившись со всеми. Но он не мог. Не мог он назвать это аварией; это была не авария. Гордость это или глупость — не воспользоваться таким удобным путем отступления? Он не знал.
А потом он заметил еще кое-что. У него случился очередной приступ — унизительный и тяжелый, он как раз заканчивал дежурство в библиотеке, а Виллем пришел его сменить на несколько минут раньше срока, и он услышал, как библиотекарша, милая, начитанная женщина, спросила Виллема, что с ним такое. Они — миссис Икли и Виллем — перенесли его в комнату отдыха, где стоял сладковатый запах застарелого жженого кофе; от остроты этого ненавистного запаха его чуть не стошнило.
— Сбила машина, — донесся до него ответ Виллема, как будто с другого берега черного озера.
И только ночью до него дошло, что сказал Виллем, какие слова он выбрал: «сбила машина», а не «автомобильная авария». Нарочно ли это? Что он знает? Он так разволновался, что уже готов был спросить, но Виллема не было — он ночевал у девушки.
Никого нет, понял он. Комната принадлежит ему. Он почувствовал, как чуткий зверек внутри него расслабился, улегся — он представлял его хрупким, тощим, похожим на лемура, вечно настороженным и готовым к бегству, с темными влажными глазами, которые постоянно высматривают опасность. В такие минуты он особенно радовался колледжу: вот он лежит в теплой комнате, и завтра сможет трижды поесть досыта, и пойдет на занятия, и никто ничего ему не сделает, не заставит делать то, чего он делать не хочет. Где-то неподалеку находятся его соседи по общежитию — его друзья, — и он прожил еще один день, не выдав своих секретов; еще один день пролег между тем, кем он был когда-то, и им теперешним. Этим достижением он заслужил сон, и можно закрыть глаза и приготовиться к следующему дню.
Всерьез о колледже с ним заговорила Ана, его первый и единственный социальный работник, первый человек, который ни разу его не предал, — о колледже, куда он в результате и поступил, в чем Ана заранее была уверена. Поступать в колледж ему предлагала не она одна, но именно она на этом сильнее всего настаивала.
«А почему бы и нет?» — говорила она.
Это было ее любимое выражение. Они с Аной сидели на веранде, на заднем дворе ее дома, и ели банановый хлеб, приготовленный девушкой Аны. Природу Ана особо не жаловала (все ползает, все копошится, говорила она), но когда он предложил выйти на воздух — робко, потому что тогда не совсем еще понимал границы дозволенного, — она, хлопнув по подлокотникам кресла, с усилием встала на ноги.
— А почему бы и нет? Лесли! — крикнула она Лесли, которая делала лимонад на кухне. — Тогда на улицу нам его вынеси!
Ана была первой, кого он увидел, когда очнулся в больнице. Сначала он долго не мог понять, где он, кто он и что с ним случилось, а потом — внезапно — перед ним возникло ее лицо.
— Так, так, — сказала она. — Просыпается.
Приходя в сознание, он всякий раз видел ее, как будто она никуда и не отлучалась. Иногда, очнувшись днем, перед тем как полностью прийти в себя, несколько зыбких, неясных секунд он слушал больничный шум — попискивание сестринских тапочек, дребезжание тележек, бормотание интеркома. Но иногда он просыпался ночью, в тишине, и тогда ему было труднее вспомнить, где он и как здесь очутился, а потом память к нему возвращалась, она всегда к нему возвращалась, и, в отличие от остальных мыслей, воспоминания эти с каждым разом не притуплялись, не становились легче. А иногда он заставал не день и не ночь, а что-то промежуточное, и окружавший его свет был каким-то странным, пыльным, и на миг ему казалось, что, быть может, он есть все-таки, этот рай, и что он все-таки туда добрался. И тут он слышал голос Аны и снова вспоминал, почему он здесь, и ему опять хотелось закрыть глаза.
В такие минуты они ни о чем не разговаривали. Она спрашивала, не голоден ли он, но, что бы он ни ответил, у нее всегда был наготове сэндвич. Она спрашивала, не больно ли ему, а если больно — насколько боль сильная. На ее глазах он пережил первые приступы, и тогда боль была такой страшной — почти невыносимой, будто кто-то ухватил позвоночник, как змею, и принялся трясти, стараясь выдернуть из нервных узлов, — что потом, когда хирург назвал его травму телесным «оскорблением», от которого тело никогда полностью не оправится, он понял, что тот хотел сказать и какое верное, какое точное выбрал слово.
— Вы что же, хотите сказать, что это у него на всю жизнь? — спросила Ана, и он был благодарен ей за эту вспышку гнева, потому что сам до того устал и перепугался, что на злость сил уже не осталось.
— Я и рад бы сказать, что нет, — ответил хирург и прибавил, обращаясь к нему: — Но со временем может стать полегче. Ты еще очень молод. У позвоночника превосходные способности к восстановлению.
— Джуд, — позвала она его, когда через два дня с ним случился второй приступ.
Он слышал ее голос сначала будто бы издалека, а затем, вдруг — ужасно близко, взрывами в голове.
— Держись за руку, — сказала она, и ее голос снова взмыл и затих, но тут она схватила его за руку, и он стиснул ее так крепко, что чувствовал, как ее указательный палец странно смыкается с безымянным, как чуть ли не каждая косточка в ее ладони подается под его нажатием, отчего Ана вдруг показалась ему мягкой, ажурной, хотя ни в ее поведении, ни во внешности ничего мягкого не было.
— Считай, — велела она ему во время третьего приступа, и он считал — до сотни, снова и снова, дробя боль на переносимые дозы. Тогда он еще не усвоил, что лучше всего лежать и не двигаться, и вертелся на кровати, на неласковом, неподатливом больничном матрасе, будто выброшенная на палубу рыба, пытаясь отыскать положение, в котором будет полегче, нашарить фал, чтоб вцепиться в него и спастись. Он старался вести себя потише, но сам слышал, как издает странные, животные звуки, и потому иногда у него перед глазами возникал лес, населенный ушастыми совами, оленями, медведями, и он представлял, что он тоже зверь и что звуки он издает тоже совершенно нормальные, что они — часть несмолкающей музыки леса.
После приступа она давала ему воды в стакане с соломинкой, чтобы можно было пить, не поднимая головы. Пол под ним раскачивался и ходил ходуном, и его часто тошнило. Он ни разу в жизни не видел океана, но воображал, что там, наверное, все то же самое, воображал, как линолеум вздымается дрожащими буграми от напора воды.
— Вот молодец, — приговаривала она, пока он пил. — Попей еще.
— Потом станет полегче, — говорила она, и он кивал, потому что и представить себе не мог, как можно жить, если полегче не станет.
Его дни теперь превратились в часы: часы без боли и часы боли, непредсказуемость и этого расписания, и собственного тела — хотя тело теперь принадлежало ему только на словах, потому что он им совершенно не владел — его страшно утомляла, и он все спал, спал, и дни ускользали от него непрожитыми.
Потом ему проще будет говорить всем, что у него болят ноги, но это было не так: болела у него спина. Иногда он мог предугадать, что вызовет спазмы, вызовет боль, которая протянется от позвоночника до одной или другой ноги, воткнется в него горящим колом — определенные движения, если он, например, поднимал что-то тяжелое или за чем-нибудь тянулся, или обычная усталость. А иногда — не мог. А иногда боли предшествовал краткий период онемелости или покалывания, и оно было даже почти приятным, легким и пузырящимся, как будто по позвоночнику вверх-вниз пробегали разряды-иголочки, и тогда он знал, что нужно лечь и ждать, пока не завершится весь цикл, наказание, от которого нельзя ни увильнуть, ни сбежать. Но бывали и дни, когда боль просто обрушивалась на него, и хуже них ничего не было: тогда он стал бояться, что приступ начнется в какое-нибудь самое неподходящее время, и потому перед каждой важной встречей, перед каждой важной беседой, перед каждым выступлением в суде он упрашивал спину уняться, дать ему спокойно пережить следующие несколько часов. Но это все ему еще только предстояло, и все, что нужно было усвоить, он усвоил за долгие часы приступов, которые растянулись на целые дни, месяцы и годы.
Шли недели, она носила ему книги, просила составить список того, что ему хочется прочитать, и тогда она возьмет эти книги в библиотеке, — но он робел. Он знал, что она назначена его социальным работником, но прошло больше месяца — и врачи уже начали поговаривать о том, что гипс ему снимут через считанные недели, — прежде чем она впервые спросила его о том, что случилось.
— Не помню, — ответил он.
Тогда он на все вопросы так отвечал. Лгал, конечно. Он отгонял от себя незваные видения: автомобильные фары несутся к нему двоящейся вспышкой белого, он зажмуривается, резко отворачивается, как будто этим можно предотвратить неизбежное.
Она ждала.
— Ничего страшного, Джуд, — сказала она. — В общих чертах мы знаем, что случилось. Но когда-нибудь тебе нужно будет мне об этом рассказать, чтобы мы смогли с тобой поговорить.
Помнит ли он, что они однажды об этом уже разговаривали? Оказывается, после первой операции он пришел в себя и в полном сознании ответил на все ее вопросы, не только о том, что произошло той ночью, но и обо всем, что ей предшествовало, — но этого он искренне не помнил и потом все переживал, думал, что же он там наговорил и с каким лицом Ана все это выслушивала.
Много ли он рассказал, спросил он однажды.
— Порядочно, — ответила она. — Мне хватило, чтобы поверить в то, что ад существует и этим людям там самое место.
Говорила она без злости, но слова были злыми, и он закрыл глаза, впечатленный и даже слегка напуганный тем, что случившееся с ним — с ним! — может вызвать у кого-то такую страстную реакцию, такую ярость.
Она организовала его переезд к последним на этот раз опекунам — Дугласам. У них было еще двое приемных детей, две маленьких девочки — Рози, восемь лет, синдром Дауна, Агнес, девять лет, расщепление позвоночника. Дом был похож на лабиринт из пандусов — неказистый, но удобный и основательный, и Джуд, в отличие от Агнес, мог самостоятельно передвигаться в кресле на колесах.
Дугласы были евангелические лютеране, но в церковь с собой ходить не заставляли.
— Они хорошие люди, — сказала Ана. — Проблем с ними не будет, и здесь тебя никто не тронет. Ну что, переживешь, если в обмен на личное пространство и гарантированную безопасность нужно будет помолиться перед едой?
Она взглянула на него, улыбнулась. Он кивнул.
— Кроме того, — добавила она, — если захочешь посквернословить, всегда можешь позвонить мне.
Он и вправду был скорее у Аны под опекой, чем у Дугласов. У Дугласов он спал и ел, а когда он учился ходить на костылях, мистер Дуглас сидел под дверью ванной, чтобы вовремя туда вбежать, если он вдруг поскользнется и упадет, залезая в ванну или вылезая из нее (он еще не очень твердо стоял на ногах, и мыться ему было трудно даже с ходунками). Но по врачам его водила Ана, и первые неуверенные шаги он сделал во дворе у Аны, которая сидела с сигаретой в зубах и ждала, пока он до нее доковыляет, и это Ана в конце концов убедила его написать обо всем, что случилось у доктора Трейлора, чтобы ему не пришлось выступать в суде. Он сказал, что может и в суд приехать, но Ана ответила, что он к этому не готов, что у них и без его показаний хватит доказательств, чтобы надолго упрятать доктора Трейлора за решетку, и он слушал ее с облегчением — значит, ему не придется вслух произносить то, для чего слов у него не находилось, не придется снова видеть доктора Трейлора. Когда он наконец записал свои показания — писать он старался как можно проще, представляя, что пишет о ком-то другом, о каком-то своем знакомом, с которым больше не обменяется ни словом, — и отдал ей, она с бесстрастным лицом прочла их один раз, кивнула.
— Хорошо, — отрывисто сказала она и вдруг внезапно расплакалась, почти завыла, не сумев сдержаться.
Она говорила что-то, но из-за рыданий он ничего не мог разобрать, и тогда она ушла, но позже вечером позвонила ему и извинилась.
— Прости, Джуд, — сказала она. — С моей стороны это было очень непрофессионально. Я просто прочла, что ты написал, и я просто… — Она помолчала, глубоко вздохнула. — Этого больше не повторится.
И когда врачи сочли, что он еще недостаточно окреп для того, чтобы ходить в школу, это Ана нашла ему репетитора, который подготовил его к выпускным экзаменам, и она же заставила его задуматься о колледже.
— Ты понимаешь, что ты очень умный? — спрашивала она. — Ты можешь поступить куда захочешь. Я поговорила с твоими учителями в Монтане, и они тоже так считают. Ты уже думал об этом? Думал? И куда бы ты хотел поступить? — Он сказал ей куда, внутренне готовясь к тому, что она рассмеется, но Ана в ответ только кивнула: — А почему бы и нет?
— Но, — начал он, — думаешь, они примут такого, как я?
И снова она не стала смеяться.
— Верно, образование ты получил не самое… традиционное, — она улыбнулась, — но ты превосходно сдал все экзамены, и, хоть сам ты, наверное, так не считаешь, но, верь мне, ты знаешь куда больше многих своих сверстников, а может, и больше их всех. — Она вздохнула. — Видишь, хоть за что-то брату Луке можно сказать спасибо. — Она внимательно поглядела на него. — Так что… почему бы и нет?
Она помогала ему во всем: написала рекомендацию, разрешила напечатать эссе на своем компьютере (о прошлом годе он не писал, написал о Монтане и о том, как научился там искать грибы и побеги горчицы), даже подачу заявления оплатила.
Когда его зачислили в колледж — на полную стипендию, как и предсказывала Ана, — он сказал, что это все благодаря ей.
— Чушь собачья, — ответила она. К тому времени она была уже серьезно больна и могла только шептать. — Ты сделал все сам.
Потом, старательно вспоминая все предыдущие месяцы, он увидит, будто в свете прожектора, признаки болезни, которые из-за собственной глупости и эгоизма проглядел все до единого: и потерю веса, и пожелтевшие белки глаз, и усталость, которую он списывал на… на что?
— Не стоит тебе курить, — сказал он ей всего два месяца назад, когда уже так освоился в ее обществе, что начал распоряжаться — она была первым взрослым, с которым он мог так разговаривать.
— Ты прав, — ответила она и, прищурившись, глубоко затянулась сигаретой, а когда он вздохнул, рассмеялась.
Но даже тогда она продолжала стоять на своем.
— Джуд, нам с тобой нужно об этом поговорить, — то и дело повторяла она, он мотал головой, она молчала.
— Тогда завтра, — говорила она потом. — Обещаешь? Завтра мы с тобой поговорим.
— Не понимаю, зачем нам вообще об этом говорить, — однажды пробормотал он.
Он знал, что она читала его личное дело, которое прислали из Монтаны, он знал, что она знает, кто он такой.
Она помолчала.
— Если я что и знаю, — сказала она, — так это то, что о таких вещах надо говорить, пока они еще свежи в памяти. Иначе ты вообще о них никогда говорить не сможешь. Я хочу научить тебя о них говорить, потому что чем дольше ждешь, тем все это тяжелее и тяжелее, и оно так и будет гнить у тебя внутри, и ты вечно будешь думать, что это ты во всем виноват.
Он не знал, что на это ответить, но когда она снова заговорила об этом на следующий день, он помотал головой и не повернулся к ней, даже когда она его звала.
«Джуд, — однажды сказала она, — я тебе слишком долго позволяла об этом молчать. Я виновата». «Сделай это ради меня, Джуд», — сказала она в другой раз.
Но у него не получалось, не получалось даже понять, на каком языке об этом можно говорить, даже с ней. И, кроме того, ему не хотелось заново проживать прошлое. Ему хотелось о нем забыть, притвориться, что это чужое прошлое.
К июню она ослабела так, что даже сидеть не могла. Со дня их знакомства прошел год и два месяца, и теперь она лежала в кровати, а он сидел с ней рядом. Лесли работала в больнице в дневную смену, и часто они с ним оставались в доме вдвоем.
— Послушай, — сказала она.
От лекарств в горле у нее пересохло, и говорила она морщась. Он потянулся за кувшином с водой, но она нетерпеливо отмахнулась.
— Перед отъездом Лесли тебе поможет все купить, я ей написала список всего, что тебе понадобится.
Он было запротестовал, но она его оборвала:
— Джуд, не спорь со мной. У меня на это сил нет.
Она сглотнула. Он ждал.
— В колледже ты будешь молодцом, — сказала она и закрыла глаза. — Ребята тебя расспрашивать будут о том, где ты вырос, ты думал об этом?
— Ну вроде того, — ответил он.
Он только об этом и думал.
— Гммм, — проворчала она. Она ему тоже не поверила. — Ну и что ты им скажешь?
— Не знаю, — признался он.
— Ну да, — сказала она.
Они помолчали.
— Джуд, — начала она и снова замолчала. — Ты сам придумаешь, как говорить о том, что с тобой произошло. Тебе придется, если хочешь хоть с кем-нибудь в жизни близко сойтись. Но твоя жизнь… и не важно, что ты там думаешь, тебе стыдиться нечего, ни в чем случившемся ты не виноват. Это ты запомнишь?
И это, пожалуй, был единственный раз, когда они с ней хоть как-то заговорили о событиях не только прошлого года, но и всех предыдущих лет.
— Да, — сказал он.
Она строго поглядела на него.
— Обещай мне.
— Обещаю.
Но даже тогда он так и не смог ей поверить.
Она вздохнула.
— Так я тебя и не разговорила, а надо было, — сказала она.
Это было последним, что он от нее услышал. Две недели спустя — третьего июля — она умерла. Поминальная служба состоялась через неделю. Тогда он уже нашел подработку в местной кондитерской — сидел в подсобке и обмазывал торты глазурью, а после похорон стал задерживаться на работе до ночи, покрывал торт за тортом ядовито-розовой помадкой и старался не думать об Ане.
В конце июля уехали Дугласы: мистер Дуглас устроился на работу в Сан-Хосе, Агнес они забрали с собой, а Рози передали в другую семью. Дугласы ему нравились, но хоть они и просили его не пропадать, он знал, что писать им не будет — до того отчаянно ему хотелось сбежать подальше и от нынешней жизни, и от прошлой. Он мечтал стать человеком, которого никто не знает и который не знает никого.
Его определили в приют временного пребывания. Так он официально назывался — приют временного пребывания. Он отказывался, говорил, что он уже достаточно взрослый и справится сам (он совершенно безосновательно полагал, что спать сможет в кондитерской, у себя в подсобке), что он все равно через два месяца отсюда уедет, но его никто и слушать не стал. Приют оказался общежитием: в здании, похожем на просевшие серые соты, жили дети, которых — из-за того, что они сделали, или из-за того, что с ними сделали, или попросту из-за возраста — государство никуда не могло пристроить.
Перед отъездом ему выдали денег на покупку учебных принадлежностей. Джуд понял, что в приюте им даже немного гордились: может, он и не пробыл у них долго, зато он уезжал в колледж — да еще в какой колледж! — и теперь навсегда попал в список их побед. Лесли отвезла его в армейский магазин. Выбирая все, что могло ему пригодиться — два свитера, три футболки с длинными рукавами, брюки, серое одеяло, похожее на комковатую набивку, которой пучило во все стороны диван в приютском коридоре, — он все гадал, те ли вещи выбрал, совпал ли со списком, который написала Ана.
Он никак не мог отделаться от мысли, что в этом списке было что-то еще, что Ана сочла важным и нужным для него, но что это было — он так никогда и не узнает. По ночам он тосковал по этому списку, подчас даже больше, чем по ней. Этот список так и стоял у него перед глазами: слова, которые она писала мешаниной строчных и прописных букв, ее вечный механический карандаш, желтые линованные блокноты, которые остались у нее еще с тех пор, когда она работала юристом. Иногда буквы сбивались в слова, и во сне он торжествовал — ага, думал он, ну конечно! Конечно, это же как раз то, что нужно! Конечно же Ана об этом подумала! Но по утрам он никогда не мог вспомнить, что же там такое было. Странно, но в такие минуты он жалел, что они с ней вообще познакомились, потому что лучше было бы не знать ее вовсе, чем узнать и почти сразу потерять.
Он ехал на север, автобусный билет ему купили, Лесли пришла проводить его на станцию. Все свои вещи он сложил в двухслойный мешок для мусора, мешок засунул в рюкзак, купленный в армейском магазине: всех пожитков — один аккуратный сверток. В автобусе он глядел в окно и ни о чем не думал. Он надеялся, что спина не подведет его во время поездки, и она не подвела.
В комнату он заселился первым, и когда туда вошел второй мальчик — им оказался Малкольм — с родителями, чемоданами, книжками, колонками, телевизором, телефонами, компьютерами, холодильником и целой флотилией разных технических устройств, он впервые почувствовал, как к горлу подкатывает страх, а затем и иррациональная злость — на Ану. Зачем она его убедила, будто ему это по силам? Как он объяснит, кто он такой? Почему она никогда ему не говорила, что вся его жизнь на самом деле — жалкая, безобразная, замызганная, окровавленная тряпка? Зачем помогла поверить, будто ему тут место?
Шли месяцы, и чувства эти притупились, но так никуда и не делись, он оброс ими будто тонким слоем плесени. Но стоило ему сжиться с этим знанием, как его начало мучить другое: он стал понимать, что Ана была единственным человеком, которому не нужно было ничего объяснять. Она знала, что он носит свою жизнь на коже, что его биография написана у него на теле и на костях. Она никогда не стала бы спрашивать, почему он не носит одежды с короткими рукавами, даже если на дворе настоящая парилка, и почему не любит, когда к нему прикасаются, или — самое важное — почему у него болят ноги и спина. Она уже обо всем знала. Общаясь с другими людьми, он обречен был вечно нервничать, вечно быть настороже, а с ней нет — быть все время начеку было утомительно, но постепенно это стало частью его жизни, привычкой вроде умения держать осанку. Однажды она потянулась к нему, чтобы обнять (это он, правда, потом уже понял), а он непроизвольно вскинул руки к голове, закрылся, защищаясь, но, хоть он и смутился, она ничем не показала, что он повел себя глупо или необоснованно. «Вот я идиотка, Джуд, — только и сказала она. — Прости. Обещаю, больше никаких резких движений».
Но теперь она умерла, и больше его никто не знал. Его досье было засекречено. На первое Рождество Лесли прислала ему открытку — на адрес учебного управления, и он долго хранил это последнее звено, связывавшее его с Аной, но потом все равно выбросил. Он так и не ответил Лесли, и она больше ему не писала. У него была новая жизнь. Он изо всех сил старался ее не испортить.
Но иногда он все-таки вспоминал эти их последние беседы, проговаривал их вслух. Это случалось по ночам, когда его соседи — в самых разных сочетаниях, все зависело от того, кто был в комнате — спали над ним и рядом с ним. «Нельзя, чтобы молчание вошло у тебя в привычку», — предостерегала она его перед самой смертью. И еще: «Тебе можно злиться, Джуд, сдерживаться не нужно».
Он всегда думал, что она насчет него ошибалась, он оказался совсем не тем, кем она его считала. «Парень, тебя ждут великие дела», — однажды сказала она, и он хотел ей верить, хоть и не мог.
Но в одном она оказалась права: ему действительно было все тяжелее и тяжелее. И он действительно думал, что это он во всем виноват. И хотя он старался не забывать о своем обещании, с каждым днем оно от него отдалялось, пока не превратилось в простое воспоминание, как и сама она — в любимого персонажа книги, которую он прочел давным-давно.
«Люди делятся на два вида, — говорил судья Салливан. — Те, кто склонен верить, и те, кто не склонен. В моем зале суда мы ценим веру. Веру во все».
Он часто делал это заявление, после чего, кряхтя, вставал на ноги — он был очень тучным — и вперевалку шел к двери. Обычно это происходило в конце рабочего дня — по крайней мере, рабочего дня Салливана, — когда он выходил из кабинета, чтобы побеседовать со своими тремя референтами. Салливан присаживался на край чьего-нибудь стола и заводил довольно туманные речи, прерываемые долгими паузами, словно перед ним не референты, а писцы, которые должны увековечить каждое его слово. Но никто не записывал, даже Керриган, самый консервативный из троих и действительно склонный верить.
Потом судья уходил, а он через комнату улыбался Томасу, который в ответ закатывал глаза, как бы извиняясь и говоря: «А что я могу сделать?» Томас тоже был консерватор, но «мыслящий консерватор» и не уставал об этом напоминать. «И сам факт, что я должен это подчеркивать, — позор».
Они с Томасом начали работать у судьи в один год; у Салливана была неформальная поисковая сеть, и в нее входил один из его преподавателей, старый друг судьи; именно от этого преподавателя, специалиста по торгово-промышленным организациям, он и получил предложение пройти собеседование, как-то весной, на втором курсе юридической школы, а Гарольд уговорил его согласиться. Салливан был известен среди коллег по окружному суду тем, что всегда нанимал одного референта, чьи политические взгляды радикально отличались от его собственных, чем радикальней, тем лучше. (Его последний референт-либерал впоследствии стал работать на Движение за независимость Гавайских островов, ратующее за отделение от США, и этот карьерный кульбит вызывал у судьи приступ мрачного удовлетворения.)
— Салливан меня ненавидит, — сказал Гарольд так, словно ему это льстило. — Он тебя возьмет, просто чтоб мне досадить. — Он улыбнулся, смакуя эту мысль. — И потому, что ты самый блестящий студент за всю мою преподавательскую карьеру.
От этого комплимента он уставился в пол: другие часто передавали ему похвалы Гарольда, но он редко слышал их напрямую.
— Не уверен, что я для него достаточно либерален, — ответил он.
Для Гарольда-то он точно был недостаточно либерален: они спорили о разных вещах, и нередко — о его мнениях, о том, как он толковал закон, как он применял его к жизни.
— Достаточно, уж поверь мне, — фыркнул Гарольд.
Но когда на следующий год он отправился на собеседование в Вашингтон, Салливан говорил с ним о праве и политической философии с гораздо меньшим пылом и вовсе не так подробно, как он ожидал.
— Я слышал, вы поете, — сказал судья вместо этого, после того как они в течение часа беседовали об учебной программе (судья закончил ту же юридическую школу), о его работе в должности редактора студенческого журнала (эту же должность занимал когда-то судья) и его соображениях по поводу недавних судебных процессов.
— Пою, — ответил он, недоумевая, откуда судья об этом узнал. Он что, пел в офисе Гарольда и там его подслушали? А еще он иногда пел в юридической библиотеке, когда поздно ночью расставлял книги на полках, и там было тихо и пусто, как в церкви, — может, тогда кто-то слышал?
— Спойте что-нибудь, — сказал судья.
— Что бы вы хотели услышать, сэр? — спросил он.
Он нервничал бы гораздо сильнее, если бы не знал заранее, что судья потребует от него какого-то представления (по легенде предыдущему соискателю пришлось жонглировать), и он слышал, что Салливан — любитель оперы.
Судья поднес толстые пальцы к толстым губам и задумался.
— Гм… Спойте мне что-нибудь, что расскажет что-то о вас.
Он задумался на мгновение и запел. Он и сам удивился своему выбору: Ich bin der Welt abhanden gekommen Малера — он ведь не очень-то любил Малера, и песня была трудной в исполнении, медленной, печальной, прихотливой, не предназначенной для тенора. Но ему нравилось стихотворение, которое его учитель вокала в колледже обозвал «второсортным романтизмом»: сам он считал, что во всем виноват переводчик. Обычно первую строку переводили «я потерян для мира», но он читал ее иначе: «я отошел от мира», что, как ему казалось, меньше отдает жалостью к себе и мелодрамой, в этой фразе больше достоинства, поиска: «Я отошел от этого мира, / В котором впустую потратил время». Песня рассказывала о жизни художника, а художником он, безусловно, не был. Но он понимал всем своим существом идею потери мира, отстранения и ухода от него, исчезновения в другом измерении, в убежище, в безопасности, двойную жажду бегства и открытия. «И все равно мне, пусть другие скажут, / Что жизнь покинула меня; / я соглашусь и спорить не стану: / и вправду умер для мира я».
Когда он закончил и открыл глаза, судья смеялся и аплодировал.
— Браво! — сказал он. — Браво! Только не ошиблись ли вы в выборе профессии? — Он снова рассмеялся. — Где вы научились так петь?
— У монахов, сэр.
— А, католический мальчик? — спросил судья, устраиваясь в кресле поудобнее, готовый обрадоваться.
— Меня растили католиком, — начал он.
— Но вы больше не католик? — нахмурился судья.
— Нет, — ответил он.
Он годами работал над тем, чтобы говорить это без извиняющейся нотки в голосе.
Салливан проворчал что-то неразборчивое и добавил, прежде чем взглянул на резюме:
— Ну, в любом случае они вас обеспечили какой-никакой защитой от чепухи, которую Гарольд Стайн вбивал вам голову последние несколько лет. Вы его научный ассистент?
— Да, уже два года, — ответил он.
— Светлый ум пропадает понапрасну, — провозгласил Салливан (было неясно, имеет он в виду его или Гарольда). — Спасибо, что пришли, с вами свяжутся. И спасибо за песню, давно я не слышал такого красивого тенора. Вы уверены, что правильно выбрали профессию?
Судья еще раз улыбнулся — и с тех пор он больше никогда не видел у Салливана такой искренней и радостной улыбки.
Вернувшись в Кеймбридж, он рассказал Гарольду о встрече («Ты поёшь?!» — спросил Гарольд, как будто он заявил, что умеет летать) и добавил, что, скорее всего, места не получит. Через неделю позвонил Салливан: его взяли. Он удивился, а Гарольд — нет. «Я же говорил», — сказал он.
На следующий день он, как обычно, пришел в кабинет Гарольда, но тот был уже одет и готов к выходу.
— На сегодня нормальная работа отменяется, — объявил он. — Мне нужна твоя помощь в кое-каких делах.
Это было необычно, но Гарольд вообще был необычный. Возле машины Гарольд протянул ему ключи:
— Хочешь за руль?
— Конечно, — ответил он и пошел к водительскому месту. На этой машине он год назад учился водить, а Гарольд сидел с ним рядом и проявлял куда больше терпения, чем в учебной аудитории. «Хорошо, — говорил он, — отлично. Чуть сцепление отпусти, вот так. Хорошо, Джуд, хорошо».
Гарольду нужно было забрать у портного рубашки, которые он отдавал перешить, и они поехали в маленький дорогой магазин мужской одежды на краю площади, где в последний год колледжа подрабатывал Виллем.
— Пойдем со мной, — распорядился Гарольд, — мне понадобится помощь.
— Господи, Гарольд, сколько же рубашек ты купил? — спросил он.
Неизменный гардероб Гарольда состоял из голубых и белых рубашек, коричневых вельветовых брюк (зимой), льняных брюк (весной и летом) и свитеров разных оттенков зеленого и синего.
— А ну-ка тихо, — сказал Гарольд.
Войдя в магазин, Гарольд пошел за продавцом, а он ждал, пробегая пальцами по галстукам в витринах, свернутых и ярких, как пирожные. Малкольм отдал ему два старых легких костюма, которые он ушил и носил две летние практики подряд, но для собеседования с Салливаном ему пришлось одолжить костюм у соседа по общежитию, и он старался двигаться как можно осторожнее, ощущая ширину этого чужого костюма, изысканную тонкость шерсти.
Он услышал, как Гарольд сказал: «Вот он», — и когда он повернулся, рядом с Гарольдом стоял маленький человечек, у которого с шеи, будто змея, свисал портняжный метр.
— Ему понадобятся два костюма, темно-серый и синий, и давайте еще дюжину рубашек, несколько свитеров, галстуки, носки, ботинки: у него ничего нет. — Ему Гарольд сказал: — Это Марко. Я вернусь через час-другой.
— Погоди, — сказал он. — Гарольд, что ты делаешь?
— Джуд, тебе нужно что-то носить. Я не большой специалист по этой части, но ты не можешь заявиться в судейскую к Салливану в таком виде.
Ему стало не по себе: от собственной одежды, от нищеты, от щедрости Гарольда.
— Я знаю, — сказал он. — Но я не могу принять такой подарок, Гарольд.
Он хотел еще что-то добавить, но Гарольд встал между ним и Марко и взял его за плечи.
— Джуд, — сказал он. — Прими его. Ты заслужил. Более того, тебе это необходимо. Я не позволю тебе опозорить меня перед Салливаном. И потом, я уже заплатил, и деньги мне не вернут. Верно, Марко?
— Верно, — тут же отозвался Марко.
— Все, Джуд, — сказал Гарольд, видя, что он снова хочет заговорить. — Мне пора.
И, не оглядываясь, вышел.
И вот он стоял перед трехстворчатым зеркалом, наблюдая за Марко, который возился у его лодыжек, но когда тот коснулся его ноги выше, промеряя внутренний шов, он непроизвольно дернулся. «Тише, тише», — произнес Марко, словно перед ним стояла нервная лошадь, и похлопал его по ноге, опять-таки как хлопают лошадь, а когда он снова невольно брыкнул ногой при замере второй брючины, Марко сказал:
— Эй, у меня булавки во рту!
— Простите, — сказал он и заставил себя стоять смирно.
Когда Марко закончил, он посмотрел на себя в новом костюме: о, какая это была анонимность, какая броня. Если даже кто-то случайно заденет его спину, то не почувствует под всеми этими слоями неровности шрамов. Все закрыто, все спрятано. Если стоять смирно, можно сойти за кого угодно, стать незаметным, невидимым.
— Пожалуй, еще полдюйма, — сказал Марко, забирая немного ткани на спине в районе талии. Он стряхнул нитки с рукава. — Осталось только сделать хорошую стрижку.
Гарольд ждал его возле галстуков и, подняв глаза от журнала, спросил: «Ну, все?» — с таким видом, будто все это была его идея, а Гарольд лишь потакал его капризу.
За ранним ужином он снова пытался благодарить Гарольда, но каждый раз тот останавливал его все с большим раздражением.
— Джуд, тебе никогда не говорили, что иногда можно просто что-то принять, не раздумывая?
— Ты сам говорил, что ничего нельзя принимать, не раздумывая.
— В учебной аудитории и в зале суда, — уточнил Гарольд. — Но не в жизни. Понимаешь, Джуд, в жизни иногда с хорошими людьми случается что-то хорошее. Не беспокойся, это бывает нечасто. Но когда это происходит, хороший человек может просто сказать «спасибо», и все, потому что ведь тот, кто сделал ему доброе дело, сам получил от этого удовольствие и, может быть, совсем не хочет знать сто причин, почему человек, которому он сделал что-то хорошее, совершенно того не заслуживает и не стоит.
Тогда он замолчал и после ужина позволил Гарольду отвезти его домой на Херефорд-стрит.
— И кстати, — сказал Гарольд, когда он вылезал из машины, — тебе все это очень, очень идет. Ты очень хорош собой, я надеюсь, тебе это уже говорили. — И, прежде чем он успел возразить, добавил: — Комплимент тоже можно принять, Джуд.
И он проглотил свои возражения.
— Спасибо тебе, Гарольд. За все.
— Всегда пожалуйста, Джуд. Увидимся в понедельник.
Он стоял у дома и смотрел вслед машине Гарольда, а потом поднялся в квартиру на втором этаже особняка, стоявшего по соседству со зданием студенческого братства Массачусетского технологического института. Владелец особняка, профессор социологии на пенсии, жил внизу, а три верхних этажа сдавал аспирантам: на самом верху жили Сантош и Федерико, которые писали диссертации по электронной технике в Массачусетском технологическом, под ними — Януш и Исидор, оба аспиранты из Гарварда (Януш занимался биохимией, а Исидор — религиями Ближнего Востока), а под ними — он и его сосед Чарли Ма, которого по-настоящему звали Цзянь-Мин Ма; его все называли Си-Эм. Си-Эм был интерном в Медицинском центре Тафтса, и их расписание находилось в противофазе: когда он просыпался, дверь Си-Эм была закрыта, и из-за нее доносился влажный заливистый храп, а когда он в восемь возвращался домой от Гарольда, Си-Эм уже не было. Но хотя виделись они редко, он испытывал к Си-Эм симпатию — тот был из Тайбэя, закончил школу-интернат в Коннектикуте, улыбался так сонно и плутовато, что хотелось улыбнуться в ответ, и был приятелем приятеля Энди (так они и познакомились). Несмотря на постоянный томно-обкуренный вид, Си-Эм был опрятен и любил готовить: иногда он приходил домой и находил посреди стола тарелку поджаренных пельменей с запиской «СЪЕШЬ МЕНЯ» или получал сообщение с просьбой перевернуть в маринаде курицу, прежде чем ляжет, или купить кинзы по дороге домой. Он всегда выполнял эти просьбы и потом ел курицу, протушенную в соусе, или сложенный блинчик из морских гребешков с начинкой из мелко рубленной кинзы. Когда раз в несколько месяцев их свободное время совпадало, все шестеро собирались в квартире Сантоша и Федерико — самой большой, — чтобы вместе поужинать и сыграть в покер. Януш и Исидор жаловались, что девушки считают их геями, поскольку они вечно проводят время вместе (Си-Эм косился на него: они заключили пари на двадцать долларов, что Януш и Исидор спят вместе и только притворяются натуралами — в любом случае доказать это было невозможно), а Сантош и Федерико жаловались, какие у них тупые ученики и как ужасно упал уровень студентов в Массачусетском технологическом институте за те пять лет, что прошли с их выпуска.
Их с Си-Эм квартирка была самой маленькой, поскольку половину этажа хозяин превратил в склад. Си-Эм существенно больше платил за квартиру и ночевал в спальне, а ему достался угол гостиной возле окна с эркером. Кровать представляла собой ненадежное сооружение, нечто среднее между тюфяком и коробкой для яиц, а книги были сложены под подоконником; еще у него имелись лампа и бумажная ширма, которой можно было отгородиться. Они с Си-Эм купили большой деревянный стол, который поставили в столовой, в нише, у них было два металлических складных стула — один достался им от Януша, другой от Федерико. Половина стола принадлежала ему, половина — Си-Эм, обе половины были завалены книгами и бумагами, на каждой стоял ноутбук, днем и ночью издающий булькающие и чирикающие звуки.
Всех поражала аскетичность этой квартиры, но он почти перестал замечать ее — хотя и не совсем. Сейчас, например, он сидел на полу рядом с тремя картонными коробками, в которых хранил одежду, перебирал свои новые свитера, рубашки, носки, ботинки, завернутые в белую папиросную бумагу, клал на колени каждый предмет по очереди. У него никогда раньше не было ничего настолько красивого, и казалось немыслимым сложить эти вещи в картонные коробки из-под папок, так что он снова все завернул и сложил в пакеты.
Щедрость Гарольдовых даров вывела его из равновесия. Во-первых, сами дары. Никогда, никогда в жизни не получал он ничего настолько роскошного. Во-вторых, невозможность отплатить за эту щедрость. И, в-третьих, скрывавшийся за жестом смысл: он уже понял, что Гарольд уважает его и даже радуется его обществу. Но можно ли вообразить, что он по-настоящему дорог Гарольду, что он для него больше чем ученик, что они по-настоящему стали друзьями? И если так, почему его это смущает?
Несколько месяцев он привыкал к обществу Гарольда — не в аудитории или в кабинете, а за их пределами. В жизни, как сказал бы Гарольд. Он возвращался домой после ужина у Гарольда с огромным облегчением. И он знал почему, хотя не хотел сознаваться в этом даже себе: обычно мужчины — взрослые мужчины, к которым он себя все еще не причислял, — интересовались им только по одной причине, и он привык их опасаться. Гарольд, правда, был не похож на таких мужчин. (Но ведь и брат Лука не был на них похож.) Кажется, он боялся всего на свете — и ненавидел себя за это. Страх и ненависть, страх и ненависть: порой ему казалось, что он не умеет испытывать других чувств. Страх перед всеми, ненависть к себе.
Он слышал о Гарольде раньше, чем познакомился с ним, потому что о Гарольде слышали все. Гарольд неустанно задавал вопросы: любая реплика, прозвучавшая на его лекции, рассматривалась со всех сторон, градом сыпались бесконечные «почему». Он был подтянутый, высокий и имел привычку ходить по кругу, наклонившись вперед, когда был увлечен или взволнован.
Из того первого курса лекций по договорному праву, который читал им Гарольд, он, к своему большому сожалению, многого просто не запомнил. Например, он не помнил, чем так заинтересовала Гарольда его работа, из-за которой они стали иногда беседовать вне учебной аудитории, пока в конце концов Гарольд не предложил ему место научного ассистента. Он не мог припомнить, что такого интересного говорил на занятиях. Но он прекрасно помнил речь Гарольда в первый день семестра, когда тот мерял шагами аудиторию и говорил с ними своим низким оживленным голосом.
— Вы поступили в юридическую школу, — сказал Гарольд, — и я вас всех с этим поздравляю. Вам предстоит прослушать обычный набор курсов: договоры, деликты, собственность, гражданское судопроизводство; на следующий год — конституционное и уголовное право. Это вы знаете и без меня. Но вот чего вы, скорее всего, не знаете: ваша программа отражает — красиво и просто — саму структуру нашего общества, ту механику, которая необходима, чтобы общество — наше с вами общество — успешно функционировало. Для того чтобы общество существовало, нам прежде всего необходимы организационные рамки: это конституционное право. Нужна система наказаний: это уголовное право. Нужна система, которая заставит работать другие системы: это гражданское судопроизводство. Нужно регулировать владение собственностью: это имущественное право. Нужно сделать так, чтобы кто-то отвечал деньгами за ущерб, нанесенный вам другими: это гражданская ответственность. И наконец, нужно сделать так, чтобы люди соблюдали свои договоренности, выполняли обещания, — а это договорное право.
Он сделал паузу.
— Я не хочу упрощать, но могу поспорить, что половина из вас пришла сюда затем, чтобы впоследствии выкачивать из людей деньги — на то и гражданская ответственность, тут нечего стыдиться! — а другая половина пришла сюда затем, чтобы изменить мир. Вы мечтаете выступать перед Верховным судом, потому что думаете, будто самое сложное в законе прячется между строк Конституции. Но моя задача в том, чтобы сказать вам: вы ошибаетесь. Самая истинная, интеллектуально требовательная, самая богатая область юриспруденции — это договорное право. Договоры — не просто листы бумаги, которые обещают вам работу, или дом, или наследство; в самом чистом, точном, широком смысле договоры — истинная сущность закона. Когда мы решаем жить в обществе, мы заключаем договор, соглашаемся жить по правилам, которые этот договор нам диктует, — ведь и сама Конституция есть договор, хотя и довольно гибкий, и вопрос о том, насколько он гибок, как раз и есть та точка, где пересекаются интересы закона и политики, — по этим правилам, писаным или неписаным, мы обещаем не убивать, не красть, платить налоги. В этом случае мы одновременно и создатели договора, и его субъекты: как граждане этой страны мы с рождения берем на себя обязательство уважать и исполнять его условия и делаем это ежедневно.
На моих занятиях вы, конечно, будете изучать механику договора: как его составляют, как нарушают, насколько он нас связывает и как с ним развязаться, — но я также попрошу вас взглянуть на право в целом как на совокупность договоров. Одни договоры более справедливы, другие — менее; на сей раз в виде исключения я позволю вам об этом поговорить. Но справедливость — не единственное и даже не самое важное соображение, когда речь идет о законе: закон не всегда справедлив. Договоры далеко не всегда справедливы. Но иногда эта несправедливость необходима, она нужна, чтобы общество могло функционировать. В ходе моего курса вы узнаете разницу между понятиями «справедливо» и «законно» и еще — и это тоже очень важно — между тем, что справедливо и что необходимо. Вы узнаете о тех обязательствах, которые мы несем друг перед другом как члены общества, и насколько далеко общество может пойти, чтобы принудить нас к их исполнению. Вы научитесь смотреть на свою жизнь — жизнь каждого из нас — как на череду договоров, и это заставит вас увидеть по-новому не только закон, но и эту страну и ваше место в ней.
Он был захвачен речью Гарольда и в последующие недели восхищался тем, как оригинально тот мыслит, как стоит перед аудиторией, словно дирижер, преобразуя студенческие споры в странные, невиданные конструкции. Однажды довольно невинная дискуссия о праве на неприкосновенность частной жизни — самое драгоценное и самое туманное из конституционных прав, согласно Гарольду, чье определение договорного права часто выходило за общепринятые границы и плавно перетекало в другие области юриспруденции — перешла в их с Гарольдом спор об абортах, которые, как он считал, были необходимы с социальной точки зрения, хотя и не имели оправданий с нравственной.
— Ага! — сказал Гарольд; он был одним из немногих преподавателей, допускавших не только юридические, но и моральные аргументы. — И что же произойдет, мистер Сент-Фрэнсис, если мы, создавая законы, отбросим мораль ради социального регулирования? В какой момент страна и люди в ней должны предпочесть социальный контроль нравственному чувству? Есть ли такая точка? Не думаю.
Но он не сдавался, а притихшая аудитория следила за их спором.
Гарольд написал три книги, но прославила его последняя из них, «Американское рукопожатие. Победы и поражения Декларации независимости». Ее он прочел еще до знакомства с Гарольдом; это была юридическая трактовка Декларации независимости: какие из ее обещаний были выполнены, а какие нет, и если бы ее писали сегодня, прошла ли бы она проверку на соответствие критериям современной юриспруденции («Вкратце — нет», писал рецензент в «Нью-Йорк таймс»). Теперь Гарольд собирал материалы для четвертой книги, своего рода продолжения предыдущей: в ней он планировал рассмотреть Конституцию примерно в том же ключе.
— Но только Билль о правах и самые аппетитные поправки, — сказал ему Гарольд, когда проводил с ним собеседование на должность научного ассистента.
— Я не знал, что одни аппетитнее других, — сказал он.
— А как же! Только одиннадцатая, двенадцатая, четырнадцатая и шестнадцатая по-настоящему заводят, остальные — осадок политического прошлого.
— Значит, тринадцатая — отстой? — переспросил он, наслаждаясь моментом.
— Я не сказал «отстой», — возразил Гарольд, — они просто не так актуальны.
— Но я думал, что осадок и отстой — одно и то же.
Гарольд наигранно вздохнул, схватил со стола словарь, полистал его и некоторое время внимательно вчитывался в определение.
— Ну ладно, — сказал он наконец, швырнув словарь на груду бумаг, которая опасно покосилась под весом толстого тома. — Твоя взяла. Но я имел в виду буквальное значение: остаток, остаток политического прошлого, доволен?
— Да, — сказал он, стараясь не улыбнуться.
Он начал работать у Гарольда по вечерам понедельника, среды и пятницы, когда учебная нагрузка была полегче — по вторникам и четвергам у него были вечерние семинары в Массачусетском технологическом, где он учился на магистерскую степень, а по ночам он работал в юридической библиотеке. По субботам он работал в библиотеке утром, а во второй половине дня — в кондитерской «Глазурь» рядом с медицинским колледжем; в этой кондитерской он начал работать еще студентом и выполнял спецзаказы: украшал пирожные, изготавливал сотни сахарных цветочных лепестков для тортов; экспериментировал с разными рецептами, один из которых, торт «Десять орехов», стал хитом продаж. По воскресеньям он тоже работал в «Глазури» и однажды получил от хозяйки, Эллисон, всегда доверявшей ему самые сложные задачи, заказ на три дюжины сахарных печений, которые надо было испечь и украсить в форме различных бактерий.
— Только ты можешь в этом разобраться, — сказала она. — Жена клиента — микробиолог, он хочет подготовить сюрприз для всей ее лаборатории.