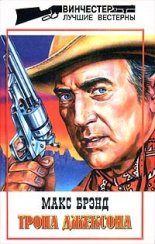Петрович Зайончковский Олег

Присутствующие выпили без возражений — кроме, разумеется, Петровича. Терещенко тоже опрокинул в рот свою рюмку, отер усы и лишь потом прокомментировал тост:
— Вальке хватит, — сказал он. — Следующий заход пропускаешь, слышишь… товарищ?
Сам он предложил выпить за здоровье Генриха, который («подлец!») даже не удосужился поставить друзьям отходную по случаю дембеля.
— Что за радость? — мрачно отозвался Генрих.
— Радуйся, что отышачил! И вообще…
— Что вообще?
Все с интересом посмотрели на Терещенко.
— И вообще, — пробасил он внушительно, — будешь ты пить или нет?
Собрание выпило за здоровье новоиспеченного пенсионера. Дядя Валя, которому велено было пропустить, проглотил тем не менее полную рюмку. Стукнув ею по столу, он поднял на Генриха заслезившиеся глаза.
— Ты, Генрих, гордись! — сказал дядя Валя. — Такая биография… — Он повернулся к Петровичу: — И ты им гордись… Ты знаешь, что у него отец белогвардеец?
— Знаю, — кивнул Петрович.
— Ну вот… А он — коммунист. Сам себя выковал.
Генрих его перебил:
— Ты, Валя, и правда… уймись немного… — И, помолчав, добавил: — Ничего я себя не выковал. Просто я продукт своего времени.
— Брось, не умничай, — прогудел Терещенко. — Валька как есть говорит, хоть и выпимши.
Но Генрих помотал головой:
— Уж ты мне поверь. — Он положил свою руку на лапищу одноногого. — Биография — это дело случая. Сейчас мне бояться нечего, и я могу рассказать один эпизод… кстати, Петрович, и ты послушай.
Все за столом затихли, и Генрих поведал маленькую историю, скрытую некогда от заинтересованных органов.
— Случилось это, не помню, в каком году… где-то в начале двадцатых. Моя бабушка, Елизавета Карловна, была… ну, словом, заведующая типографией. Жили мы в том же доме, что и до революции… я хочу сказать, что бабушке оставили в этом доме квартирку на первом этаже. А под квартиркой находился подвал: хороший такой подвал, вполне сухой, там бабушка прятала кое-какие вещи. И вот однажды забрался я в этот подвал — зачем, не помню — вообще-то я был разбойник. Забрался я в подвал, зажег керосинку и увидел… увидел, что там кто-то живет, — когда в помещении кто-то живет, это всегда заметно. Я, конечно, перепугался, побежал к бабушке и доложил ей, что в нашем подвале бандиты устроили «малину» — другого мне в голову не пришло. Но бабушка меня успокоила — дескать, поселились у нас вовсе не бандиты, а один родственник с юга; он поживет и уедет, но рассказывать о нем нельзя никому и ни в коем случае. Хотя я был еще малолеток, но держать язык за зубами жизнь меня уже научила. А таинственный постоялец действительно вскоре исчез. Происшествие почти забылось, и только много лет спустя, когда бабушку арестовали, она на свидании шепотом мне рассказала, что за «родственник» гостил у нас в подвале. Этот человек был, оказывается, специально послан из-за границы моим отцом, Андреем Александровичем, чтобы увезти меня… увезти из СССР.
— Понимаете? — Генрих обвел слушателей глазами. — Чтобы увезти меня за границу.
Все удивленно переглянулись. Катя посмотрела на Ирину:
— Ты знала об этом?
Ирина сделала головой неопределенное движение.
— И почему же он тебя не увез? — спросил заинтригованный Петрович.
— Бабушка не отдала.
— Ну а ты… она не сказала тебе, почему?
— Сказала, — нехотя ответил Генрих. — Она сказала — потому что была дура.
Терещенко не все уловил в рассказе про бабушку и посланного человека, но уточнять не стал. Он выразился в том смысле, что все это дела семейные, а фронтовик из Генриха получился хоть куда, и в мирной жизни он изо всех начальников был самый приличный мужик.
— Но если б она меня отдала, — сказал Генрих раздумчиво, — если бы меня не шлепнули на границе… то что вышло бы, Терещенко? Не сидели бы мы с тобой в одном окопе и не пили бы сейчас водку — вот о чем я толкую. Может быть, я стал бы полицейским и разгонял рабочие демонстрации.
Но одноногий не склонен был к отвлеченным рассуждениям.
— Это все философия и идеология, — пробасил он. — Это ты с Валькой поговоришь, когда он проснется.
Дядя Валя и вправду заснул под шумок на своем стуле — с улыбкой на лице. Его отвели в детскую и уложили на Петровичеву кровать.
А застолье продолжалось, и наконец наступило время для Пети, просидевшего весь вечер почти бессловесно. Катя просунула ему руку под мышку и что-то пошептала на ухо. Петя на ее шепот улыбнулся, потом поднял голову и оглядел компанию:
— Спеть вам, что ли? — спросил он.
Терещенко сразу оживился:
— Эх, давай, Петро!.. Давно я тебя не слышал.
И Петя без долгих приготовлений начал… Никто на свете — Петрович был уверен — никто на свете не пел так хорошо. Хохляцкие глаза Терещенко моментально увлажнились, да и все за столом слушали с таким благоговением, что не решались даже подпевать. Сам же Петя оставался странно, несообразно спокойным; он казался почти равнодушным к тому, о чем поет. Только голос… голос и едва уловимый, не похожий ни на чей, Петин запах пьянил придвинувшегося Петровича.
Годы чудесные
Гомон, гам, гвалт — далеко не синонимы, как не синонимы, например, табуретка, стул и кресло. Конечно, повсюду, где люди собираются во множестве — собираются случайно или движимые общей надобностью — всюду, за исключением погостов и кладбищ, воздух наполняется их голосами и дрожит. Но как отдельный человеческий голос способен звучать в широком диапазоне, так и их совокупность может роптать, галдеть, реветь на самые разные лады. Людская толпа — сообщество нервное, оттого и слова, обозначающие ее шум, все какие-то тревожные: чего ждать от толпы, когда вслед за глотками единый спинной мозг пустит в ход бесчисленные руки и ноги? В этих словах таится вековой страх человека перед себе подобными.
Но не было в языке слов, чтобы описать большую перемену (да и другие перемены тоже) в третьей городской школе, где учился Петрович. Каким одним словом описать могучее «ура» атакующего войска, изумляющее и потрясающее противника? Или когда трибуны на футбольном стадионе делают такой выдох, что бабушки в прилегающих кварталах крестятся? Но «ура» глохнет, ибо войско залегло или перебито; трибуны стихают, потому что «наши» получили в свои ворота. Только третья школа не глохла и не стихала от звонка до звонка все двадцать минут, отведенные на большую перемену. Зато глох и немел всякий ее невольный посетитель (например, родитель, вызванный на учительскую расправу). Казалось, будто кто-то взял все фильмы про войну, сложил в один и пустил на полную громкость, — любой кинотеатр просто бы лопнул от такого кино, а третья школа не лопалась, хотя земля тряслась вокруг нее на триста метров. Сражение шло за каждый этаж: визг, хохот, вой, стоны отчаянья и кровожадные победные кличи, пальба дверей, гудение лестничных перил, хлопки портфелей, пулеметный топот ног… Если даже несчастному посетителю удавалось целым выскочить из школы, то снаружи ему грозила декомпрессия и кессонная болезнь. Неописуемый шум сопровождался стремительным и, казалось, беспорядочным движением по всему зданию, во всех направлениях одновременно. Здесь всяк повиновался мгновенному порыву, и никто не совершал обходных маневров; летучие отряды врубались друг в друга, перемешивались; тела большие, маленькие и совсем крошечные, сталкиваясь, отскакивали друг от друга, сообразно разнице масс. Страшный ветер ходил по школьным коридорам — такой ветер, какой бывает во время сухой грозы и который гнет и ломает даже взрослые тополя. Но к счастью, в коридорах не росло тополей — только гипсовый погрудный Ленин на втором этаже подпрыгивал и покачивался на своем фанерном пьедестале, драпированном кумачом.
Лишь два человеческих подвида могли существовать и как будто мыслить внутри этого каждодневного урагана: многочисленные ученики десяти возрастных категорий и сравнительно более крупные и редкие преподаватели. Как могли они выживать в таких экстремальных условиях — загадка, но некоторые ученые говорят, что жизнь возможна даже на поверхности горячих светил типа Солнца.
Тут можно было поразмышлять. Солнце и другие космические звезды — это практически неугасимые гигантские плавилища химических элементов. Где черпают они силу для своего вечного кипения — тоже была великая загадка, но она, к счастью, разгадана. Различия между атомами веществ и огромное внутреннее давление есть причина и постоянный источник энергии. Если применить параллель, то школа №3, где учился Петрович, будучи энергетическим сгустком, удовлетворяла обоим названным условиям. Между ее атомами существовали и различия, и противоречия, а уж давление в ее стенах было просто ужасным. Что звезду, что третью школу можно было образно назвать плавильными тиглями, где происходили грандиозные процессы, так сказать, синтеза. Но было между этими объектами и существенное различие. В то время как звезды занимались, по мнению Петровича, делом полезным, то есть производили из простейшего водорода разнообразные сложные вещества, школа поступала наоборот: сплавляла разнообразные человеческие элементы в слитную массу, чтобы потом нарезать ее как попало на кусочки, весом от 30 до 60 кг. Каждое утро мальчики и девочки поступали сюда с собственным своим зарядом семейных и сословных особенностей в манерах, одежде и прическах, но уже после большой перемены едва ли чем отличались Эйтинген от Гуталимова, а Епифанова от Емельяновой (впрочем, две последние были в разных бантах). Как продукты, сваренные в едином бульоне, приобретают общий вкус и получают название супа, так и школьные ученики к концу дневных занятий имели, казалось, один вкус и запах и выглядели подчас полностью разварившимися.
Из сказанного можно понять, что третья городская школа была местом не слишком привлекательным для посещения. Однако проблема в том и заключалась, что не посещать ее Петрович не мог. Каждое утро, примерно в одно и то же время, одной и той же дорогой с тяжелым портфелем и еще более тяжелым сердцем влачился он в проклятую школу. По зиме, окна в домах кое-где еще светились; в них, за тюлевой кисеей Петрович иногда замечал человеческое копошение. Кто были эти счастливцы, позволявшие себе утром в будень предаваться домашней неге? Пенсионеры, выжившие свой рабочий век, или школьники, удачно подхватившие грипп… кто знает. Но что-то ведь подняло их с постели в такую рань… неужто одно только злорадное желание — взглянуть из тепла, из затюлья на Петровича, тащившего на морозном ветру, как крест, свой портфель?
Он добредал до улицы, которая так и называлась — Школьная. Вон и сама школа — не сгорела за ночь и не провалилась в тартарары; она слышна была издали, словно какой-нибудь нильский водопад. Но Петрович в мутные школьные воды окунуться не спешил. Было по пути одно место, которое он почему-то не мог миновать, не постояв хотя бы минутку. Позади троллейбусной остановки («Школа №3») располагалась яма какого-то важного канализационного коллектора, накрытая большой железной решетчатой крышкой. Зимой коллектор извергал густые клубы теплого, не слишком ароматного пара, а на крышке толпилось множество несчастных нахохленных голубей. Здесь-то Петрович и делал свой последний вдох перед погружением. Птицам он выкрашивал захваченную из дома булку, а сам, если оставалось время, с преступным наслаждением закуривал. Обычно на половине сигареты из школы слышалось дребезжание предварительного звонка, и это был звон по нему, по Петровичу. Он бросал окурок наземь, проталкивал его ногой под коллекторную решетку, по-мужски сплевывал и, посуровев лицом, шагал уже без задержек навстречу неизбежности.
Школа походила на корабль во время срочной погрузки экипажа. Казалось, еще немного, и она отчалит, уплывет в невесть какие дали наук и образования. О, если бы это случилось, Петрович с радостью помахал бы ей вслед. В действительности, к сожалению, школа, как крейсер «Аврора», стояла на вечном приколе и даже успела дать свое имя улице и троллейбусной остановке. Тем не менее сцена посадки личного состава разыгрывалась ежеутренне. Петрович, конечно же, грузился с самым последним запыхавшимся дивизионом ученической пехоты. Торопливо взбегали они по истертому гранитному трапу на крыльцо, украшенное двумя облупленными полуколоннами, и на плечах друг у друга вваливались в школьный холл, безнадежно заслеженный и пахнувший сыростью. Техничка Полина Васильевна уже не просила вытирать ноги, а только со скорбной укоризной покачивала головой. Минуя ее, школьники попадали в длинную, сумрачную, словно трюм, раздевалку. Здесь вешалки, обозначенные соответствующими буквами и цифрами, гасили, подобно волнорезам, буйный смешанный поток учеников и распределяли его согласно классной принадлежности. Ко времени прибытия Петровича вешалка «В»-класса (как, впрочем, и соседние «Б» и «Г») ломилась под одеждами, осыпaвшимися при малейшем прикосновении.
Мешкать было уже некогда. Петрович доставал из портфеля сменную обувь, отчего тот худел сразу вдвое. В этом портфеле Генрих привозил когда-то из московских командировок мандарины, помятые бананы и твердую очень вкусную колбасу. Но Петрович, унаследовавший портфель, не держал в нем ничего вкусного, и так называемые «бананы», что, случалось, в него попадали, были попросту школьные двойки.
Спешно раздевшись и переобувшись в старые кеды с высунутыми для шика языками, Петрович начинал соображать, где ему искать свой класс. В третьей школе только вешалки с обозначениями классов оставались неизменно на своих местах, а сами классы, кроме младших, кочевали по кабинетам, подобно бродячим зверинцам или пастушеским племенам. Руководило этой миграцией сложное расписание занятий, составлявшееся в учительской и еженедельно менявшееся. Выработка наилучшего расписания очень занимала здешних педагогов, но поскольку лучшее — враг хорошего, то на каждой перемене можно было видеть растерянных заблудившихся учеников, а порой и целые скитавшиеся классы, не знавшие своего жребия: то ли им предстояла география в кабинете биологии, то ли алгебра в химическом. Петровичу даже снилось иногда — снилось, особенно накануне контрольных, что кружил он в тоске школьными коридорами, заглядывая подряд во все кабинеты. И везде, куда он ни заглядывал, к нему оборачивались чужие насмешливо-недоумевающие физиономии, а его собственного класса не было нигде, будто он канул. Урок пропадал, проходил, как жизнь; тоска большим шприцем вонзалась в грудь и сосала из сердца. Петрович все кружил и кружил, а из-за закрытых дверей доносились чужие голоса и гулко по-совиному отдавались в пустынных коридорах.
Наяву, однако, все обстояло не так плохо. Просто надо было изловить за фартук какую-нибудь одноклассницу из тех, которые всегда все знают, и спросить у нее нужный адрес. Сегодня Петровичу удачно попалась Епифанова, — она завозилась у зеркала, долго и безуспешно пытаясь посадить на свой русый хвостик какую-то цветную прищепку в виде бабочки.
— Привет, Епифанова. Не знаешь, где мы сегодня?
— Я-то знаю, — Епифанова фыркнула, и бабочка у нее в очередной раз отвалилась. — Всем вчера говорили: с утра иняз. С «Б»-классом спариваемся. Немцы в библиотеку, а ты топай давай на третий этаж.
Поразительно, как девчонки умели быть в курсе не только переменчивых расписаний, но и вообще всех школьных событий. О том, что «англичанка» сегодня заболеет, Епифанова знала, наверное, раньше самой «англичанки». Получив исчерпывающую информацию, Петрович двинулся на третий этаж, а Епифанова осталась изворачиваться у зеркала, — при всей ее осведомленности, все-таки глаз на затылке ей недоставало.
Кабинет иностранного языка на третьем этаже был, как ни странно, настоящий кабинет иностранного языка. Такой привилегией — преподавать в одном постоянном кабинете — Эльвира Львовна пользовалась потому, что была завучем. По специальности Эльвира, так же, как и чем-то захворавшая Маргарита Аркадьевна, была «англичанкой». В силу этого совпадения, два класса, «Б» и «В», по выражению Епифановой, и «спарились» своими английскими половинками в ее кабинете. «Спаривание» это произошло не вдруг, а имело прелюдию в виде пересадок и перепрыжек с парты на парту, толчков и долгих взаимных препирательств. Наконец Эльвира Львовна постучала по столу:
— Так! — сказала она, — так! так!
Потом Эльвира, будто фея, взмахнула указкой и велела народам жить дружно. Насчет дружбы народов она пошутила, тем более, что скоро выяснилось, что дружба дружбой, а для Эльвиры Львовны народ «Б» отнюдь не равнялся народу «В». Как мать в толпе детей всегда выделяет и слышит своих собственных, так Эльвира видела в классе только «бешников», и только их английское произношение ласкало ей слух. Проблема была в том, что диалекты, на которых изъяснялись Эльвира Львовна и Маргарита Аркадьевна, и соответственно их питомцы, существенно разнились. Рассудить, чье произношение правильнее, мог бы, наверное, природный британец, но таковых, конечно, в классе не было, да и не британцы тут ставили оценки в классный журнал. Сегодня не стоило рисковать, выясняя фонетические тонкости, потому что ото всего англоязычного мира здесь представительствовала одна только Эльвира Львовна.
Но надо сказать, «бешники» и вправду демонстрировали чудеса дрессировки. Они так ловко шепелявили английскими согласными, будто у них не хватало передних зубов, а звук «р» объезжали так изысканно, словно были все картавыми от рождения. «Бешники» отвечали и переводили с видимым удовольствием, повинуясь легким взмахам Эльвириной указки. Между ними и училкой чувствовалось то особое взаимопонимание, какое бывает между цирковыми животными и их наставником. На таком высокохудожественном фоне «В»-класс совершенно потерялся: его лучшие представители сбивались и мямлили, так что самим делалось противно. Слушая их, Эльвира Львовна хмурилась, мрачнела и наконец не выдержала:
— Не пойму, — воскликнула она раздраженно, — чем это вы занимались с вашей Маргаритой Аркадьевной?
Посрамленные «вешники» промолчали, но вопрос и не требовал ответа.
— А теперь, — обьявила Эльвира Львовна, — теперь показываем, как надо читать. Слушаем все, особенно «В»-класс.
В наступившей тишине Петровичу почудилась неслышимая барабанная дробь. Эльвира торжественно взмахнула указкой:
— Вероника, плиэз… Кам хиа.
За его спиной послышалось шуршание, и внезапно на Петровича налетел словно ветерок. Ветерок, пахнyвший розовым маслом, сбросил с парты его тетрадку, и когда Петрович нагнулся, чтобы ее поднять, он успел разглядеть босоножки и две круглые пятки. Эти пятки не расплющивались, а при каждом шаге, как в танце, повертывались слегка внутрь.
Эльвира Львовна не глядела на Веронику, а только слушала, — она ценила в человеке одно лишь его произношение. Петровичу же, наоборот, до произношения было мало дела, — его интересовали сами губы, выпевавшие эту английскую чушь. Он смотрел на них и думал о том, что у Деундяк из его класса рот очерчен правильнее. А у Крючковой глаза больше, хотя и не синие. Правда, у них обеих противные фамилии… Кстати, какая у Вероники фамилия? Петрович попытался вспомнить и не смог. «Ладно, — сказал он себе, — при чем тут фамилия».
Но если не в фамилии было дело и не в английском произношении, то в чем тогда? В круглых пятках? В розовом ветерке?.. Глупости. Все это Петрович уже проходил — ведь он знал Веронику не первый год. Тем более, что здесь и без него было перед кем покрасоваться — в классе сидело еще штук двадцать мальчиков. Так пытался он себя образумить и сам себе врал, не решаясь признать, что Вероника застала его врасплох. Наверное, она была в курсе предстоящего спаривания классов и успела хорошо подготовиться — ведь пришла же она сегодня без этих… шерстяных рейтуз. Нет, что ни говори, а если Вероника затевала с ним давнюю свою игру, то сегодня она сделала удачный ход. В груди у Петровича образовалась вдруг странная пустота, какая бывает при испуге. Ему надо было срочно собраться с мыслями и выработать ответную стратегию.
Но в этот момент раздался звонок на перемену.
— Инаф, — объявила Эльвира Львовна. — Урок окончен.
Что случилось на уроке английского? Ничего не случилось. По выходе из кабинета Петрович был сбит пробегавшим десятиклассником, встал и тут же получил от кого-то новый толчок. Ужасно захотелось курить. Прямо с портфелем он зашел в туалет третьего этажа. Здесь не так слышалось безумное орово перемены, зато висел холодный невыветриваемый смрад. По счастью, старшеклассников в туалете не было — только ровесники Петровича, да какой-то салага, который застенчиво страдал, взобравшись «орлом» на замызганный стульчак. Человек пять «англичан» обеих букв курили одну сигарету на всех. Своим появлением Петрович лишь на миг испугал этот интернационал, — порхнувшие было по сторонам курильщики снова приняли вальяжные позы, и окурок материализовался в чьем-то кулаке.
— Вольно, — усмехнулся Петрович и пристроил портфель на заплеванном подоконнике. Сигареты у него были собственные — две штуки в пенале для авторучек.
— Богатенький! — осклабился желтозубый губастый Трубицын. — Оставишь затянуться?
— Угу… — нехотя пообещал Петрович. Он не любил Трубицына и за желтые зубы, и за хвост рубашки, вечно торчавший из ширинки, и — главное — за его постоянный невыносимо пошлый треп. Словарь трубицынский и произношение были целиком заимствованы у старшеклассников. Если бы старшеклассники в школьных туалетах изъяснялись по-английски, то Трубицыну цены бы не было на Эльвириных уроках.
— А чё, паря, телки у вас в классе зашибись, не то что наши коровы. — Трубицын тыкал в грудь «бешника» Терентьева. — Ты нас познакомь.
— Сам знакомься, — вяло отвечал Терентьев.
— Не, в натуре — вон у Верки какие булки… Скажи? — Он толкнул Петровича плечом, ожидая подтверждения.
Но Петрович промолчал. Он бросил сигарету на пол — почти целую — и задавил ботинком.
— Эй! Ты же обещал оставить! — возмутился Трубицын.
— Только не тебе… козел, — ответил Петрович.
Он сказал это тихо, но все присутствующие расслышали, включая салагу, сидевшего на унитазе. Трубицын от неожиданности даже не психанул; он замер, темнея лицом, потом осведомился, тоже негромко:
— Ты это чё — биться хочешь?
— Угу, — кивнул Петрович.
Шутки кончились; с этой минуты они были противники.
— Давай не в сортире, — предложил Трубицын. — Здесь по-нормальному не получится.
— Угу, — согласился Петрович. — Давай после уроков, за школой.
С души отлегло. Теперь только Петрович понял, как давно он не совершал в жизни серьезных поступков. Тело его дрожало, но это был не страх, а жажда действия. Все прочее потеряло значение, и даже мысли о Веронике отошли на задний план. Разделаться с Трубицыным, уничтожить его — вот что стало главным. Трубицын, тварь… Вот почему Петровичу так противна была эта школа! Ну уж сегодня все будет кончено — кончено раз и навсегда. Он подумывал даже, не убить ли ему этого паршивца совсем — пойти вниз в столовую, украсть ножик, и ага…
Так пролетела дневная сессия — впервые за многие месяцы незаметно. Уроки Петрович не слушал. То и дело оборачиваясь назад, он искал взглядом Трубицына, словно хотел удостовериться, что тот еще не сбежал. Но Трубицын не собирался бежать, а, набычась, отражал Петровичевы огненные взоры и своими карими глазами посылал ему ответные лучи смерти. На переменах враги держались друг от друга на отдалении, чтобы не сцепиться прямо в школе. Тем не менее слух о предстоящем сражении скоро обошел «В»-класс, не только наэлектризовав его мужскую половину, но даже и в женской прогнав скуку. Постепенно сформировались две партии, стоявшие одна за Петровича, а другая за Трубицына. Как заметил с досадой Петрович, за него выступали в основном девочки, не любившие толстогубого Трубицына за хамство, а мальчики в большинстве сочли все-таки, что Петрович оскорбил Трубу незаслуженно. Но независимо от того, как распределялись голоса болельщиков, ясно было, что поединок сегодня не обойдется без зрителей.
Так и получилось. «Вешники» мужского пола вышли после занятий группой человек до десяти, словно собрались в культпоход. Посовещавшись с минуту, они попрыгали с крыльца и, по-собачьи растянувшись цепочкой, двинулись в обход школьного здания. Обогнув два угла, мальчики попали на хоздвор, пересекли его и скрылись за котельной пристройкой, давно уже бездействовавшей, и которую полагалось бы сломать еще лет двадцать назад. То, что происходило за пристройкой, на так называемом «пятачке», уже не могли видеть сторонние наблюдатели — не могли, потому что «пятачок» огораживали две слепые стены и забор. Спасибо архитектору, позаботившемуся устроить для школьников такое удобное место, где они могли бы покурить в хорошую погоду или в подражание взрослым выпить какой-нибудь шестнадцатиградусной дряни. И не было удобнее ристалища для турниров, кровавых и не очень, без каких не обходится ни одно заведение, где подрастают мужчины. Многое видели эти щербатые кирпичные стены, но о чем знали стены, того не хотели знать школьные преподаватели. Словно по уговору, они никогда не совали носа на «пятачок» — и правильно делали.
Сюда-то и пришли дуэлянты в сопровождении одноклассников, прятавших свое желание поглазеть на драку за суровыми и значительными минами. Убедившись, что никого из старших поблизости нет, мальчишки побросали в сугроб портфели и зачем-то прогнали снежками крутившуюся тут же компанию дворняг. Собаки и сами бы ушли, ведь их на школьные задворки привела не жажда зрелищ, а естественный интерес к столовским объедкам. Затем Петрович и Трубицын разделись, сдав пальто на хранение секундантам. Роковое мгновенье близилось, но… то ли приготовления к драке были слишком долгими и церемонными, то ли мороз остудил Петровичу голову, — он вдруг почувствовал, что благородная ярость, переполнявшая его до сих пор, неожиданно улетучилась. Как ни противна была трубицынская физиономия, Петровичу вдруг показалась странной сама надобность бить по ней кулаком.
Но ему помог сам Трубицын, который размахнулся… и первым же ударом выбил из Петровича несвоевременные сомнения. Дело началось. Махались они «боксом», как большие: кататься по земле, сцепившись в рукопашной, считалось уделом малолеток. Будь соперники постарше, а кулаки у них потяжелее, кто-нибудь наверняка был бы скоро повержен, так как оба мало заботились о защите. Однако силы их хватало только на то, чтобы прибавлять друг другу все новые синяки. Пускать в ход ноги запрещалось по уговору, однако обоих то и дело подмывало отвесить противнику пинка. «Ногой?!» — возмущенно хрипел Петрович. «Сам ты ногой!» — злобно отвечал Трубицын. Несколько минут бойцы топтались в снегу, кое-где уже обагренном кровью из разбитых носов. Зрители, поначалу бурно обсуждавшие каждый удар, примолкли; кто-то сердобольный даже посоветовал им «завязывать» и предлагал объявить ничью. Трубицын, чьи толстые губы совсем распухли, сопел уже без особого энтузиазма и, наверное, от ничьей бы не отказался, но у Петровича словно «зашкалило». Он и сам был уже почти не в состоянии поднять руки, однако, навалившись на противника всем телом, вошел с ним в клинч. Лица их сблизились так, что Петрович мог бы укусить Трубицына за нос, но это было против правил.
Надо полагать, драка все же кончилась бы ничьей, если бы… если бы Трубицын не проявил неожиданную находчивость. А может быть, ему просто надоело толкаться с Петровичем, — одним словом, он вдруг резко подался назад и, увлекая Петровича за собой, упал спиной в снег. Но, падая, Трубицын успел выставить ноги и этими ногами так подбросил Петровича, что тот, перевернувшись в воздухе, угодил в сугроб. Мальчишки, с самого начала больше сочувствовавшие Трубицыну, пришли в восторг от удачного приема.
— Все! — закричали они. — Победа!.. Труба победил!
И хотя Петрович, выбравшись из сугроба, кинулся было снова в бой, несколько рук его удержали. Между противниками встал Васильев — он пользовался авторитетом в таких делах, потому что был в классе самый рослый, рассудительный и к тому же второгодник.
— Хорош, — объявил Васильев. — Вы обои свое доказали.
Петрович понял, что его не отпустят, и перестал вырываться. Васильев нахлобучил ему шапку и важно провозгасил:
— Всё, пацаны, теперь мир!.. — И он обернулся к Трубицыну. — Так, Труба?
— Мне-то фто… — мрачно прошепелявил Труба разбитыми губами и длинно кроваво сплюнул. — Мир так мир.
Ноги у него заметно дрожали.
— Ну а ты? — строго спросил Васильев.
Петрович помолчал и нехотя согласился:
— Ладно… Но пусть он про нее больше такого не скажет.
— Про кого?
Мальчишки переглянулись:
— Это он про ту, в колготках, из «Б»-класса.
— Стало быть, они бабу не поделили…
— Да сдалась она мне… — Трубицын опять сплюнул и прибавил в адрес Вероники непечатное слово.
Петрович опять рванулся к нему, и опять Васильев его удержал.
Кончено… Минуту спустя Петрович уже одевался. Когда он застегивал пальто, руки не слушались его и дрожали. И ноги под ним тоже дрожали — не хуже, чем у Трубицына. Петрович подумал, что сейчас ему хватило бы легкого тычка, чтобы упасть и не подняться.
Но уже никто не давал ему тычков. Мальчики разобрали портфели и подались к выходу. Они болтали о чем-то безотносительно к произошедшей драке. Никто не приобнял Петровича за плечо, не сказал ему слова ободрения, не позвал с собой. «Ну и черт с ними!» — пробормотал он. Он сел на деревянный ящик, стоявший у стены, и откинулся. Васильев, уходивший последним, равнодушно спросил:
— Ты чего уселся? Пошли.
— Сейчас, — махнул рукой Петрович. — Только снегом умоюсь.
Оставшись один, он действительно отер лицо снегом. Средний палец на правой руке сильно болел и на глазах опухал. Морщась, Петрович мокрыми руками влез в портфель и нашарил там пенал с последней своей сигаретой. Сейчас, когда схлынуло воинственное возбуждение, душу его затягивало какой-то тоскливой мутью. Пережитая военная конфузия соединилась с досадой на свой язык: зачем, спрашивается, он открылся насчет Вероники. А в перспективе у Петровича было неизбежное объяснение с домашними и, как следствие, испорченный остаток дня. А завтра опять в школу, только уже с разбитой физиономией… «Тьфу!» — Он плюнул меж колен, и плевок его получился такой же красный и тягучий, как у Трубицына.
Неожиданно где-то совсем рядом скрипнул снег. Он повернул голову и увидел Веронику. Она была в замшевых сапожках, короткой белой шубке, а губы ее, вопреки морозу, алели, словно накрашенные.
— Курить вредно, — сказала она.
— Это ты… — нахмурился Петрович. — Чего приперлась?
— Так… — Она повела плечом. — Ребята твои сказали, что ты здесь.
— А тебе что за дело? — Он старался спрятать от нее свое разбитое лицо.
— Да ничего… — Вероника отставила ногу и посмотрела на свой сапожок. — Это не ты того губастого так разукрасил?
— Он меня тоже. — Петрович усмехнулся.
— Правда? Покажи.
— Отстань.
— А они мне сказали… — она прищурилась, — они сказали, что ты с ним из-за меня подрался. Не врут?
Петрович отвернулся:
— Это неважно…
— А для меня важно.
Она шагнула ближе и наклонилась:
— Ну покажи, где он тебя.
Как Петрович ни уворачивался, Вероника поймала руками его лицо.
— Совсем не страшно. — Она по-матерински улыбнулась. — Вот здесь только чуть-чуть.
Она дотронулась пальцем до его распухшей скулы, а потом вдруг придвинулась и, окатив запахом розового масла, поцеловала его прямо в синяк. Петрович оцепенел от неожиданности, а Вероника, придержав свою белую шапочку, выпрямилась и огляделась по сторонам. Она огляделась на предмет ненужных свидетелей, но какие там были свидетели — две слепые стены и забор.
— Ладно, — сказала Вероника после небольшой паузы. — Я пошла.
Она прибавила к словам долгий синий многозначительный взгляд, но ответа так и не дождалась. Петрович сидел неподвижно, словно парализованный, а в ногах его, умирая, шипела выпавшая из пальцев сигарета. Уже белая шубка скрылась за углом котельной, а он все сидел, глядя бессмысленно ей вслед. И неизвестно, сколько бы он так просидел, если бы из-за угла этого вдруг не показалась собачья бородатая морда и не уставилась в свою очередь на Петровича. Дворнягам пора было на школьную кухню, а ему… что ж, ему пора было топать домой. Теперь только почувствовал он, что продрог и голоден.
Выйдя на хоздвор, Петрович встретил там школьную техничку.
— Батюшки! — Полина Васильевна всплеснула руками. — Кто это тебе так разуделал?
Петрович, вспомнив дяди-Валино присловье, улыбнулся ей непослушными губами:
— Ничего, Полина Васильевна, до свадьбы заживет.
Свадьба могла подождать, это правда. А вот обед не мог ждать, пока к нему вернется нормальный прикус. Только севши за стол и попробовав есть, Петрович обнаружил, что челюсти его перекосились и отказывались не только жевать, а и вообще как следует схлопываться. Он улыбнулся, вспомнив Иринину старую шкатулку для ниток, у которой створки вот так же не сходились между собой, — и улыбка отдалась ему болью за ухом. Ко всему прочему не гнулся и не хотел держать ложку выбитый палец. Оставалось утешаться надеждой, что и Труба, если он обедал в эту минуту где-то за тридевять домов отсюда, тоже чувствовал себя не лучше.
Глядя, с какими мучениями он ест, Ирина вздыхала и по-бабьи качала головой — прямо как техничка Полина Васильевна. Удивительно, до чего эти женщины впечатлительны. Наконец Петрович не выдержал:
— Послушай, Ирина, — взмолился он, — я ведь все уже тебе объяснил. Не вздыхай, пожалуйста, а то у меня аппетит пропадает.
Насчет аппетита, это он, конечно, преувеличил. Обед Петрович умял до последней крошки, несмотря на неисправные челюсти. Наевшись, он объявил Ирине, что идет к себе, и попросил его больше не беспокоить, потому что он будет заниматься.
— Занимайся, — кротко согласилась Ирина. — Теперь самое время тебе позаниматься. Но имей в виду, что вечером будет у тебя серьезный разговор.
Однако, закрывшись в своей комнате, Петрович и не подумал приступать ни к каким занятиям. Наоборот, он пнул с отвращением ни в чем не повинный портфель и задвинул его ногой под стол. Вместо занятий Петрович улегся навзничь в кровать и, заложив руки за голову, уставился в потолок. В тишине и покое он хотел привести в порядок свои мысли и впечатления, но нельзя сказать, чтобы это легко ему удалось. Сначала перед его мысленным взором шли, как на телеэкране, повторы сегодняшних происшествий, из которых главным был, конечно, поцелуй Вероники. Затем незаметно к делу подключилась фантазия: поначалу она только придавала реальным событиям новую форму, разливая их, так сказать, по своим сосудам, но потом разгулялась и стала пририсовывать к ним разные продолжения. Так, негодяй Трубицын получил сразу несколько вариантов своего будущего — один ужаснее другого. Однако гораздо сильнее, чем судьба Трубицына, Петровича занимала его собственная судьба. Здесь фантазия рисовала благоприятную перспективу, хотя довольно несвязную и туманную. Во-первых, эта перспектива была обратная, потому что даль ее не сходилась в одну точку, а наоборот, выходила вся из сегодняшнего нечаянного поцелуя на школьных задворках. Во-вторых, фантазия в принципе не умела нарисовать Петровичу его будущность в виде ряда событий или какого-то маршрута, а предлагала ему словно набор картин, хотя и весьма увлекательных. Везде на этих картинах присутствовали и голубые Вероникины глаза, и губы цвета вишни, и — что уж таить греха — некоторые невидимые днем, но соблазнительные (по уверению фантазии) части ее тела. И было там множество поцелуев, от которых Петрович уже не цепенел, а принимал в них равное и деятельное участие.
Нет, он не строил никаких планов, а если и пытался, то фантазия вмешивалась и рушила все логические конструкции. Но постепенно и фантазия теряла монополию в сознании Петровича: в ее картинах стали появляться новые, непрошеные действующие лица, и задвигались, и слышимо заговорили. Фантазия уступала — уступала тому, кто был сильнее нее.
Спящий Петрович не видел, как стемнело, и наступил вечер. Пришел откуда-то Генрих, следом за ним вернулись с работы Катя с Петей. Старшие ужинали, потом на кухне о чем-то говорили, но Петрович ничего не слышал, потому что спал. Наконец он проснулся, — кто-то заметил, что под дверью в его комнату показалась полоска света.
— Иди, — сказал Генрих Пете. — Бери его тепленьким.
Когда Петя вошел в Петровичеву комнату, тот сидел растрепанный на смятой постели и пытался пошевелить распухшим пальцем.
— Привет, — поздоровался Петя. — Мне сказали, что ты тут усиленно занимаешься с самого обеда. — Он покосился на портфель, задвинутый под стол.
— Угу… — ответил Петрович.
Петя присел к нему на кровать.
— Вообще-то мне велено с тобой поговорить.
— Я понял, — кивнул Петрович.
Наступило молчание. Петя почесал себя за ухом, зачем-то огляделся и снова почесал.
— Ты пойми, — сказал он наконец, — мы не можем забрать тебя из школы, как забрали из детского сада. Если у тебя проблемы, с ними надо справляться.
— Я справляюсь… как видишь.
— Да? Ну-ка, покажись… — Петя усмехнулся. — Положим, справляешься… А как у тебя, товарищ, с уроками?
— Нормально… палец вот только болит… Сейчас умоюсь и сяду.
— Обещаешь?
— Обещаю.
— Ну и славно… — Петя покачался на кровати. — Я, собственно, за этим и приходил.
Кровать под Петиным весом заохала, подбрасывая Петровича. Он искоса с уважительной завистью взглянул на Петин могучий торс.
— Послушай, — спросил он, — а когда ты стал… ну, таким… я имею в виду — вырос?
— Возмужал, ты хочешь сказать?.. — Петя задумался на мгновение и улыбнулся: — Не знаю… наверное, когда в Катю влюбился. А почему ты спрашиваешь?
— Так… Пора бы и мне уже… возмужать.
— Ты этого хочешь?
— Очень.
Петя посмотрел на него внимательно:
— Я знаю один способ. Надо поменьше об этом думать, и ты сам не заметишь, как это случится.
— Не замечу?
— Ну… может быть, заметишь. Главное — не торопить события. Помнишь, мы с тобой читали про чайник, — чем меньше о нем думаешь, тем быстрее он закипает.
На том и завершился «серьезный разговор».
Петрович думал над Петиными словами, но увы, жизнь не хотела слушаться никаких установок. Во-первых, влюбившись по уши, Петрович не почувствовал никакого возмужания, а наоборот, размяк и ослабел душой. Во-вторых, как ни пытался он отвлечься мыслями от Вероники, у него ничего не получалось. Всякий слух о ней обжигал его изнутри, всякая нечаянная встреча с ней в школьных коридорах подвергала его сердце испытанию на разрыв. «Чайник» Петровича неуправляемо бурлил, изливая в душу кипяток и стуча черепной крышкой. Трагедия была в том, что они учились в разных классах, отчего Петрович ревновал Веронику ко всем «бешникам», включая девочек. Зато английское «спаривание» превратилось для него в какой-то сладостный кошмар. Здесь Петрович совсем себя не контролировал: беспричинно грубил Эльвире Львовне и с легким сердцем хватал двойку за двойкой. Слушал он только шуршание за своей спиной и ждал только одного — когда Эльвира вызовет Веронику.
Все эти дни они ни разу не виделись наедине. Это было странно, потому что при желании Вероника могла запросто устроить свидание — могла тем более, что Петрович подавал к тому множество поводов. Он старался показаться ей на глаза на каждой перемене; он даже сумел выучить расписание — не свое, конечно, а «Б»-класса. Но Вероника вела себя не так, как раньше, — она словно нарочно держалась на отдалении. Что это было — рассчитанная игра, намеренная уловка, или… она стала его бояться? — Петрович не понимал. Но инстинкт подсказывал ему: бесконечно так продолжаться не может.
И инстинкт его не обманул. Это случилось спустя восемь дней, если считать от того поцелуя, который был как первоначальный взрыв, породивший Вселенную. В этот день с утра классная руководительница «вешников», математичка Зоя Ивановна, объявила, что вместо ее урока назначается репетиция к ежегодному смотру «строя и песни». Мероприятие это было Петровичу глубоко ненавистно, — маршировать, распевая хором какую-то бодрую ахинею, — что может быть глупее… и унизительнее. Со времени прошлого смотра прошел год; Петрович стал на год старше. Он твердо решил, что на сей раз откажется от участия в коллективной клоунаде, чего бы ему это ни стоило. Улучив момент, когда классная осталась одна, он подошел к ней и тихо, но твердо заявил:
— Зоя Ивановна, я маршировать не буду.
— Заболел? — спросила она подозрительно.
— Нет, — ответил Петрович, — не заболел. Просто не буду.
Она взглянула на него с искренним изумлением.
— Но почему же, Гоша?
— Так… Не хочу строить из себя идиота. Хотите, ведите меня к директору, хотите исключайте из школы.
Зоя возмутилась:
— А что, если все так скажут: «Не хочу, не буду», — что тогда?
— Не знаю… — Петрович усмехнулся. — Школа обвалится.
Зоя надолго замолчала. Она щелкала шариковой ручкой, напрягая свои педагогические извилины.
— Хорошо, — сказала она наконец. — То есть ничего хорошего… Раз ты такой умный, будешь у меня в классе убираться вне очереди. Надеюсь, с тряпкой в руках ты не будешь чувствовать себя идиотом?
— Никак нет, Зоя Ивановна! — просиял Петрович. — Спасибо.
— Пожалуйста… — вздохнула классная. — Глаза бы мои не смотрели… Да, постой… ребятам скажешь, что у тебя нога болит.
Вообще-то уборка класса производилась учениками по очереди, но часто служила воспитательным целям. Ничего здесь не было необыкновенного, ведь труд как исправительную меру изобрели не в третьей школе. После занятий Петрович сходил к Полине Васильевне за ведром и шваброй, набрал в туалете горячей воды и принялся за дело. Двигая столы, он выметал из-под них конфетные фантики, пуговицы, записки… одним словом, обыкновенный школьный мусор. Нет, за этим занятием Петрович не чувствовал себя идиотом — он мел и что-то насвистывал, мел и насвистывал… и не видел, что в дверях кабинета давно уже стоит Вероника. Лишь случайно разогнувшись, он боковым зрением уловил ее присутствие и вздрогнул. Внутри него сделалось опять горячо, будто он хлебнул кипятку.
— Привет, — сказала она.
— Здравствуй… Как ты меня нашла?
— Ну… просто ты не вышел из школы, я и подумала…
— Значит, ты меня пасла?
Она улыбнулась:
— Ты же пасешь меня.
Петрович смущенно покачивал швабру.
— Хочешь, помогу убраться? — предложила Вероника.
— Ты испачкаешься.
— Не страшно. — Она встряхнула золотистым хвостиком. — Давай, а то на тебя смотреть жалко, на неумеху.
— Ладно, — усмехнулся Петрович. — Покажи, как надо.
Вероника мыла полы легко и по-женски ловко. Движения ее были изящными, словно она не шваброй орудовала, а исполняла балетный этюд.
— Хорошо у тебя получается, — сказал Петрович негромко, со значением.
— Что?.. — Она разогнулась и одернула платье. — Знаешь… ты смотри куда-нибудь в сторону… ну хоть в окно.
Нет, конечно, ни в какое окно Петрович смотреть не мог — только на Веронику. И весь бы век смотрел он, как танцует она со шваброй, как играет ямочка на ее щеке, порозовевшей, надо думать, от работы. Однако всякому удовольствию приходит конец. Долго ли, коротко, пол был вымыт, парты расставлены по местам, и пришло им время решать, как быть дальше. Остаться в классе? Но они знали, что Полина Васильевна после уборки запирала все кабинеты. Пойти на улицу? Но там было холодно и множество посторонних глаз.
— А пошли в раздевалку, — предложил Петрович, — в спортзал. Там сроду не запирают.
Вероника согласилась, и они пошли сдавать техничке арендованный инвентарь. Полина Васильевна посмотрела на парочку пристально поверх очков, но ничего не сказала.