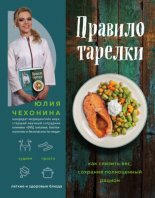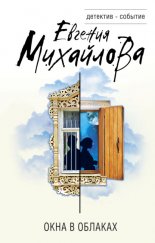Записки уголовного барда Новиков Александр

Мы с Толей пошли в конце строя, где его, собственно, нет – общая кучка, беспорядочно собравшаяся по устоявшейся традиции. Отряд за отрядом уже шагали на плац. В какой-то просвет между этими толпами вклинились и мы своей оравой. Слева по-офицерски, на два шага выйдя из строя, шел Лысый, постоянно покрикивая:
– Так, подровнялись!.. Подровнялись!
Петухи шагали стройно и в ногу. Дальше – нестройно, но почти в ногу – черти. Еще ближе к концу – нестройно и не в ногу – мужики. В самом конце – «иду, как идется, хуй укажешь!» – блатные. В этой компании мы с Толей старались ни в чем не отставать и ничем от коллектива не отличаться. Мустафа намедни подогнал мне черную телогрейку и свою фуражку. Сапоги выдал завхоз. Короче говоря, одет я был в черный цвет и в стиле «ништяк, Санек!». Сапоги, правда, были кирзовые, обычные зоновские, страшноватые, но на первое время годились. Мустафа обещал в ближайшее время раздобыть офицерские, хромовые. Впоследствии, когда я, наконец, заполучил их, радовался им больше, чем лакированным штиблетам на воле. Это было еще одним доказательством того, что все ценности в мире – относительны. Собственно, как и вкусы.
Первым в строю шагал одноухий длиннющий опущенный по кличке Чуча. Одет он был в зачуханнейшую телагу и такую же пидорку. Кроме всего прочего, он был от природы лопоухим, а потому единственное ухо торчало и оттопыривалось от головы так, будто бы его неудачно пришили. Цвета оно было фиолетового, что свидетельствовало о мерах воздействия и воспитания, применяемых завхозом и шнырем. По его торчащей голове можно было ориентироваться, где начало нашего отряда и конец отряда, впереди идущего. Смешаться этим двум строям было невозможно. В конце впереди идущего шли такие же ребятки, как и в конце нашего – в черных телогрейках, с четками в руках, с более развитой мускулатурой и более свободной речью. Так что дистанция при строевом хождении в лагере соблюдалась естественным способом, несмотря ни на какие толчки и напирание сзади. Если она сокращалась до двух-трех метров, последний ряд идущего впереди строя оборачивался, и следовала если не оплеуха, то примерно такая речь: «Ты куда, крыса дырявая, летишь? У тебя что, животное, диоптрии не наводятся?!»
После этого дистанция быстро восстанавливалась. Если же отряд отставал и образовывалось большое пустое пространство, раздавался голос Лысого:
– А ну, живность, подтянулась быстро! Давай, шевели гребнями! Кашей, что ль, опоролись?!
И строй начинал шагать быстрей, несмотря на ритм, задаваемый духовым оркестром.
На плац вырулили лихо и остановились прямо напротив штабного крыльца. Того самого крыльца, на котором курили, ожидая распределения. Все отряды стояли лицом в его сторону. Кажется, их было восемнадцать.
Ждали начальство. В стороне молча переминался с ноги на ногу духовой оркестр. Выглядел он весьма импозантно.
Огромный доисторический полковой барабан, стоящий прямо на дощатом полу плаца. По нему колошматил чертоватого вида парень в синей, грязной телогрейке. Баритон и труба. Ржаво-латунного цвета, гофрированные, будто жеваные. Дули в них примерно такие же, как и барабанщик. Фальшиво и очень громко. Гримасы на их лицах были тоже примерно одинаковые – как и музыка, многострадальные.
Казалось, что у последних двух висят сопли, а сами они не играют, а сморкаются. В общем, оркестр был в образе.
Наконец на крыльцо, рассекая животом окружающую среду, нехотя выполз Дюжев. Нарядчики со счетными досками побежали сверять количество, считая народ «четверками». Пересчитывали по несколько раз, что-то помечая карандашом на дощечке. После этого бежали докладывать стоящему перед строем майору с повязкой «ДПНК».
Когда все сошлось, грянул оркестр, и отряды в обратном порядке двинулись по баракам.
– Ну, как играют? нормально, нет? – с ехидцей спросил меня Лысый. – В такой оркестр пошел бы, хе-хе?
– Без слез не глянешь, – в тон ответил я.
– Они, вот, черти чертями, а от работы освобождены. Числятся где-то в хозобслуге. Кто в бане, кто у коменданта на побегушках. Их бы, блядей, на разделку загнать, во они бы тогда заиграли! Га-га!.. – пояснил Лысый.
Ввалились во двор. Все пошли врассыпную, кто курить, кто варить, кто просто слоняться или спать.
– Письмишко, что ли, домой написать? – зевнул Толя. – Сейчас можно – пиши сколько хочешь. Писать только нечего.
– Сочиняй, напрягай фантазию, – сказал я.
– Сочинять тоже надо умеючи. Напишешь не то – к операм потащат.
– Аты пиши – «то». Мол, дорогие родственники! Здесь очень хорошо. Кормят нас как на убой…
– Нет, на «убой» – нельзя. Подумают еще, что мочить кого-то собрался, хе-хе…
– Ну, тогда так: «Дорогие родственники! Приехали на место. Погода очень хорошая. Поезд попался мягкий, вагон теплый. Начальники здесь добрые и образованные. Особенно подполковник Дюжев…»
– «Дюжев» – вычеркнут.
– Ну и пусть. Зато хоть постебаемся. «Работа здесь не трудная. Ударным трудом буду искупать свою вину, досрочно гасить иск… Очень хочу вступить в СПП… Это что-то вроде комсомола, только еще лучше, и к тому же выдают повязку. За это здесь всех, кто вступил, хвалят…»
– Вот это да! Давай быстрей бумагу, пока текст не забыл, ха-ха!..
Мы докурили, посмеялись и пошли спать до обеда.
Уснуть оказалось не так-то просто. По бараку все время сновали люди. Шнырь носился по проходам со шваброй, вытирая пыль под кроватями. Хлопали форточки, ведра. Я накрылся телогрейкой с головой, и мысли опять полетели за забор. К дому, к знакомым, к друзьям и недругам. Ко всему, что осталось там, где не был уже почти два года. Неполных два… А впереди еще целых восемь. Куда и к кому она будет летать, эта память, через пять? Через семь? И к кому возвращаться придется через десять?
Поймал себя на мысли, что нигде так не мечтается, как в темном холодном карцере, полном крыс, таких же голодных и ожесточенных. Или на шконаре, накрывшись с головой телогрейкой, налегая одним ухом на подушку и закрывая другое закинутой за голову рукой. Удивительно, но вспоминается только хорошее, только самое светлое и радостное. Даже то, что когда-то по ту сторону забора злило и не давало покоя, здесь улеглось и показалось пустыми хлопотами. Лежа под этой самой телогрейкой, понимаешь, что тихо грубеешь, черствеешь, а то и попросту звереешь. Жизнь поменяла краски и правила игры. Хочешь или не хочешь, тебе теперь придется находить в этих новых красках радужные и светлые. И играть по новым правилам. В незнакомую и страшную игру с писаными или неписаными законами, длина которой – срок. А на кону – жизнь. Даже если ты уверен, что выиграешь. Но – время… Впустую уходит время. Тебе сегодня тридцать три года. Возраст Христа. Символично, но что это меняет? Выйдешь – будет сорок три. Это чей возраст? Взрослого мужика, у которого все конфисковали, все отняли. И нет ни кола, ни двора. Свободу отняли – это на время. Десять лет– это навсегда. Единственное, чего не смогли отнять– возможность думать. Вот и думаешь, думаешь… И все больше почему-то о прошлом. О сегодняшнем думать не хочется. Или потому, что оно еще – не прошлое? Будет и оно прошлым. Но каким оно будет, зависит… От чего оно зависит?
– Новиков! К отряднику! – прервал мои мысли голос Лысого.
Глава 6
Отрядник
Начальник отряда капитан Грибанов встретил меня сидя за столом, уткнувшись в какие-то бумаги. На мое «здравствуйте» он откинулся на спинку кресла, скосил голову набок и после недолгой паузы без всякого приветствия изрек:
– Почему входите не как положено? Почему обращаетесь не по форме?
– А как нужно?
– Как нужно? «Осужденный Новиков по вашему вызову прибыл». Что, не учили в СИЗО? Выйдите и зайдите как положено.
– Выходить я никуда не буду. Я не в детском саду.
– Чего? Я не понял, что сказал? Что за тон?
Он свел брови к переносице и, кажется, опешил от такого начала разговора. Его синие глазки вцепились в меня. Он медленно оторвался от спинки и навалился грудью на стол.
– Не надо борзеть. Здесь борзым гривы быстро укорачивают, – не отрывая взгляда, пробасил он, насколько позволяла глотка, нашаривая на столе пачку сигарет.
«Хорошенькое начало, – подумал я. – Этот – настоящий идиот. Да еще и самодур, пожалуй. Но другого не дадут, жить придется рядом с этим. Надо как-то искать общий язык».
– Крамаренко! Завхоз! – крикнул он.
Лысый влетел, не прошло и секунды. Все это время он или стоял за дверью, или прогуливался по коридору.
По его удивленному взгляду я понял, что и он не ожидал застать меня, стоящим возле двери с фуражкой в руках.
– Да, гражданин капитан, слушаю вас, – подчеркнуто, как бывалый служака, прочеканил он.
В глазах «гражданина капитана» сверкнул довольный огонек. Вот, полюбуйся, мол, Крамаренко, кем бы ты на воле ни был, а у меня здесь свой порядок: я сижу, а Новиков как миленький стоит у двери. И будет там стоять сколько надо.
Лысый не слышал нашего разговора, поэтому в его глазах картина так и выглядела: сидит вальяжный Грибанов, а перед ним смиренный Новиков теребит в руках фуражку. Картина и впрямь довольно позорная. И я попер внаглую:
– Может, вы все-таки разрешите присесть, гражданин начальник, а то мне как-то неудобно на вас сверху вниз смотреть.
Слова «на вас сверху вниз» подействовали на него как укус гадюки.
– Разрешаю.
– Благодарю.
Я придвинул стул и сел напротив.
– Крамар, – панибратски обратился он к Лысому, – в какой проход его определил?
– В третий, гражданин капитан.
– В третий? В третий рано. В шестой надо. А лучше в десятый.
– Дак Захар сказал…
– Захар? А он у меня спросил, твой Захар? Так… Потом зайдешь, поговорим на эту тему.
– Понял. Сделаем, как скажете, гражданин начальник, – пробормотал он и смылся.
Тюрьма не только отнимает и заставляет. Она еще и учит. Где-то я читал, что маленький ребенок, попавший в беду, за несколько дней взрослеет на целые годы. И даже находит выход из ситуации, из которой не каждый взрослый его найдет. Экстремальная ситуация будит в человеке вместе с инстинктами и неведомые способности. По самым мелким и незаметным признакам человек улавливает приближение беды. Предчувствует ее, расставляет все возможные беды по полочкам, выбирая из всех – главную. От которой надо спасаться и защищаться. С которой надо справляться. Определять, из чего или от кого она исходит. Если эта беда – землетрясение, – предчувствовать и предвидеть его по тревожному бегству змей, лягушек, кошек и прочей живности. Если эта беда – огонь, – по едва уловимому запаху гари. По отсветам пламени, в конце концов. Если эта беда – человек, – то по тысячам мелочей, которым чаще всего нет объяснения. Эти мелочи видит и понимает только одна часть души – интуиция. Чем дальше она видит, чем острей ее зрение, тем больше шансов. Она и только она просыпается раньше всех и весь свой опыт пускает на защиту.
Тюрьма сама по себе – не беда. И опасности сама по себе не представляет. Главная опасность в тюрьме – человек. Он неповторим, а потому и опасности исходят от него разные. А потому в тюрьме есть только одна весталка – интуиция.
Я глядел на сигаретную пачку, которой поигрывал мой новый начальник, проводя со мной «ознакомительную беседу». До слуха моего долетали обрывки его дежурных фраз и наставлений, которые он вбивал в мозги каждому вновь прибывшему. Я пытался по этим фразам, этим жестам, этой мимике понять, что он за человек, чего от него ждать и в какой момент. Это нужно было сделать сейчас и быстро. Беседы не получалось. Говорил пока только один он. Говорил о том, что работа здесь – родная мать и что от этой самой матери зависит вся моя судьба. В общем, все как в передовицах «Козьего Знамени», которое мы уже читали в коридоре штаба.
Через полчаса некий портрет его начал вырисовываться и выглядел примерно так.
В общих чертах – идиот. Падок на лесть. Склонен к самодурству. По натуре не очень злой. Больше старается таковым казаться. Любит показать, как все ему подчиняются. Безынициативен – во всем выполняет только распоряжения вышестоящего начальства. Исполнителен. Не слишком образован. Не слишком грамотен. Очень доволен собой. Прямых конфликтов избегает – боится выносить сор из избы. Трусоват. Не в меру любопытен. По совокупности упомянутых качеств создает впечатление идиота средней руки.
«Для начала портрет неплохой, – подумал я уже несколько веселее. – Будем искать общий язык».
Возникла пауза, и я начал:
– Бросил было уже курить, гражданин начальник, но вот от нашего разговора что-то разволновался… Мне показалось вначале, что вы тоже не курите.
– Кури, кури… А с чего ты так решил?
– Да у вас вид такой спортивный, – ударил я тупой лестью в самую толстую струну его «самосознания».
– Да-а. Занимаюсь иногда. Я считаю, раз форму одел, надо держать себя в форме, – выпалил он, довольный своей остротой, состроив брови домиком. Любую мысль, показавшуюся ему умной, он неизменно сопровождал этим мимическим упражнением.
Быстро потушив сигарету, он продолжил, интересно переводя спортивную тему к вопросу о погашении иска:
– Здесь на спорт времени нет. Здесь спорт – это работа. Работа тяжелая, прямо скажу. Но на свежем воздухе… Хвоя… Хвойные породы в основном. Оплата сдельная – зависит от выполнения плана. Деньги идут на карточку, а там уже вычитают. Если алименты или иск… Иск у тебя ведь большой? Сто шестьдесят шесть тысяч, кажется, так?
– Так.
– В сто первой бригаде самые высокие заработки. Рублей шестьдесят в месяц бывает. Летом – на сплаве работают. Тоже хвойные породы…
Фразы мне показались очень знакомыми. Где-то я их уже слышал. «Вот так это дело, само дело, ебиомать… хвоя…» Да… Здесь поют с одной дудки.
Дальше заговорили о семье. О ранее судимых родственниках, которых, к его видимому огорчению, у меня не оказалось. О следствии и суде. Об общественном мнении. И здесь я, уловив момент и руководствуясь составленным психологическим портретом, рассказал ему такую брехню собственного сиюминутного сочинения, что «гражданин начальник» мигом перешел в разряд разинувшего рот слушателя. Брехня была перемешана напополам с правдой. Правды было меньше, и только та правда, которую он мог знать из личного дела или приговора. Брехни было втрое больше, но он ее не знал. Поэтому все вместе производило довольно убедительное впечатление. В общем, вспомнил Остапа Бендера и начал:
– Посадили меня по личному указанию Андропова. (Андропов, правда, умер до моего ареста. Но что особенного – «дедушка умер, а дело живет!..») По указанию КГБ СССР, с подачи идеологического отдела ЦК КПСС (что, собственно, было правдой) за мной начали следить. На Западе мои песни крутили по радиостанциям (что тоже было правдой). Это вызвало раздражение и гнев соответствующих органов. Дали указание найти «за что» и посадить (тоже правда). Ельцин как первый секретарь обкома (чистая правда) пытался свести все к инциденту областного масштаба, даже пытался помочь (а вот это уже была чистая брехня), но ничего поделать не смог. Сегодня дело находится под пристальным наблюдением западных правозащитных организаций (полуправда), жена получает оттуда запросы обо мне (брехня). И поэтому в тех тюрьмах, где я сидел под следствием, начальники отвечали за меня головой (чистая брехня). Если со мной что-то случится или меня начнут прессовать, Запад поднимет шум и будет международный скандал (полуправда-полубрехня, на усмотрение слушателя). Поэтому, чтобы меня не зачислили в разряд политзаключенных, начальству в Главном Управлении (!) дали команду: ничего лишнего в отношении меня не предпринимать. В противном случае, не дай бог что случись, начнут ездить из Красного Креста, из «Международной Амнистии» (брехня в квадрате), приедут, увидят, что в этом лагере творится, и тогда раздуют такой базар, что местным начальникам придется головы поотрывать. А после этого будут ездить сюда каждый месяц иностранные наблюдатели (брехня, да еще какая). Лично я шума никакого не хочу, хочу сидеть себе тихо, погашать иск по мере возможности (брехня), чтобы выйти отсюда поскорее (чистая правда). А кроме всего, начинается перестройка (куда деваться – правда), и я имею сведения, только вам одному скажу, по секрету, что по моему делу сюда вскоре приедет целая комиссия (брехня из брехней!).
По мере моего рассказа домик из бровей гражданина капитана становился крышею своей все круче и круче. А лицо все умнее и умнее. Потом поговорили о распорядке, о рабочем графике, о самодеятельности. Между делом он достал какую-то желтую книжку, на обложке которой было напечатано: «Тетрадь индивидуальной воспитательной работы с осужденным». Повертев в руках, крупными буквами вывел в три строки мою фамилию, имя и отчество. Приклеил фотографию. Еще подумал и рядом с фотографией начертал: «Иск 166 711 руб.»
– Крамаренко!
– Я здесь, гражданин начальник…
– Так, в общем, остается в третьем проходе. Все вопросы с каптеркой реши.
– Уже решил.
– Расскажи, как написать заявление на личное свидание, на посылку из дома.
– Сделаем, гражданин капитан!
Крамаренко безошибочно определил настроение начальника. Может быть, по голосу все той же собственной интуиции. А может быть, ему хватило всего трех слов: «Остается в третьем проходе».
– Разрешите идти? – спросил я тоном встающего на путь исправления, просветленного беседой с прозорливым и умным начальником.
Брови сложились в домик.
– Идите, осужденный. Желаю успеха.
Я встал и пошел к двери. Лысый схватил со стола пепельницу полную окурков, поглядел на меня, на начальника, снова в пепельницу и выскочил следом. В этот день в желтой книжке с моей лысой физиономией появилась первая запись. Много позже, когда я освободился, милые и добрые женщины, работницы спецчасти, в нарушение всех должностных инструкций, вытащили ее из моего личного дела и подарили мне. Низкий им поклон. Как много я мог не узнать о себе, если бы не они. Но это будет потом, не скоро. А пока, довольный беседой, я шел к своей койке делиться с Толей впечатлениями. День выдался по меркам этого края ясный. Солнце несколько раз показывалось из– за туч. Оно не грело, но оно – было. А значит, не все так мрачно и серо. Ни в небе, ни на душе. Захотелось поиграть на гитаре. Так захотелось, что ноги сами чуть не рванули в клуб. Но в клубе нет гитар. Да и что сейчас сыграешь – я не держал ее в руках уже полтора года. Нет, ничего не забыл, просто руки ее, гитару, забыли. А вместо нее завтра придется взять крючок и раскатывать по эстакаде баланы. А еще хуже того – грузить доски. Березовые шестиметровые плахи, непомерного веса, в которых заноз не пересчитать. Три человека на вагон. Шестьдесят тонн на троих за смену. Да черт с ней, с гитарой, придет время, не вечно же сидеть здесь. Пойти просто так в гости к Мустафе с Файзуллой, сегодня выходной, в конце концов. Здесь их почти не бывает. Если дадут раз в месяц – радуйся. Другим и этого не перепадет. Хотя кто его знает – это все по рассказам. Сам пока не видел, не знаю. Здесь все живут по– разному. Поэтому говорят и рассказывают те, кому плохо. Кому хорошо– молчат. Посмотрим, каково будет мне. С завтрашнего дня и посмотрим. А сейчас – к Мустафе, расскажу про идиота-начальника. Вот и поржем.
С этими мыслями я пошел предупредить Лысого, на случай, если меня хватятся или будут вызывать куда-нибудь, что я в клубе.
– Отрядник сказал, что тебе ходить по зоне запрещено. Хозяин запретил. Но иди, если хочешь… Если что – я тебя не отпускал.
– Понимаю. Если будут искать – пошли кого-нибудь за мной.
В ответ Лысый только ухмыльнулся и молча покачал головой.
Файзуллы на месте не было. Как оказалось, он ушел на производство забирать заготовки для шкатулок и подносов, которые он резал в премногом числе. На производстве, в промзоне, был отдельный цех по изготовлению ширпотреба. Одно из самых теплых и доходных мест в зоне. Делал цех то же самое, что и Файзулла, но в более примитивном виде и не такого высокого художественного достоинства. Файзулла был Фаберже местного пошиба. Всем комиссиям, посетившим колонию – от образовательной до прокурорской, в штабе дарили памятные сувениры. Тем, что поплоше – деревянные наборы цехового производства. Комиссиям позубастее – изделия от Файзуллы.
Художка была заперта, а из-за соседней двери, что вела в библиотеку, доносились голоса.
Я толкнул дверь и вошел. В первом небольшом кабинете за столом в тельняшке навыпуск сидел Мустафа. Напротив него стоял какой-то парень.
– О, привет! – обрадовался Мустафа. – Подожди в соседней, книжку возьми, если хочешь, почитай. Сейчас с этим вот закончу…
Я прошел в соседнее помещение. Это, собственно, и была библиотека. Рядами стояли стеллажи с книгами. Как в самой что ни есть городской библиотеке, только гораздо меньшего размера. Книги были большей частью новые, в очень хорошем состоянии. В глубине помещения стоял топчан, выполняющий функцию дивана и кровати. Взяв первую попавшуюся книгу, я присел на него и начал листать. Из кабинета отчетливо слышались голоса Мустафы и пришедшего. Последний говорил с сильным украинским акцентом, гыкая, окая и растягивая слова. Диалог был интереснейший.
– Та-а-к… Как твоя фамилия, говоришь?
– Павлюченко.
– Хохол?! – радостно спросил Мустафа.
– Та чистокровный! Вжель так нэ видно?
– Конечно, видно. Еще как видно. А книги-то тебе надо, или завхоз послал?
– Та нэ, нэ завхоз. Для сэбе.
– А у меня на хохляцком языке книг нэмае. В СПП состоишь?
– Состою. Кабы ж не состоял, так до быбливотеки не отпустили б.
– По жизни кто?
– Мужик… Нормальный. А шо?
– А шо? – передразнил Мустафа, – а шо? Нет, ты посмотри, бля, – мужик! В СПП состоит! Сам – хохол! По– русски – еле-еле ботает… На заготовку ходишь? А?! – рявкнул он, и тельняшка начала медленно подниматься над столом.
Зашедший книголюб попятился к двери.
– Ну ладно, Марат… я в следующий раз…
– Куда?! Какой следующий раз?! – Мустафа схватил читателя одной рукой за горло, другой дал по печени, под дых. Тот вырвался и бросился бежать.
– Куда?! Стоять! Я тебя еще не записал! Сейчас, блядь, запишу, тогда пойдешь!
После каждого слова он осыпал его ударами по «требухе».
– Ни один хохол еще не вернул книгу в нормальном состоянии! Все хохлы – пидарасы!.. Говори, сука, будешь ходить в библиотеку, а, сэпэпэшное хуйло?! Заготовная крыса! А?! – выкрикивал он, продолжая бить.
– Не-е… Никогда… Марат!.. Никогда больше нэ приду!
– И скажи всем своим хохлам, за то, что книги мне в прошлый раз покоцали, поубиваю козлов, если хоть один еще придет!
Павлюченко вскочил с пола и бросился бежать. Мустафа нагнал его в дверях и что есть силы пнул под зад. Сапоги прогрохотали по коридору, хлопнула центральная дверь клуба, и все стихло.
Я вышел к запыхавшемуся Мустафе. Тот кружил по комнате, как тигр в клетке, приговаривая:
– Что ни хохол – вот такая крыса! Этот этап пришел с Украины. Сразу пол-этапа – в СПП, пол-этапа – в заготовщики. Остальные – в пидорасы. И все – читать! Записались в библиотеку, чтоб по зоне друг к другу в гости ходить. Завхозу говорят, что в библиотеку, а сами, бля, чифирят у кого-нибудь в отряде. Назавтра у другого собираются, мутят что-то свое… Мне завхозы жалуются, так, мол, и так, отрядники недовольны. Хозяин на отрядников наезжает. Дюжев наезжает. Те на завхозов наезжают. В общем, говорят, давай, Мустафа, выписывай их как-нибудь.
Замполиту говорить нельзя – ему чем больше в библиотеке народу записано, тем лучше. Значит, воспитательная работа идет. С одной стороны, замполит – мой прямой начальник, с другой – завхозы просят. Короче, вот такая хуйня.
Он сел за стол. Взял ручку и совершенно спокойным тоном, будто собрался писать письмо любимой мамочке, произнес:
– Та-а-к… Павлюченко… Из библиотеки выписался… добровольно. – Аккуратно вывел что-то напротив фамилии и повел ручкой вниз по списку, бормоча под нос: – Павлюченко… Иванов… Зотов… Анисимов… Тищенко… О, бля, Тищенко! Какой отряд?.. Семнадцатый. Сейчас, подожди еще минуточку, Александр, я шныря за этим пошлю. Надо за неделю библиотеку в порядок привести.
– Мустафа, так у тебя вообще ни одного читающего не останется, хе-хе, – рассмеялся я.
– Это было бы идеально. Для меня идеально – это чтоб в списках были, а сюда вообще не ходили. Никакой головной боли. И книги не покоцаны, и время свободно.
Мои первые впечатления о его библиотекарских качествах полностью подтвердились: чтобы люди перестали читать, не надо прекращать выпускать книги. Надо поставить таких, как Мустафа.
– Ну, а мне-то можно?
– Если хохлов в роду нет, хе-хе…
Он набрал в банку воды и вытащил большой полиэтиленовый мешок с чаем.
– Вообще говоря, книги здесь всякие. Вся классика. Поэзии хватает. Замполит говорит, что у него даже дома таких нет. А эти пидоры, – кивнул он на дверь, – берут почитать, а сами то портачки рисуют, то на самокрутки страницы выдирают. Или вообще теряют. А мне перед Филаретовым отчитываться потом. До меня тут был один мудак библиотекарем, назаписывал кого попало. Когда я заступил, триста с лишним человек числилось. Ну, куда на хуй? Я ревизию провел, посчитал, сколько книг на руках, сколько на полках. Потом, когда стали обратно сдавать, аж ужаснулся – не книги, а дранки какие-то. И самые драные, как ты думаешь, кто сдает? Конечно, хохлы!
– А татары есть? Татарам-то должна быть лафа?
– Не-е. Татары молодцы. Татары вообще не читают! Ха-ха!..
Вода в банке вскипела. Он засыпал чай и вытряхнул из мешка на стол шоколадные конфеты.
– Давай чайку попьем лучше. А то сейчас придет этот… как его… Тищенко, испортит все настроение.
– А сколько человек на сегодня осталось? – в заключение все-таки спросил я.
– Хохлов? Человек сорок… Может, пятьдесят. – Он развернул конфету, откусил и добавил: – Надо их всех актировать. В списках для штаба пусть числятся, а так – на хуй нужны. Список я для себя веду. Филаретов если узнает, что у меня в библиотеке всего двадцать человек, – обомлеет. Заставят ходить по отрядам, агитировать, загонять. А так все ништяк. По списку – триста. А приходят двадцать. Милейшее дело.
В дверь постучали.
– Да-а! Кто там? Входи!
– Марат, звал?
На пороге стоял человек в застегнутой на все пуговицы телогрейке. На нагрудной бирке было написано: «Васильев В.».
– Звал. Как фамилия?
– Тищенко.
– А-а-а! Тищенко! – обрадовался Мустафа. – Вот и Тищенко! А я тут думаю, где потерялся? Значит, Тищенко?
– Так точно.
– А почему на бирке – «Васильев»?
– Та шоб по дороге не чекернули… Завхоз выходить с отряду не дает. Не верит, шо до клуба.
– Хохол?
– Так точно.
– В библиотеке записан?
– Так точно.
– В СПП состоишь?
– Так точно.
– Ты что заладил – «так точно… так точно…»? Отвечай: хохол ты или не хохол?!
– Хохол.
– А я так думаю, что ты не хохол… А чистый пидор!
Мустафа вскочил из-за стола, схватил его, как и предыдущего, за грудки и начал бить по бокам, приговаривая на каждый удар: «Так точно!» Тищенко обмяк и повис на кулаке Мустафы.
– Не-е… не пидор… не пидор…
– Повторяй, гидра, быстро за мной: «Все хохлы, которые не сдали книги, – пидарасы… Так точно! Все хохлы, которые покопали книги, – пидарасы!.. Так точно!» Повторяй, козлопетух!
На каждое «так точно!» Мустафа бил его наотмашь пятерней по темени.
Потом загнал в угол, поднес к самому носу кулак и, выкатив глаза, прорычал:
– Ну что, будешь дальше ходить в библиотеку?!
– Нет… не буду… никогда не буду.
– Книгу принес?! Ну-ка, давай сюда.
Тищенко запустил руку под телогрейку и извлек ее из– за пояса.
– Та-а-к… Сейчас все страницы пролистаю, если, не дай бог, есть хоть одна портачка – будешь повторять сто раз то же самое на одной ноге, вот здесь, прямо в углу! Понял?!
Мустафа начал листать.
– Так… смотрим прямо с первой страницы… Ага!.. Вот на десятой пятно от чифиря! – изо всей силы треснул он Тищенко по башке. – А вот на пятнадцатой!.. А вот, на двадцатой!.. А вот, блядь, вся книга покоцана! Вот! вот! вот! – продолжал бить его по темени Мустафа. – Я тебя научу, суку, книги читать! Вот! вот! вот!
Очередной читатель выломился так же, как и первый. Его нагнал такой же увесистый пинок.
– Ну вот, видишь, Александр, приходится из-за таких козлов нервы портить.
Он сел за стол, придвинул список.
– Та-а-к… Тищенко… Выписался добровольно… Книгу сдал. Какое сегодня число?
– Девятое апреля, кажется.
– Так и запишем. Девятое апреля, тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. Кто у нас там следующий по списку?
В коридоре послышались шаги и голос, напевающий что-то.
– Файзулла пришел. Наверняка чего-нибудь пожрать с биржи притащил, – сказал Мустафа и стал собирать бумаги со стола.
Отворилась дверь, в проеме выросла фигура Файзуллы с карикатурно выпяченным вперед животом и втянутой шеей, всем видом изображающая Дюжева:
– «Всем оставаться на местах!.. Приготовить к добровольной выдаче запрещенные предметы!.. Члены СПП от шмона освобождаются!.. Мустафин – в изолятор!»
Файзулла довольно улыбался и кривлялся.
– Я же говорю, жратву принес, – сказал Мустафа.
Потом повернулся к двери и куражно отчеканил:
– «Осужденный Файзулленко! Вы хотите записаться в библиотеку? Только что освободилось два места. Вам надо срочно заполнить анкету!»
Файзулла достал из-за спины сверток и, врашая им над головой, дразня и кривляясь, стал припевать фразу из известного фильма на башкирский манер.
– Я вам денежки принес… за квартиру за январь… Я вам денежки принес…
Мустафа картинно схватил его за шиворот, будто повторяя на бис два только что исполненных номера, и начал, гримасничая, задавать вопросы, сам же на них отвечая:
– Фамилия? – Файзулленко! Национальность? – Хохол! В СПП состоишь? – Еще с воли! На Дюжева работаешь? – Еще как! Читателем хочешь стать? – О-о-чень!
Он вывернул из рук Файзуллы сверток и, выпихнув его за дверь, крикнул вслед:
– На сегодня – свободен! За книгами будешь приходить с салом!
– У-у-у, крыса ненасытная… – прогудел из-за двери Файзулла. – Пошли ко мне, Александр.
В разгар нашего застолья в дверь резко постучали. Через несколько секунд стук повторился с утроенной силой, и голос из-за двери прокричал:
– Откройте! Сколько раз говорил – не запираться! Файзулла!..
Голос был с явным татарским акцентом, неимоверно громкий и противный.
– Загидов приперся, завклуб, – констатировал Файзулла. – Сейчас начнет гундосить.
– Александр, сиди, не обращай внимания. Он так-то беззлобный – поорет и уйдет, – добавил Мустафа.
Открыли дверь. В комнату впрыгнул среднего роста дедушка, весь в черном, обритый налысо, с фуражкой в руке. Он размахивал ею, помогая себе говорить. Повышая тон, задирал ее над головой. Понижая – опускал ниже пояса.
– Так… Понятно. Конечно же – едят. С завклубом хер поделятся! – то ли серьезно, то ли в шутку начал он, не обращая на меня ни малейшего внимания. – Конечно, Загидов – старый…. Загидову– скоро на волю… Загидов сало не ест… Загидов – татарин. Зачем ему сало!
– Ладно, ладно, Загид-бабай, чего ты разволновался? – хитро похлопал его по плечу Мустафа.
– Файзулла, планшеты для замполита сделал? – перешел на деловой тон Загидов.
– Давно лежат готовые. Никто не приходит забирать.
Не слушая Файзуллу, он пошел вкруговую по комнате,
заглядывая за планшеты, в шкаф, по углам, будто выискивая что-то.
Он отворачивал стоящие вдоль стен рамы, поднимал что-то с пола, заглядывал под тряпки. Причем как-то бессмысленно, автоматически, бросая вещи, лежащие на самом виду – на подоконниках, на верстаке. Даже в стоящее у входа мусорное ведро заглянул так пристально, будто на дне его лежало что-то ценное. При этом приговаривал: