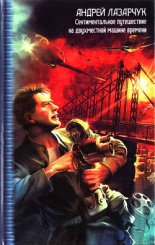Тридцатая любовь Марины Сорокин Владимир

Вытерев потные ладошки о колени, Марина заиграла “К Элизе”.
Бетховен быстро помог успокоиться, и этюд Черни неожиданно для себя она исполнила легко. Незнакомый рояль пел и гремел под ее длинными крепкими пальцами, бабушка улыбалась, Игорь Валентинович кивал в такт головой.
Марина сыграла еще “Баркаролу” из “Времен года” и облегченно повернулась к Игорю Валентиновичу.
Он встал, сунув руки в карманы узких брюк, прошелся и оптимистично кивнул:
– Ну что ж, будем, будем работать. Есть над чем.
Бабушка вопросительно приподнялась с дивана, но бодрым кивком он предупредил ее:
– Все, все в порядке. И пальчики бегут, и звук есть. Стоит, стоит поработать.
Марина стала ездить к нему два раза в неделю – понедельник и четверг отныне окрасились звуками, наполнились слегка душноватым воздухом громадной квартиры и быстрой речью Игоря Валентиновича:
– Милочка, посмотри внимательно…
Придвигаясь к ней поближе, он выпрямляется, словно проглотив подпорку для крышки рояля, плавно поднимает руку и мягко опускает ее на клавиатуру.
Чистый и свободный звук плывет из-под крышки.
– Все не из пальца, а от плеча. От плеча, вот отсюда, здесь он зарождается, – Игорь Валентинович гладит другой рукой свое худое обтянутое кофтой плечо, – зарождается и по руке, по руке стекает к пальцу, а палец полусогнут, эластичен, кисть свободна, локоть тоже.
Марина повторяет, чувствуя, что ее до совсем другое.
– А кисть не проваливается ни в коем случае! – мягко подхватывает он ее руку снизу. – Кисть эластична, но не безвольна. Еще раз…
За месяц он поставил ей руку на всю жизнь, открыв свободу и мощь кистевой пластики.
– Легче, легче… еще легче! – раскачивал он ее, когда она играла бисерный этюд Мошковского, и вскоре пальцы действительно задвигались отдельно от ее тела, побежали легко и свободно.
– Идеальное состояние для таких этюдов – полусон. Тогда вообще полетит, как пух Эола.
Дома на бабушкином разбитом “Августе Ферстере” Марина повторяла тот же этюд, сама покачиваясь на мягком большом стуле.
На втором месяце Игорь Валентинович “впустил ее в Баха”, как написала бабушка матери. Это был бесконечный ввысь и вширь собор, пустынный и торжественный, громадный и совершенный. Марина не знала, что это такое, но прекрасно видела подробную лепку порталов, размытые сумраком пилоны, чередование колонн, недосягаемый свод, пронизанный пыльным солнечным светом.
– Понимаешь, милочка, здесь две Марии, – с настойчивой мягкостью повторял Игорь Валентинович, разглаживая на пюпитре “Хорошо темперированный клавир”, распахнутый на фа-минорной прелюдии-фуге. – Прелюдия – одна Мария, а фуга – совсем другая. Они разные, если не по духу, то по характеру.
Он начинал прелюдию, умышленно замедляя и без того неторопливую перекличку аккордов:
– Это состояние божественной просветленности, ожидание Благовещения, небесная любовь…
Прелюдия текла по своей неземной схеме, Марина слушала, любуясь искусными пальцами Игоря Валентиновича, забывая обо всем.
Прелюдия гасла, он тут же начинал фугу:
– А это земное чувство. Другая Мария. Такая же просветленная, но и реально чувствующая землю под ногами. И любовь – земная, в лучшем смысле этого слова, любовь истинная и полнокровная, бескорыстная и добрая, страстная и обжигающе-тревожащая…
А что потом?
А потом в первое же лето Москва швырнула Марину из Варсонофьевского в родное Подмосковье: пионерский лагерь “Горнист” лежал тремя продолговатыми корпусами на берегу Клязьмы, автобусы остановились возле деревянных распахнутых ворот с транспарантом.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ “ГОРНИСТ”!
Они поселились в девичьем корпусе, где остро пахло краской, а железные с высокими спинками койки стояли так тесно, что на них приходилось запрыгивать с разбега.
В первый же день Марина облилась киселем в просторной столовой, научилась играть в настольный теннис, познакомилась с двумя отличными девчонками – белобрысой Надькой и остроносенькой лупоглазой Верой.
Сосновый бор окружал лагерь, теплая, усыпанная иглами земля мягко прогибалась под ногами, гипсовые пионер-горнист, пионер-футболист, пионер-барабанщик выступали привидениями на темно-зеленом фоне леса.
Надькина койка была рядом.
После отбоя они долго шептались, комкая влажные простыни с казенным клеймом ПИОЛАГ ГОРНИСТ.
Надька рассказывала страшные истории: “Черный лоскут”, “Светящийся череп”, “Голубые руки”. Все это было нестрашно, зато таинственно. Марина с тревогой вглядывалась в темноту, полную сопения спящих девочек, перебивала сонно бормочущую Надю:
– А дальше, Надь?
– А дальше… дальше череп покатился по узенькой дорожке и прямо к их дому. И в окошко – стук, стук, стук. А они – кто там? А он – это ваша служанка Марта. Хозяйка отворила, а он ее раз – и задушил. И по лестнице наверх покатился. А хозяин спрашивает – кто там на лестнице? А череп говорит – это я, твоя жена. И тоже его задушил. А мальчик увидел и побежал на третий этаж, где у них дедушкина шкатулка лежала… вот. А череп за ним, за ним…
Марина слушала, а тьма пульсировала возле глаз, убаюкивала, словно старая знакомая. Надя засыпала первой.
Утром они бежали на зарядку, предварительно навизжавшись и набрызгавшись в умывальной. На площадке возле корпуса их ждали двое – толстая кудрявая баянистка и вожатая Таня. Пухлые руки растягивали меха, на клавишах играло пробившееся сквозь сосновые кроны солнце:
- Ииии раз-два-три!
- Эх, хорошо в стране Советской жить!
- Эх, хорошо страну свою любить!
- Эх, хорошо в стране героем быть!
- Красный галстук с гордостью носить!
Они маршировали на месте – восемьдесят две девчонки, делали наклоны, приседания, прыжки. А перед двумя мальчишескими корпусами то же самое проделывали голоногие мальчишки под баян усатого хромого Виктора Васильевича. Играл он всегда неизменное попурри из сталинских кинофильмов:
- Эй, вратарь, готовься к бою!
- Часовым ты поставлен у ворот!
- Ты представь, что за тобою –
- Полоса пограничная идет!
- Пора в путь-дорогу!
- Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем!
- Над мирным порогом
- Махну серебряным тебе крылом!
- Гремя огнем, сверкая блеском стали,
- Пойдут машины в боевой поход!
- Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
- А Первый Маршал в бой нас поведет!
Завтракали жидкой манной кашей, крутыми яйцами и чаем в граненых стаканах.
Однажды, когда добрая сотня алюминиевых ложек гремела, размешивая желтый кубинский сахар в красном краснодарском чае, Марина, отхлебнув, подняла голову и встретилась с пристальным взглядом старшего пионервожатого, который, примостившись с краю противоположного стола, пил кофе из своего термоса.
Секунду он смотрел все так же пристально, потом молодое, почти мальчишеское лицо его растянулось улыбкой. Подняв шутливо никелированный стаканчик, он кивнул Марине. Ответно улыбнувшись, она попробовала поднять свой стаканище, но чай был горяч, обжег кончики пальцев. Она подула на них, смеясь, а старший грозно нахмурил брови, оттопырил нижнюю челюсть и покачал головой, изображая директора лагеря – угрюмого толстяка, везде появляющегося со своей женой – такой же грузной неприветливой женщиной.
Марина прыснула, узнав объект пародии, но Володя уже спокойно допивал кофе, что-то быстро говоря сидящему рядом Виктору Васильевичу.
Володя…
Он был душой лагеря, этот невысокий спортивный парень. Тогда он казался Марине страшно взрослым, хотя и носил белую тенниску, узкие спортивные брюки и белые баскетбольные кеды. Красный галстук болтался у него на шее, придавая ему мальчишеский вид. Он мог быть строгим и веселым, занудливым и безрассудным, тошнотворно-спокойным и озорным. У него было увлечение – новенький фотоаппарат иностранной марки, который он часто носил с собой. Фотографировал он редко, снимая, как правило, бегущих или играющих пионеров.
Что-то подсказало Марине тогда в столовой, что этот пристальный взгляд, брошенный под музыку алюминиевых ложек, был не случаен.
И скоро пришлось убедиться в этом.
Почему-то он стал чаще оказываться с ней рядом – подходил к теннисному столу и, сунув мускулистые руки под мышки, смотрел, как она играет с Надькой, отпуская острые, как сосновые иголки, словечки:
– Так. Саликова подает, внимание на трибунах.
– Алексеева, Алексеева, мышей не ловишь.
– Саликова, ну что такое? Ты же чемпион дворов и огородов…
– Алексеева, закрой рот, шарик проглотишь.
Сидящие рядом на лавочке ребята смеялись, смеялась и Марина, отбивая цокающий шарик с синим китайским клеймом.
Володя стоял и смотрел, облокотясь на толстенный сосновый ствол. Она заметила, что смотрит он больше на нее, комментируя в основном ее игру. Когда же, уступив ракетку, Марина садилась на лавочку, он присаживался рядом и с серьезно-озабоченным видом тренера давал ей советы, показывая своей смуглой широкой ладонью, как надо гасить, а как – резать:
– Поразмашистей и полегче, Марин. У тебя же вон руки какие длинные.
Он брал ее за запястье, заводил руку вперед и останавливал возле лба:
– Вот. Чтоб сюда проходила. Как пионерский салют.
Марина насмешливо кивала, чувствуя теплую шершавую кожу его крепких пальцев.
Он чем-то нравился ей.
На общелагерной линейке он принимал рапорты командиров отрядов с серьезным и строгим лицом. Ему рапортовали пионервожатые – старшеклассники, приехавшие в “Горнист” на весь летний сезон:
– Товарищ старший пионервожатый, отряд номер три на утреннюю линейку построен. Командир отряда Зубарева.
А он – подтянутый, крепкий – принимал рапорт, уверенно вскинув руку, словно погасив звонкий китайский шарик…
В начале июля была “Зарница”.
Река разделила “синих” и “зеленых” на две противоборствующие армии. Напялив синие и зеленые пилотки, разжигали костры на скорость, натягивали дырявые палатки, кидали гранаты, бежали “партизанскую эстафету”. Директор, затянув свои огузья-оковалки в белый китель с зелеными галифе, пускал ракеты из тупорылой ракетницы.
Марина была медсестрой. Зеленая пилотка плотно сидела на голове, короткие косички с белыми бантиками торчали из-под нее. Сумка с медикаментами висела через плечо, повязка с красным крестом, слишком туго завязанная Ольгой, сжимала предплечье.
Володя командовал “зелеными”, худой бритоголовый командир шестого отряда – “синими”. После однодневной подготовки произошла схватка.
В 8:15 переправились.
В 8:45 вернулась группа разведки, таща на себе “языка” и подвывихнувшего ногу товарища.
В 9:00 вышли на исходный рубеж.
В 9:05 красная ракета зашипела над директорскими кустами, и Володя, подняв стартовый пистолет на шнуре, повел за собой кричащих ура “зеленых”.
Марина по непонятному совпадению или неосознанному порыву бежала рядом, придерживая свою сумку и дивясь обилию росы. Вдруг впереди в кустах захлопала сосновыми досками “полевая артиллерия”, и, крикнув: “Ложись!”, Володя повалился в траву, еще не скошенную колхозными забулдыгами. Марина плюхнулась рядом, доски равномерно, как учили, хлопали, Володя, улыбаясь, крутил головой.
Зеленые пилотки торчали то тут, то там.
– Ба! Алексеева, друг боевой! Ты здесь? – командир заметил ее, приподнявшуюся на руках и разглядывающую противника.
И не дождавшись ответа, сильной рукой схватил ее за плечи, повалил рядом с собой:
– Убьют, ты что!
Его разгоряченное лицо оказалось совсем рядом, тонкие губы смеялись:
– Медсестрам умирать нельзя. Кто перевязывать будет?
Улыбаясь, он еще крепче прижал ее:
– Снаряды рвутся, а ты высунулась. Не боишься?
– Не боюсь, – усмехнулась Марина, снова поднимая голову.
Его ладонь оставалась у нее на шее:
– Рвешься в бой, Мальчиш-Кибальчиш?
Он пригнул ее голову к траве:
– Лоб пулям не подставлять. Выжить – вот наша задача.
Смеясь, Марина пробовала освободиться, но рука старшего пионервожатого была крепкой. Перехватив ее своей, Марина напряглась и вдруг почувствовала его горячие губы в своем ухе:
– Тише, убьют! Тише, убьют! Тише, убьют!
Стало тепло и щекотно.
Еще не ставшая сеном трава густо стояла вокруг, пахло клевером, мятой, душицей и чабрецом; маленький, словно пластмассовый, кузнечик тер ножками крылья, примостившись на стебельке.
– Тише… Ложись… Тише… Ложись…
Шепот был горячий, шершавые пальцы прижимали голову к траве, волна мурашек пробегала от уха по шее и по спине. Притянув ее всю к себе, он непрерывно шептал, поглаживая. Словно в забытьи Марина прикрыла утомленные ранним подъемом глаза, тьма и легкий запах табака от Володиных губ оживили прошлое. Сердце толкнулось к горлу, застучало знакомыми толчками:
– Тук, тук, тук… скрип, скрип, скрип…
Скрипит кровать, мужская спина движется в темноте, букет белых гладиолусов цветет застывшим взрывом…
Треснуло сзади, красная ракета зашипела над их головами.
Быстро отпрянув, Володя вскинул руку с пистолетом:
– Зеленые! Вперед! В атаку! Урааа!!
– Ураааа!!! – замелькали кругом голые коленки и красные галстуки…
А ночью после победного парада Марина натерла свой пирожок так, что утром болезненно морщилась, делая первые шаги – робкие, неуверенные, пугающие, удивляюще-зовущие…
Старший пионервожатый жил в отдельной комнате в мальчишеском корпусе.
Часто, стоя на пороге своего жилья, весело покрикивал на мальчишек:
– Соловьев, ну-ка отдал мяч быстро. И не лезь больше.
Или советовал:
– Ребята! Отнесите эти обручи в третий отряд, что они тут валяются…
У него была своя лодка – синяя с белыми веслами.
И вот однажды:
– Алексеева!
Он стоял на пороге, засучивая рукава бежевой рубашки.
– Что?
– Поди-ка сюда. Не чтокай…
Передав ракетку Рите, Марина подошла.
Не глядя на нее, он аккуратно расправлял закатанные рукава:
– Хочешь на лодке прокатиться?
– Не знаю… – пожала плечами Марина, чувствуя, как краснеют ее щеки.
Нахмурившись, он снял с плеча капельку сосновой смолы, пробормотал:
– Ну что – не знаю… Иди к спуску, жди меня там. Грести тебя научу.
И добавил, кольнув быстрыми зелеными глазами:
– Только не говори никому, а то лодка старая, двоих только выдерживает.
Они плыли по течению, Марина неловко гребла, непослушные весла вырывались из рук, шлепали по воде. Он смеялся, закрываясь от брызг, в его улыбке было что-то беспомощное.
Марина упиралась ногами, откидывалась назад, вытирала забрызганное лицо о локоть и гребла, гребла, гребла, словно стараясь уплыть от этих зеленых глаз и смуглого улыбающегося лица. Но оно все время было рядом, несмотря на то что лагерь, плес, ивы – давно исчезли.
Он попросил подвинуться, сел рядом, положил свои ладони на ее:
– Ну, зачем же так дергать… смотри… и-раз, и-раз, и-раз…
Весла сразу стали ручными, лодка понеслась так быстро, что вода зашелестела под килем.
– Как здорово… – пробормотала Марина, чувствуя необыкновенную легкость, силу и азарт.
– И-раз, и-раз, и-раз… – приговаривал он, и они гребли, наклоняясь и откидываясь, его пальцы крепко прижали Маринины, уключины скрипели, и скрип этот был замечательным, мучительным, сладостным. Лодка неслась, речной подмосковный воздух дышал Марине в затылок, свистел за ушами, шелестел галстуком.
– Как здорово, – снова прошептала она.
– Смотри! Поворачиваем, – пробормотал Володя, поднимая правое весло.
Лодка понеслась правее и с ходу врезалась в камыши…
Он стал целовать ее тут же, как только бросил весла, целовать в шею, в губы, в глаза, а лодка еще ползла по инерции, хрустела камышами. Марина не противилась, а лишь прикрыла глаза, оцепенев. Его губы были горячи, требовательны и умелы, рука, пройдясь по коленям, проворно забралась в трусики.
Он сосал ее мочки, губы, язык, не вынимая руки из трусов, и лавина сладкого оцепенения обрушилась на нее. Опять, как и тогда, в душной избенке старика-пасечника, Марина оказалась на горячих мужских коленях, безжалостно раздвинувших ее стройные ноги. И опять вошло в нее что-то горячее, опять стало больно, муторно, сладко.
Застонав, она открыла глаза.
Его плечо, его щека, его покрасневшая, приросшая к щеке мочка…
Прямо за камышами поднялась чайка и с громким писком закружилась по небу, разглядывая сопряженных мужчину и девочку в пионерских галстуках, белую отмель, труп отца, толпу баб, пишущего участкового.
– У нас тут кладбище аккуратное…
Туфли матери вязли в песке.
Грудь старшего пионервожатого покрывали бесцветные волосы.
Марина рыдала, шершавые пальцы зажимали ей рот.
Прибой дотянулся до пыльного сапога участкового, слизнул с него пыль, заставив заблестеть на только что выглянувшем солнце…
Ее звали Мария. Маша. Машенька.
Волны земной любви… Они исходили от нее, незримые, теплые и упругие, как пенящийся морской прибой.
Первая любовь обрушилась на Марину в пятнадцать, когда необычайно жаркое лето свернуло листву московских тополей, размягчило асфальт, пахнуло печным жаром из раскаленных дворов.
Три месяца назад умер Игорь Валентинович, в Ленинграде родился Маринин брат Николай, в соседнем двухэтажном доме был яростный пожар, сожравший девять квартир, Володька Хомутов уехал с родителями на Кубу, Марина экстерном заканчивала музыкальную школу.
– Будь умницей, с тетей Верой повежливей, не дури, занимайся, дверь запирай, когда уходишь, – бабушка еще раз посмотрелась в свое любимое зеркало, поцеловала Марину в лоб и, сдвинув к локтю надетую на руку сумочку, зацокала к двери.
Узкоплечий, но коренастый племянник дяди Володи поднял перетянутый ремнями зеленый чемодан, подмигнул Марине и, изогнувшись, отставляя руку, двинулся следом.
Отстранив лениво колышащийся тюль, Марина вышла на балкон. Внизу стояла зеленая “Победа”, белобрысый шофер, загнав папиросу в угол хмурого рта, открывал багажник. Появилась бабушкина соломенная шляпка, выплыл скособочившийся Рома. Прищурившись, бабушка помахала Марине:
– На улице осторожней! У Веры допоздна не сиди!
Широко расставив ноги, Рома опустил чемодан в черную дыру, шофер запоздало двинулся помочь ему. Потом все трое исчезли в машине, она заурчала и, раздвинув играющих в расшибец мальчишек, уползла под арку.
Марина вернулась в прохладную комнату, скинула тапочки и босая запрыгала на липком от растопившейся мастики паркете:
– Одна! Одна! Одна!
Ее отражение прыгало в бабушкином трюмо: белое коротенькое платье в синий горошек, вьющиеся каштановые волосы до плеч, худые загорелые руки.
Бабушка уехала на две недели, оставила соседке семьдесят рублей с просьбой “посматривать”.
Марина подбежала к телефону, набрала номер.
– Але? – нараспев протянула Вера.
– Вер! Бабуля уехала.
– Уже?
– Ага.
– Счастливая. Ну че, ты придешь?
– Конечно.
– Приходи пораньше, поможешь торт сделать.
– Какой?
– Ореховый.
– С кремом?
– Обязательно…
– Вер, а кто еще будет?
– Танька, Ольга и ты. Может, Мишка с Олегом зайдут.
– Нормально.
– Приходи… Щас, мам, иду… ну, пока, Марин.
– Пока.
Марина положила трубку, села к инструменту, полистала ноты.
С балкона сквозь тюль текла жара, внизу кричали мальчишки, клавиши пахли нагретой слоновой костью, большие часы, висящие над пианино, громко тикали. Лукавые четверти мазурки были хорошо знакомы, но играть не хотелось.
Разыскав брошенные тапочки, Марина сбегала к соседке.
– Только ты сразу не трать, Мариночка, – нравоучительно склонила голову набок Вероника Евгеньевна, протягивая сложенную пополам десятку. – Кушать у тебя есть что?
– Бабуля на неделю наготовила.
– Держи в холодильнике, а то прокиснет в момент…
– Я знаю, теть Вер.
Марина купила на Петровке три пачки серебристого, покрытого изморозью эскимо, одну съела, запивая ледяной, бьющей в нос газировкой, две другие сунула в пакет с тремястами граммами развесного шоколада и побежала домой.
Сунув шоколад с мороженым в холодильник, пошла в ГУМ, толкаясь в потной толпе, купила Верке пластинку Караклаич, голубую шапочку для купания и капроновые чулки.
Пухлой веснушчатой Вере исполнялось пятнадцать, Марина была на полмесяца старше…
– Мы уже все скомбинировали! – похвалилась Вера, распахивая дверь и с треском вырывая зубами из яблока добрую треть. – Навай… пноходи…
– Прожуй, подавишься, – усмехнулась Марина, перешагивая обитый войлоком порог.
– Угу…
Они прошли в комнату, посреди которой посверкивал стеклом накрытый стол. На кухне что-то громко жарилось, и в чаду мелькала оплывшая фигура Вериной мамы.
– Ух ты, платье милое какое, – проговорила Вера, глотая и слегка кривя смешливые губы. – Софи Лорен прямо…
Марина опустилась на диван, стала распаковывать большой сверток.
Она была в белом, матерью сшитом платье, волосы перехватила белой лентой, слегка напудрилась из фарфоровой пудреницы и подкрасила губы бабушкиной розовой помадой.
– Эт что, мне все? – хихикнула Вера, присаживаясь рядом.
– Тебе. Держи.
Марина сунула ей пластинку.
– Эт кто?
– Караклаич.
– Во, спасибо. Давай заведем…
– И вот еще, погоди…
– Шапочка! У меня нет как раз…
– И вот. Тоже тебе.
– Ну, Маринк, куда мне столько…
– А главное – гляди… закрой глаза…
Вера сморщилась и отвернулась, тряхнув длинной косой.
Марина положила ей на колени небольшой альбом для марок.
– Ой, Марин, спасибо…
– Расти большой, не будь лапшой… в общем, поздравляю…
Марина чмокнула ее в щеку и пошла на кухню:
– Здрасьте, теть Наташ…