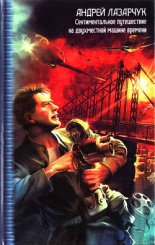Тридцатая любовь Марины Сорокин Владимир

– Ну давай, давай…
Все повернулись к телевизору, сидящие на полу подползли ближе.
Стасик включил видеоприставку, установил кассету.
Заискрил экран, пошли титры.
– А выпить не осталось? – спросил Говно, садясь рядом с Мариной.
Басист показал пустую бутылку.
–Ну ты и алкаш, – усмехнулся Говно, обнимая Марину и кладя ей голову на плечо, – Ой, устамши мы, товарищи артисты.
Стасик похлопал его по колену: – Отдыхай, я пойду чай поставлю.
– Во-во. Давно пора, – буркнул басист, ложась перед телевизором.
А на экране кудрявая Шнайдер в манто и черной широкополой шляпе шла по виадуку мимо неподвижно стоящего, смотрящего в землю Марлона Брандо.
Марина смотрела этот фильм еще лет семь назад, когда его называли «хулиганским» и «порнографическим».
Вот сейчас она обратится к толстой негритянке за ключом от сдаваемой квартиры, и та, передав, схватит ее за руку, истерически смеясь и осыпая вульгарными комплиментами.
– Вы такая миленькая, молоденькая! – выкрикнула плохо освещенная негритянка и Шнайдер вырвала руку.
«А ведь можно было и не вырывать», – подумала Марина.
Рядом на стене висела книжная полка. Она протянула руку, вытащила вручную переплетенный том. Это была «Роза Мира», впервые попавшаяся ей лет в восемнадцать. Марина стала листать книгу.
– Смотри лучше, – толкнул ее Говно. – Смотри, трахаются.
– Я смотрела, – улыбнулась Марина, листая книгу, с трепетом вглядываясь в страницы плохо отпечатанного ксерокса:
«Эта книга начиналась, когда опасность неслыханного бедствия уже нависала над человечеством; когда поколение, едва начавшее оправляться от потрясений Второй мировой войны, с ужасом убеждалось, что над горизонтом уже клубится, сгущаясь, странная мгла – предвестие катастрофы еще более грозной, войны еще более опустошающей…»
Она читала, чувствуя, как снова становится восемнадцатилетней поклонницей Агни-йоги, Сведенборга, Шамбалы, града Китежа, ушедшего под воду, Звенты-Свентаны, Яросвета и Небесной России – сладостной, родной, заставляющей сердце раскрываться пурпурными лепестками Розы Мира:
«Как и остальные затомисы, Небесная Россия, или Святая Россия, связана с географией трехмерного слоя, приблизительно совпадая с географическими очертаниями нашей страны. Некоторым нашим городам соответствуют ее великие средоточия; между ними – области просветленно-прекрасной природы. Крупнейшее из средоточий – Небесный Кремль, надстоящий над Москвой. Нездешним золотом и нездешнею белизною блещут его святилища. А над мета-Петербургом, высоко в облаках того мира, высится грандиозное белое изваяние мчащегося всадника: это не чье-то личное изображение, а эмблема, выражающая направленность метаисторического пути. Общая численность обитателей Небесной России мне не известна, но я знаю, что около полумиллиона просветленных находится теперь в Небесном Кремле. Всюду блистают здесь души церквей, существовавших у нас или таких, которые должны были быть построены. Многие храмы имеют, однако, назначение трудно понятное для нас. Есть святилища для общения с ангелами, с Синклитом Мира, с даймонами, с верховными иерархиями. Несколько великих храмов, предназначенных для встреч с Иисусом Христом, временами сходящем сюда, принимая человекоподобный облик, другие – для встреч с Богородицей. Теперь там воздвигается величайший храм: он предназначен стать обителью того великого женственного Духа, который примет астральную и эфирную плоть от брака Российского Демиурга с идеальной Соборной Душой России.
Лестница дивных, один сквозь другой просвечивающих миров поднимается из алтаря в Храме Женственности, в храмах Христа, в храмах демиурга Яросвета. Лестница поднимается в Небесный Иерусалим и наконец к преддвериям Мировой Сальватэрры…»
Все это было знакомо, любимо, дорого, как дорога юность, первая любовь, первый поцелуй…
«Новые пришельцы являются в Небесной России в особых святилищах, имея при этом облик не младенцев, а уже детей. Состояние вновь прибывших сходно именно с состоянием детства, смена же возрастов заменяется возрастанием просветленности и духовной силы. Нет ни зачатия, ни рождения. Не родители, а восприемники подготавливают условия необходимые для просветленной души, восходящей сюда из Готимны. В обликах некоторых братьев Синклита можно было угадать черты, знакомые нам во времена их жизни в Энрофе. Теперь эти черты светозарны, ослепительны. Они светятся духовной славой, истончены, облегчены. Производимая преображенным телом, их одежда светится сама. Для них невозбранно движение по всем четырем направлениям пространства, оно отдаленно напоминает парение птиц, но превосходит его легкостью, свободой, быстротой. Крыльев нет. Восприятию просветленных доступно множество слоев, нисходящие – чистилища, магмы, страшная Гашшарва. Восходящие – миры Просветления, круги ангелов, даймонов и стихиалей, миры инвольтаций других брамфатур, миры Высших Аспектов Мировых Трансмифов. Они вхожи и в темные шрастры – миры античеловечества, обитатели которых видят их, но бессильны их умертвить. Они входят и в наш Энроф, но люди способны их воспринять только духовным зрением…»
А на экране Брандо нес голую Шнайдер на плече, сажал в раковину, рычал и дурачился.
«Зрение, разрывающее оковы нашего пространства, различает вдали, за сферою российской метакультуры, небесные страны других метакультур, такие же лучезарные, исполненные неповторимого своеобразия. Подготовка в любви и взаимопонимании к творению небесной страны всечеловечества, священной Аримойи, – вот узы, связующие ныне синклиты и грады метакультур. Аримойя лишь недавно начата творением в четырехмерных мирах, а ее историческое отображение на земле будет символом и целью наступающего столетия. Для этого и совершилось низлияние сил Приснодевы-Матери из транскосмических сфер в высшие слои Шаданакара – сил, сосредоточившихся в одной божественной монаде, для этого и созидается в Небесной России небывалый храм, чтобы принять в него Ту, Чье рождение в четырехмерных мирах есть цель и смысл грядущего брака Российского Демиурга и Соборной Души. Исторически же, через осуществление этого великого Женственного Духа в Розе Мира начнется преобразование государственности всех народов в братство всех. В этом Российскому Синклиту помогают и будут помогать синклиты метакультур, а Синклит Мира примет от них и продолжит их труд, чтобы завершить его всемирным богочеловечеством».
Марина закрыла книгу, встала и пошла к выходу.
– Мариш, ты куда? – Стасик взял ее за руку, но она освободилась.
– Мне пора…
– Куда пора? Щас чайку попьем, я за краской съезжу. Потом все трахнемся.
Не отвечая и не оборачиваясь, Марина прошла в коридор.
– Эй, погоди… – Говно приподнялся с пола вразвалку двинулся за ней.
Проворный Стасик, опередив его, снова взял Марину за бледную безвольную руку:
– Ну что с тобой, девочка моя? Давай расслабимся, потремся телами.
– Мне пора. Дай мой плащ…
Говно отстранил Стасика:
– Я обслужу, Стас. Дай нам договориться.
– А чего ты?
– Ничего. Дай мне с девушкой поговорить.
– Пожалуйста, – Стасик по-мусульмански прижал худые руки к груди, – Мариночка, жаль что ты нас бросаешь. Заходи в любое время дня и ночи. Не отвечая, Марина запахнула плащ, открыла дверь и пошла вниз по широкой лестнице с модерновыми перилами.
Говно шел следом.
Когда дверь с грохотом захлопнулась, он обнял Марину за плечи:
– Погоди… давай здесь.
Его бледное лицо с пьяными глазами и красной надписью на лбу надвинулось, горячие губы ткнулись в Маринины.
Отведя назад руку, Марина ударила его с такой силой, что он упал на ступени, а звук оплеухи долго стоял в просторном подъезде.
Окончательно проснулась Марина только во вторник: на часах было без пяти двенадцать, возле батареи посверкивали осколки долетевшей-таки бутылки, одеяло сползло на пол. Голова слегка болела, во рту было противно и сухо.
Марина приняла ванну, напилась кофе и легла отдохнуть.
Сейчас ей казалось, что прошло не три дня, а три часа.
«К двум в ДК», – морщась, подумала она, – «Вчера прогуляла. Ну, ничего. Сашок покроет. Не в первой…»
Сашок – директор ДК Александр Петрович – был давно своим: в свое время Марина помогла ему продать налево казенный рояль.
«Господи… как время бежит. Думала еще денек поваляться. Ну ничего, ничего… а все-таки как тошно… омерзительно. Господи! Ты хоть помоги… Тридцать лет… Как быстро пронеслось. Недавно вроде. Марию в темноте целовала, играла ей…» Вздохнув, она подошла к инструменту, села, открыла крышку.
– Милые мои…
«Сколько времени провела за ними… Все царапинки и трещинки знакомы. Училась. Играла неплохо… Да что говорить – здорово играла. Если б пятый палец не раздробили – была б пианисткой, не хуже других…»
– Ну, что, августейший Август Ферстерович, попробуем?
Руки опустились на клавиши.
Звук показался резким и чужим.
Тринадцатый потек не тринадцатым, а каким-то триста тридцать третьим, чорте каким…
Никогда перекличка аккордов не была такой сухой и черствой, никогда родная мелодия правой не раскручивалась спиралью скуки и пустоты.
Марина с удивлением смотрела на незнакомые руки, так неумело месящие черно-белое тесто.
Она прекратила играть.
– Перепила наверно…
«Чорт знает. Нет, хватит. Так напиваться нельзя. А то совсем в животное превращусь. Да… А с чего я напилась? С тоски? Вроде б и не с тоски… Сашку с Тонькой выгнала? Ну так не в первой ведь. Аааа… конечно. Сон проклятый этот. Двадцать девять девок… Двадцать девять баб и тридцать лет. Постой, постой… Смотри-ка какое совпадение! Интересно. А может это и не баба будет? Мужчина? Парень, наконец. Неужели? Нет, но сон поразительный. Аааа! Так это явно знамение! Но парня… как-то и не хочется… Мужики они и есть мужики. А бабу? Чорт ее знает. Но приснился-то ОН…»
Марина посмотрела на фотографию. Впервые фото не вызывало никаких чувств.
«Лицо как лицо. Да и скажем прямо – очень обыкновенное лицо. Такое и у прола бывает и у сапожника… Человек великий, конечно, но что мне до того. Втюрилась, как дура какая-то в Алена Делона. Идиотка…»
Она подошла к фотографии.
ЕГО глаза смотрели с грустным равнодушием, маленький рот скупо сжался, в развале прядей было что-то коммунальное, двадцатилетней давности…
«Не твори себе кумира. А я сотворила. Нет, книги хорошие, что говорить. Но чего ж я так голову потеряла? Чудачка… Все равно что в Льва Толстого влюбиться…»
Слово «книги» заставило вспомнить все еще лежащий в сумочке Митин подарок.
Марина вытащила книгу, открыла, начала чиать и тут же бросила: слова, причудливо переплетаясь, складывались в замысловатый узор, на который сейчас смотреть не хотелось.
Зазвонил телефон.
Она сняла трубку.
– Мариночка? – спросил осторожный голос Леонида Петровича
–Да…
– Здравствуй.
– Здравствуй.
– Что с тобой?
– Ничего.
– Ты не больна?
– Нет…
– А что такая грустная?
– Я не грустная.
– Марин. Так может съездим вечерком, посидим где-нибудь?
– Не могу.
– Почему?
– Не могу. И не хочу.
–Что с тобой?
– Ничего.
– А хочешь – на дачу поехали?
– Не хочу.
– Марин, ну объясни мне…
– Леня. Я прошу тебя сюда не звонить.
– Как?
– Так! Не звони мне! Я человек, понимаешь?! Человек! А не шлюха подзаборная!
Она бросила трубку и с остервенением выдернула вилку телефонного провода из гнезда:
– Дурак…
«Надоели все, Господи, как они мне надоели! Провались все пропадом! Никому звонить не буду. А приедут – не открою…»
Чувствуя в себе нарастающую тоску, Марина стала собираться.
Выходя из дома, бросила в мусоропровод остатки планчика…
День в ДК прошел мучительно: болела голова, звуки раздражали, ученики тоже.
Она сорвалась на Нину, пугливого Николая выгнала за плохую домашнюю подготовку, Олегу дала ощутимый подзатыльник, после которого он побледнел и, словно улитка, втянул голову в форменный воротник…
К вечеру стало совсем невмоготу: звуки, свет, слова, лица учеников мелькали, лезли в уши, пульсировали в глазах… Спросив анальгина у Риты, она запила его водой из-под крана и еле доволокла ноги до преподавательской.
Там шло оживленное одевание педагогов, только что закончивших уроки:
– Мариш, привет!
– Ты что такая бледная?
– Перетрудилась, Марин?
– Вот, девочки, что значит творчески к работе относиться!
– Ладно, не приставайте к ней… Марин, что, месячные, да? Дать таблетку?
– Да я дала ей уже, отвалите от нее…
– Ну извини, рыбка…
–А ты б дома посидела, Марин…
Она устало отмахнулась, опускаясь на стул. Женщины веселой гурьбой направились к двери:
– Ну, пока.
– Поправляйся, Марин!
– До свидания…
– До скорого!
– Всего…
Хлопнула дверь, их голоса стали удаляться.
Радуясь наступившей тишине, Марина облегченно вздохнула, потерла пылающие виски ладонями.
Дверь противно заскрипела, впуская кого-то.
«Штоб вы сдохли…» – поморщилась Марина, сжимая зубы.
– Марина Ивановна, добрый вечер! – пророкотал торопливый басок директора.
Его голос показался Марине слишком официальным.
Она подняла голову.
Перед ней стояли трое: улыбающийся круглолицый директор, притихшая девочка лет семи и… Господи, надо же, с ума сойти. Удивительно… Забыв про головную боль, она встала:
– Здравствуйте.
– Вот, Сергей Николаич, это наш лучший педагог Марина Ивановна Алексеева.
– Ну, Александр Петрович, это нескромно, – пробормотала она, разглядывая незнакомца, – «Удивительно».
Директор качнул свое приземистое тело, взмахнул короткопалой ладошкой:
– А это вот, Марин Иванна, новый секретарь парткома нашего завода – Сергей Николаевич Румянцев. И дочка его Танечка. – Очень приятно, – проговорила Марина, все более и более поражаясь сходству. «Да. Вот таким ОН приехал из ссылки тридцать лет назад…»
– Нам тоже очень приятно, – проговорил Сергей Николаевич и наклонился к девочке, – Что ж ты не здороваешься, Таня?
– Здрасьте… – буркнула та, глядя в зашарканный пол.
Директор с ложной оживленностью замахал руками:
– Марин Иванна, вот Танечка хочет заниматься музыкой, девочка способная, а до осени ждать не хочется, я думаю, я все прикидывал тут: или Вас попросить взять, или Королеву. Но у Королевой и так – тринадцать, так может к вам в класс запишем?
– А главное – рядом живем совсем – в двух шагах, – улыбнулся Сергей Николаич, разглядывая Марину.
– Ну конечно возьму, о чем разговор, – ответ но улыбнулась она, – Пусть завтра приходит.
– Вот и замечательно, Сергей Николаич, тогда я побегу, мне на репетицию лететь надо…
– Конечно, конечно, о чем речь…
– Марина Ивановна замечательный работник, она у нас лет семь уже, семь, Мариночка?
– Шесть.
– Вот. Шесть… Ну, я побежал, вы тут обговорите все… До свидания…
– До свидания.
Некоторое время трое оставшихся молча рассматривали друг друга.
– У вас есть инструмент? – первой нарушила тишину Марина.
– Да. Полгода назад купили, – благожелательно качнулась его голова, – Мы ведь раньше в Орехово-Борисово жили, а здесь только-только въехали.
– А… это в заводской дом, рядом который?
– Да. Шестнадцатиэтажный…
У него были зеленовато-серые глаза, широкий, слегка морщинистый лоб, маленький подбородок с упрямой ямочкой, улыбчивый рот и развал прядей, все тот же развал прядей…
– Это хорошо. И завод рядом, и ДК.
– Да. Мы сначала в музыкальную устроиться хотели, мне предлагали, но потом передумали – далековато. А здесь – в двух шагах…
Сам – широкоплечий, среднего роста. Руки крепкие, большие. Жестикулирует ими. «Господи… а галстук какой смешной…»
– Правильно. У нас народу поменьше, комнаты просторные.
– Я уже заметил.
«Нельзя быть до такой степени похожим. Как его с работы не выгнали!»
Марина улыбнулась.
Он непонимающе заморгал светленькими ресницами и тоже улыбнулся.
– Таня в какую смену учится?
– В первую. Как первоклашке и положено.
– Тогда пусть приходит к… четырем. Да. К четырем. Договорились?
Наклонившись к девочке, Марина взяла ее руку.
Девочка кивнула и снова уставилась в пол.
– Танюш, ну чего ты надулась, как мышка? – в свою очередь наклонился отец и Марина успела заметить как натер ему шею тугой ворот белой рубашки.
– Я не надулась, – тихо и отчетливо проговорила девочка.
– Хочешь заниматься музыкой? – спросила Марина, чувствуя на себе взгляд близких серо-зеленых глаз.
– Хочу…
– Придешь завтра?
– Приду.
– Ну вот и отлично… Пусть приходит. А сейчас, вы извините, мне пора.
– Да мы тоже… Вы далеко живете?
– Очень! – устало рассмеялась Марина, отводя от лица непослушную прядь.
Улыбаясь, он смотрел на нее:
– Что, в области?
– Почти. В Беляево.
– Да. Далековато.
– Ничего. Я привыкла.
На улице шли молча.
Сергей Николаич вел за руку Таню, украдкой посматривая на Марину.
Он был в длинном и широком демисезонном пальто, из-за красного шарфа выглядывал все тот же полосатый галстук.
Марина, не обращая на них внимания, шла, сунув руки в карманы плаща, с трудом переставляя уставшие, свинцом налитые ноги.
Головная боль вернулась, немного мутило и хотелось пить.
Вскоре поравнялись с белой башней шестнадцатиэтажного дома, непонятно как втиснувшегося меж двумя серыми сталинскими крепостями.
– А вот и наш утес, – остановился Сергей Николаич.
– Аааа… понятно… – равнодушно посмотрела Марина и вздохнула.
– Пап, ну я пойду, – решительно освободила руку Таня.
– Иди, иди…
Она побежала к подъезду и скрылась в нем.
– Не заблудится? – спросила Марина.
– Да нет. Мы на третьем живем. Высоко решили не забираться, – пробормотал он, доставая из кармана пальто большой скомканный платок.
– Трехкомнатная?
– Да; – он украдкой вытер нос.
– А вас трое?
– Четверо. Мама еще моя…
Марина кивнула.
Сумерки сплавили дома в сероватую груду, кое-где скрашенную огоньками горящих окон. Сергей Николаич убрал платок.
– Сейчас, как прибежит, так сразу за пианино: бабушка, сыграй вальс. А бабушка сыграет…
– А бабушка сыграет… – тихо проговорила Марина, рассеянно глядя под ноги.
– Балует ее, – вздохнул он, доставая папиросы, – Добрая до предела.
– Добрая до предела, – снова повторила Марина и медленно побрела прочь. Спазм сжал ей горло, губы задрожали и слезы полились по щекам.
Они показались очень холодными, холоднее непрочного, потрескивающего под ногами ледка.
Прижав ладони к лицу, Марина заплакала, ее плечи задрожали.
Сзади подбежал Сергей Николаич:
– Что, что такое? Что с вами?