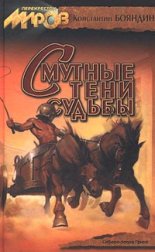Ночные тайны королев Бенцони Жюльетта
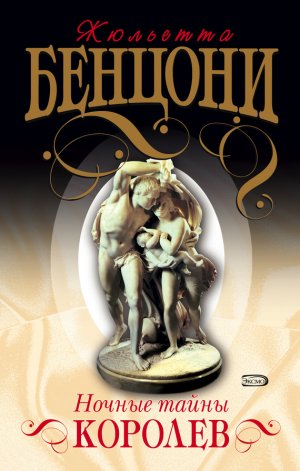
– Я умираю королевой и не сожалею ни о чем! Боже, прими мою душу! А вы молитесь за меня…
Потом она положила голову на плаху, и палач одним ударом отсек ее…
Через несколько минут в лужу крови, оставшуюся на эшафоте после Кэтрин, встала коленями леди Рошфор. Тело ее госпожи уже унесли, чтобы похоронить рядом с первой жертвой Генриха VIII – ее кузиной Анной Болейн.
8. Маргарита Наваррская
Когда маленькому королю Людовику XIII говорили, что к нему пришла его тетушка, он не скрывал своей радости и стремглав мчался к двери. Объяснить мальчику, что государь должен ходить чинно и медленно и уж ни в коем случае не встречать посетителей на самом пороге, было некому, ибо Мария Медичи, мать короля, не желала, чтобы в его покоях «толпилось слишком много никому не нужной челяди». После смерти отца, Генриха IV, ребенок стал угрюмым и замкнутым, но матери-королеве, которую собственный сын несказанно раздражал, не приходило в голову приласкать его, прижать к сердцу, выслушать детские сетования и жалобы. Вот почему не избалованный вниманием ребенок всегда ластился к той, что называла себя его теткой, хотя на самом деле таковой вовсе не являлась.
У доброй королевы Маргариты, первой жены Генриха IV, было двое собственных детей, но судьба распорядилась так, что воспитывались они вдали от матери и были ей совершенно чужими. Когда же Маргарите исполнилось пятьдесят лет, у ее прежнего мужа появился наследник. Она с жадностью ловила слухи о том, как привязан король Генрих к мальчику и как плохо обращается с малышом собственная мать. Потом Генрих привез дофина в особняк Маргариты и сказал, смеясь:
– Вот, Луи, это моя сестра. Красивая, правда?
Пятилетний малыш серьезно посмотрел на покрытое белилами лицо той, что показалась ему глубокой старухой, и ответил задумчиво:
– Она похожа на вас, отец, а вы – самый красивый человек на свете.
Генрих и Маргарита переглянулись и засмеялись – счастливые, как когда-то.
С тех пор Людовик всегда обращался к ней именно так: тетушка. И на всю жизнь он сохранил глубокую признательность к женщине, что пожалела и приласкала его в самые трудные и безрадостные дни его детства. Когда кто-нибудь в присутствии Людовика позволял себе отзываться о Маргарите непочтительно, король холодно говорил:
– Не стоит, сударь, давать себе труд потешаться над мертвыми. Она была доброй католичкой, и я не желаю слушать наветы на ту, которую любил и уважал мой отец.
Придворные прятали усмешки, не желая заслужить монаршую немилость. Они не сомневались, что Людовику известны все похождения «тетушки», но король имел право на каприз и на собственное мнение о той, которая вошла в историю не только как «жемчужина дома Валуа», но и – прежде всего – как «королева Марго».
– Марго, ты такая толстушка! Аппетитная, точно булочка! – сказал как-то Карл IX своей младшей сестре и ущипнул ее за подбородок. Девочке стало больно, но она знала, что братец Карл – король Франции и потому ему все позволено. Ей было десять лет, а брату уже исполнилось тринадцать, и Маргарита втайне завидовала ему – не тому, что он король, тут, она полагала, завидовать было нечему, ведь матушка забирала у Карла все игрушки и не позволяла ему качаться на качелях, потому что королю это не пристало, – а его умению говорить как взрослый и не смеяться, когда смешно. Но Марго не хотелось беспрекословно признавать его главенство, и потому она возразила упрямо:
– Я вовсе не такая уж толстая. У тебя живот большой… и ты косишь.
– Ну и что? – ответил Карл. – Во-первых, это почти незаметно, а во-вторых, матушка говорит, что… – Мальчик задумался, припоминая точные слова королевы. – Что государь выглядит величественно, когда не смотрит прямо в глаза своим подданным, вот! – выпалил он торжествующе. – А из-за своих толстых ног ты не огорчайся, многим мужчинам такие нравятся… мне, к примеру.
И юный король как-то по-новому, оценивающе взглянул на сестру и ушел. После этого случая Марго долго разглядывала себя в зеркале, задирала пышные многослойные юбки, чтобы получше рассмотреть свои беленькие и еще по-детски пухлые ножки, – а потом написала стихи о любви. Она всегда поверяла пергаменту свои сокровенные мысли с тех самых пор, как научилась владеть пером. Ее мать, Екатерина Медичи, была женщиной не очень умной, но при этом хитрой и расчетливой. Она умела считать деньги и рассчитывать каждый свой шаг. Как и любому из смертных, ей не дано было предвидеть будущее (хотя она много раз пыталась приподнять таинственную завесу времени с помощью весьма привечаемых ею астрологов и магов), и потому королева на всякий случай готовила к восшествию на престол сразу всех своих четверых сыновей, а не только старшего, и учила Марго всему, что только могла вместить неглупая девичья головка. Принцесса прекрасно музицировала, неплохо пела и складывала вирши, которые мало чем уступали стихам Ронсара или Маро, бывшего любимым поэтом при дворе Франциска I.
Вдобавок Маргарита де Валуа владела греческим и латынью, замечательно фехтовала и по-мужски ездила на лошади.
Но потомки не помнят ее стихов и слышат в имени «Марго» только намек на легкомыслие принцессы. Между тем вся вина Маргариты заключалась лишь в том, что она была необычайно красива и с детства знала об этом. Кокетство – не самый большой грех, а уж когда ты растешь при французском дворе, где фривольность просто разлита в воздухе и где не иметь официального любовника считается почти преступлением, то что же тебе остается, как не кокетничать и не расточать улыбки и нежные взгляды многим и многим… в том числе и родным братьям?
– Ты собираешься в этом отправляться на бал?
Генрих Анжуйский брезгливо коснулся пальцем розового платья, разложенного на креслах. Маргарита неспешно подошла к брату и, потуже завязывая тесемки нижней рубашки, проговорила лениво:
– Ты опять недоволен, братец? Опять учишь меня одеваться? Мне уже четырнадцать, и во многом я разбираюсь куда лучше твоего. Вот если бы дело касалось мужских нарядов, тогда я, пожалуй, прислушалась бы к твоим советам…
Заметив насмешливый огонек, промелькнувший в глазах Марго, Анжу немедленно вспылил. Ему не нравилось, когда кто-нибудь намекал на его многочисленных наложников.
Камеристка Маргариты молча переводила взгляд с герцога на госпожу и обратно. Ей уже приходилось становиться свидетельницей таких стычек, и всякий раз она удивлялась тому, что брат и сестра ведут себя подобно любовникам. Ссорятся громко и отчаянно, ходят друг перед другом полураздетые, а потом непременно мирятся и долго и жадно целуются.
Вот и сейчас Генрих возвысил голос почти до визга:
– Распутница! Как ты смеешь издеваться надо мной?! Я старше тебя, я могу стать королем, и, значит, мне все разрешено! И я веду себя пристойнее, чем ты, во всяком случае, не расхаживаю по Лувру в обнимку с теми, с кем делю ложе!
Марго отвернулась и пробормотала еле слышно:
– Вот ведь сплетники! Ничего скрыть нельзя!
– Ага, – торжествовал Анжу, – так это правда? Ты действительно обнимала этого Шарена прямо в оконной нише?
– О господи, нет, конечно, – отозвалась Марго. – Мы прогуливались по галерее, и он рассказывал мне об одном латинском трактате… Мы заспорили… не сошлись в толковании стиха… и в пылу спора остановились возле окна. Вот и все.
– Но он же привлек тебя к себе!
– Ничего подобного! – защищалась принцесса. – Я пошатнулась, и он подхватил меня. А что, мы разве живем в Испании, где за прикосновение к монаршему телу полагается смертная казнь?
Генрих против воли улыбнулся, представив, скольких дворян лишилась бы в одночасье Франция, если бы такой закон был введен.
Марго, заметившая его улыбку, обрадовалась. История с Шареном ей была неприятна. Этот молодой человек нравился ей, но не более того. Очень глупо получилось, что именно из-за него, возможно, предстоит выслушать укоры матери или же короля.
Екатерина и Карл (сам, кстати, многому научивший сестру) и впрямь решительно не одобряли любовных приключений Маргариты, потому что опасались за ее реноме при европейских дворах.
– Учись скрывать движения сердца, – не раз говаривала ей мать, которая, сама будучи отменной лицемеркой, не могла понять, как это Марго искренне радуется при виде своего очередного воздыхателя. Поначалу, когда дочка была мала, Екатерина надеялась справиться с ее темпераментом с помощью различных травяных настоек – щавелевой или же барбарисовой. Но позже девушка попросту отказалась пить их… или же они перестали действовать.
…Генрих поворчал еще немного для виду, а потом, сменив тон, спросил:
– Марго, помнишь, как ты когда-то соглашалась примерить драгоценности, и парики, и платья, которые я приносил тебе?
– Помню, – кивнула девушка, – но ведь я тогда была совсем дитя. Теперь все изменилось…
Брат сразу опечалился.
– Я думал, тебе приятны эти воспоминания, – проговорил он негромко. – Я думал, ты не забыла мою Мари.
Мария Клевская была той единственной женщиной, которую любил Генрих. Но она умерла, и после ее смерти герцог твердо решил обратить свой взор в сторону мужчин. (Впрочем, он не всегда выполнял данное себе обещание – во всяком случае, при дворе ходили неясные слухи о его связи то с одной, то с другой дамой; никто, однако, не утверждал, что Анжу надолго дарил кому-нибудь свое сердце.)
– Я помню Мари, – ответила принцесса. – И мне нравилось, что ты примеряешь на меня уборы, которые потом преподносишь ей. Ты научил меня разбираться в драгоценных камнях, переливчатых тканях и пышных париках. Но я выросла, братец! – При этих словах принцесса заглянула в глаза Генриху и прикоснулась губами к его щеке. – Пожалуйста, не истязай меня замечаниями! Вы все так строги со мной и не желаете понять, что мне тоже хочется попробовать те плоды, которые давно уже срываешь ты и другие братья.
Генрих засмеялся.
– Смотри, как бы у тебя живот не разболелся, девочка моя! Разве мало ты перепробовала этих самых плодов? Может, хватит?
– У меня еще ни разу не было несварения! – заявила шутница, и герцог нежно обнял ее со словами:
– Ну, что с тобою поделаешь, Марго? Ладно, поступай как знаешь.
– Спасибо, братец, – присела в реверансе Маргарита и спросила не поднимаясь: – Не скажешь про Шарена королю? И матушке тоже?
– Не скажу, не скажу. – Генрих подхватил сестру и в свою очередь осведомился у нее: – Неужели ты не велишь переделать лиф вот у этого безобразия? – И он ткнул в сторону розового платья.
– Хорошо, – охотно согласилась Марго. – Белошвейки успеют, у них еще два дня есть. Вышивки тут и правда маловато…
Но не всегда ее беседы с братом заканчивались столь мирно. Однажды Генрих так рассердился на сестру, что прямо от нее направился к Карлу и выложил все (вернее – почти все), что знал о последних похождениях Марго.
– Оставь, Анжу, мне неинтересно, ей-богу! – Король потянулся было, закинув руки за голову, но тут же болезненно охнул. – Этот конь – настоящий дьявол. Слыхал, что вчера со мною приключилось?
– Весь Лувр гудит, точно растревоженный улей, – отозвался Генрих и спросил участливо: – Что болит? Только плечо?
– Ах, если бы! – Король взялся за серебряный свисток, что висел на цепочке у него на груди, и свистнул. Явился паж. Ловко преклонил у двери колено, вскочил, замер в ожидании.
– Вот что, Мерже… – начал Карл и внезапно остановился, внимательно пригляделся к мальчику. – Не был ли ты случаем вчера на охоте? Что-то мне знакомо это лиловое перо… – И король указал на берет, который паж сжимал в руке.
Мерже потупился и опять встал на колени.
– Сир, я… я… – забормотал он. – Моя лошадь никогда прежде не слыхала звуков рога, вот и понесла…
– Не понимаю. – Генрих Анжуйский подошел к пажу и спросил отрывисто: – Так это вы виновны в падении Его Величества? Да или нет? Отвечайте!
Подросток побледнел и кивнул.
– А не было ли это покушением? – продолжал безжалостный герцог, глядя сверху вниз на несчастного, который, казалось, готов был лишиться чувств. Еще бы! Намек на Гревскую площадь, где находили свою смерть государственные преступники, любое сердце заставит трепетать от страха, а следующие слова Генриха были таковы:
– Вызнать под пыткой имена сообщников и казнить всех. Обезглавить… нет, лучше четвертовать… Сир, вам что доставит большее удовольствие? – обернулся он к Карлу.
– Уймись, братец, – засмеялся король, – да уймись же! Мальчик не понимает твоих шуток. Ну, успокой его, а я пока расскажу тебе, как было дело.
Генрих, улыбаясь, склонился над Мерже и потрепал его по плечу.
– Государь прощает вас, – сообщил он. – И я тоже. Однако впредь выбирайте лошадь понадежнее. Ну же, поднимайтесь!
Встав, юный паж подбежал к королю и припал к его руке. Карл, умевший быть и величественным, и великодушным, сказал ласково:
– Ты вел себя неосмотрительно, но ты не преступник и заслужил прощение. Однако же объясни, куда ты подевался так внезапно? Почему не помог мне подняться? – И, не дожидаясь ответа, обернулся к брату: – Представь себе, я вчера впервые сел на Баярда и решил проверить, так ли он хорош, как твердил де Сен-Фуа, который мне его подарил. Пустил его с места в галоп да еще и пришпорил. Ну, он и помчался! Егеря отстали, вся охота сзади скачет – никак не догонит, а я и рад бы остановиться, но не могу. Забрались в какое-то болото. Баярд вроде успокоился немного, я его к сухому месту направил – и тут откуда ни возьмись выскакивает всадник на каурой кобылке, которая с размаху налетает на Баярда. А он-то только и успел, что передние копыта на островок поставить. В общем, он упал, я тоже, а незнакомец, чьего лица я не успел разглядеть, а лишь перо приметил, скрывается вдали с неясным криком на устах. Что ты кричал, повтори!
– Я кричал: «Простите, государь, она понесла!» – признался красный от смущения паж.
– И далеко ли она тебя завезла? – смеясь, осведомился Карл.
– Да, сир, очень далеко. Я вернулся только под утро и сразу отправился на дежурство в прихожую Вашего Величества. Я хотел повиниться, право слово, хотел, но тут…
– Счастье, что я себе ничего не повредил. Так, расшибся немного. Плечо побаливает, и рука тоже… – Последние слова Карл, разумеется, адресовал не мальчишке-слуге, на которого он уже не обращал внимания, а брату. – Едва успел отряхнуть грязь, как меня нашли и доставили в Лувр. Все так всполошились, точно моей жизни и впрямь угрожал убийца. А я совсем не испугался. Как ты думаешь, Анжу, это страшно, когда тебя пытаются убить?
Генрих поглядел на короля.
– Не знаю, – пробормотал он, – и не хочу задумываться. (Спустя много лет, в 1589 году, Генрих Анжуйский, ставший к тому времени Генрихом III Французским, падет от кинжала фанатика-монаха. Убийцу даже не казнят, а просто растерзают на месте.) Можно отпустить пажа? – переменил он разговор, который был ему отчего-то неприятен.
– Погоди, я же не сказал ему того, что хотел. Пускай сюда явится тот конюх, которому поручен Баярд. Не сейчас, после обеда. Ступай.
И Карл повернулся к брату. Мерже больше не занимал его. Король удовлетворился его объяснениями, а что до вчерашнего приключения, то оно даже доставило ему некоторую радость. Опасности никакой, а разнообразие в жизнь внесло.
– Так что ты, братец, толковал о нашей Марго?
– Ты еще помнишь? – удивился Генрих. – А я-то думал, после истории с этим мальчишкой ты и слушать не захочешь о нашей обожаемой сестрице!
– Я же король, – серьезно ответил Карл. – Я не смею рассуждать только о собственном падении с лошади и не держать в голове другие заботы… государственные, я полагаю? Ведь вряд ли ты с таким пылом убеждал бы меня образумить Марго, если бы не считал ее альковные похождения делом государственным.
– Именно так, сир, – в тон собеседнику ответил герцог. – Вы король и, значит, можете внушить сестрице, что она – не только смазливая девица, но еще и принцесса.
– Хочешь вина? – Карл налил из хрустального графина, стоявшего на блюде со льдом, белого вина и протянул кубок Генриху. – Оно славное, только нынче утром бочонок открыли…
Анжу принял бокал из рук короля, отметив про себя: «Не хочет все же Шарль беседу прерывать, слуги не позвал, сам вино налил. Ведь при свидетелях я бы говорить не стал, а там и обед. Глядишь, и не подходил бы я к нему больше, не терзал историями о Марго…» А вслух сказал:
– Нам обоим не по душе то, что вытворяет Маргарита, но прежде я готов был закрывать глаза на ее… м-м, скажем, увлечения. Теперь же…
– Ты забыл, Генрих, что назвал мне уже сегодня нескольких ее кавалеров? – спросил король с недоумением. – Антраг, Мартиг… кто там еще? Ничего серьезного, короткие, хотя и весьма бурные романы.
– Верно, – кивнул Генрих. – Но я узнал, что вот уже почти месяц наша любимая малышка дарит себя Гизу…
– Что? – изумленно вскинул брови Карл. – Но я сам видел их обоих намедни в церкви. Все благопристойно, короткий поклон, вежливый кивок в ответ… Могло показаться, что они вовсе не знают друг друга.
– Карл, поверь, я не стал бы возводить напраслину на сестру. Эта парочка вытворяет черт знает что! Ты знаешь, где она принимает его?
– Нет, – ответил король, о чем-то сосредоточенно размышляя.
– В собственной опочивальне! И дважды – я это знаю доподлинно – их заставала кастелянша. Гиз ласкал Марго прямо на корзине с несвежим бельем.
– Что ты говоришь?! – изумился Карл. – Но ты не ошибаешься? Это действительно был Гиз?
– Да нет же, не ошибаюсь. Ты понимаешь, чем это пахнет? Ты понимаешь, во что он может втянуть ее… если еще не втянул?..
– Это государственная измена! – внезапно заявил король и, вскочив, забегал по кабинету, отшвыривая с дороги стулья и табуреты. – Гиз добивается трона и наверняка подговорит Марго убить меня!
Глаза короля неестественно блестели, волосы, в которые он несколько раз запускал руку, взлохматились, рот кривился. Генрих с опаской глядел на него. Он знал, что здоровье у Карла было слабое, что его часто мучила одышка и донимали головокружения. Герцогу вовсе не хотелось, чтобы Екатерина потом обвинила его в том, что он довел царственного брата до удара.
– Успокойся, Шарль, – проговорил Анжу негромко. – Матушка подскажет нам, как наказать эту дурную девчонку.
– Да-да, конечно! – обрадовался Карл. – Пойдем сейчас же к ней и позовем туда Марго. Уж мать ей задаст!
…И действительно, сцена вышла безобразная. Семнадцатилетняя Марго получила немало пощечин от матери и братьев. Она металась по покоям королевы и кричала:
– Не трогайте меня! О мое платье! О мой парик! Оставьте! Почему мне не позволено любить кого я хочу?!
А Карл гонялся за ней по комнатам, бестолково махал руками и почти подвывал:
– Ты хочешь отравить меня! Ты на все готова ради своего Гиза! Я тебя в монастырь упрячу! Замуж за самого захудалого дворянчика выдам!..
В конце концов все утихомирились. Карл, отдуваясь, сел, вернее, почти упал на неширокую оттоманку, Генрих подошел к зеркалу и начал поправлять помятые брыжи, а Екатерина, подозвав к себе заплаканную дочь, стала аккуратно накладывать на ее красное от недавно пролитых слез лицо толстый слой белил.
– Я ведь уже запирала тебя, развратница, – ворчала при этом королева – вполне, впрочем, добродушно. – Ты целых десять дней не покидала своих покоев, когда я узнала об этом Гизе! И ты обещала мне больше не встречаться с ним. Обещала, помнишь?
– Помню, – капризно протянула Маргарита. – А вы, матушка, помните, что тогда со мною сталось? У меня началась лихорадка, и я чуть не умерла. Это все от разлуки с Генрихом. О господи, он так красив!
– Ну, предположим, до смерти тебе было далеко. Мэтр Паре сказал, что у тебя было что-то вроде сенной лихорадки… Ничего опасного, даже кровь пускать не пришлось. А что до Гиза, то я признаю – он очень хорош собой. Но ты не должна забывать, что он – враг нашей семьи. В чем-то он даже хуже протестантов – те по крайней мере не хитрят и не льстят.
– Да ну, матушка, – воскликнула Марго, к которой вернулось ее всегдашнее присутствие духа, – скажете тоже! Генрих ни в какое сравнение не идет с каким-нибудь там…
– …тоже Генрихом! – закончила за нее мать и сурово посмотрела на провинившуюся. – Я еще не говорила тебе о том, что надумала, так как время пока не подошло, но скоро ты все узнаешь. Ладно, ступай читать свои латинские книжки и помни о полученном сегодня уроке.
Маргарита молча выплыла из материнских покоев. Она твердо решила не расставаться с герцогом Гизом, который – хотя и был главой католической партии и действительно не скрывал намерения занять французский престол – вот уже несколько недель безраздельно владел ее сердцем.
Однако же через два дня ей совершенно случайно стало известно, что король, поразмыслив, захотел-таки навсегда обезопасить себя от происков юного красавца герцога. Он призвал своего сводного брата Ангулема и вручил ему две шпаги, сказав при этом:
– Одна – для Лотарингца (так называли Генриха Гиза, герцога Лотарингского), вторая – для вас, если вам не удастся умертвить его.
Марго сумела спасти любовника, продержав его в своей комнате всю ночь, до самого рассвета. По коридорам Лувра гуляли сквозняки и… убийцы. Ангулем и его сообщники, закутавшись в плащи и громко чихая, упорно поджидали жертву, но к утру они поняли, что им грозит кашель и ломота в костях, и нехотя удалились. Карл простил своего сводного братца и даже изволил посмеяться над его красным распухшим носом. Однако же Маргарита, опасаясь, что король может расправиться с Генрихом, убедила последнего жениться на Екатерине Клевской, носилки которой в прошлом году то и дело появлялись возле ворот дворца Гиза.
– Поймите же, – говорила Марго любовнику, который не соглашался так скоропалительно идти под венец, – Карл ревнует меня к вам! Я же рассказывала, что… – тут Маргарита помолчала, а потом медленно продолжила: —…что я многому научилась у него. И он до сих пор любит меня, ибо я выказала себя весьма прилежной ученицей.
– Но как же так? – изумился Генрих. – Ведь я, принцесса, был отнюдь не первым, кто посетил ваш лабиринт! Отчего же король пожелал убить именно меня?
– Да оттого, – с досадой отвечала Марго, – что все мои прежние любовники не были и вполовину так дороги мне, как вы! Неужто вы думаете, что мне безразлична судьба нашей семьи? Неужто полагаете, что я не догадываюсь о тайных мыслях, которые владеют вами, когда вы обнимаете меня и шепчете всяческий милый вздор? Я знаю, вы хотите занять место Карла и стать королем, и я не должна была бы допускать такой близости между нами. Но что же делать, если мое естество требует вас и меня влечет к вам, как реку влечет к морю?!
Обиженный этими речами герцог откланялся – и очень скоро стал мужем хорошенькой Екатерины Клевской.
В 1572 году королева Екатерина написала Жанне д'Альбре, вдове короля Наварры Антуана Бурбонского и матери принца Генриха Наваррского, доброжелательное письмо.
«Приезжайте в Париж, – гласило это послание. – Нашим семьям нужно как можно теснее породниться, потому что иначе Франции угрожает гражданская война, а ни Вы, ни я этого не желаем. Я знаю, что Вам наговорили про меня много небылиц, но я надеюсь при личной встрече доказать Вам, что маленьких детей не ем и что дым у меня изо рта не идет».
Жанна, которую уже предупредили о желании венценосной флорентийки выдать принцессу Маргариту за Генриха, согласилась посетить Лувр. Она была неглупой женщиной и хорошей государыней, но отличалась крайней подозрительностью и ханжеством. Убежденная протестантка, Жанна опасалась за нравственность своего мальчика (которому уже, между прочим, сравнялось двадцать и который сызмальства питал пристрастие к женскому полу) и потому потребовала, чтобы Маргарита отреклась от католичества и перестала красить лицо и носить платья с декольте.
Если бы речь шла только о перемене веры, то Марго бы еще подумала, но необходимость отказаться от белил, притирок, румян, благовоний и глубоких вырезов привела ее в ужас.
– Матушка, – сказала она Екатерине, которая каждый вечер кратко излагала дочери, как продвигаются переговоры о замужестве, – я понимаю, что моя свадьба – дело решенное. И вы, и братец Карл доказали мне, что Наваррец непременно должен сделаться моим супругом. Но нельзя ли избавить меня от необходимости столь часто лицезреть эту неприятную особу? От королевы Жанны вечно пахнет каким-то прогорклым маслом, а ее сжатый рот наводит на мысль, что губ у нее нет вовсе.
– Я постараюсь что-нибудь придумать, девочка моя, – ласково ответила Екатерина. – Но пока тебе придется терпеть. А насчет платьев и прочего не волнуйся. Не думаю, что тебе надо будет проводить в Нераке (столице Наварры) слишком уж много времени.
Так оно и получилось. В июне того же, 1572, года королева Наварры Жанна внезапно занемогла. Она тогда все еще жила в Лувре, и Екатерина называла ее своей подругой. Как-то вечером, дня за два до того, как Жанне стало плохо, одна из придворных дам Екатерины принесла гугенотке пряно благоухавший самшитовый ларец.
– Ваше Величество, – сказала дама (ее имя поглотили века, но это неважно, потому что она ничего не знала и только выполняла приказание), – государыня посылает вам этот дар и велит передать, что не забыла разговора, который состоялся у вас третьего дня.
Жанна раскрыла ларец и увидела там пару длинных, выше локтя, перчаток из тончайшей кожи. Вспыхнув от удовольствия, она написала королеве Екатерине короткую записку, благодаря ее за подарок. Дело заключалось в том, что Жанна, женщина неизбалованная и суровая, пожив в Париже, не только укрепилась в собственной вере, но и решила все же кое-чему поучиться. Конечно, румяниться или белиться ей бы и в голову не пришло, а вот сделать свои руки более мягкими королеве хотелось. Она рассказала об этом пастору, который находился в ее свите, и тот рассердился.
– Это суетность, мадам! – воскликнул он. Королева нахмурилась, велела ему уйти и – поступила по-своему. В те времена перчатки еще не были непременной частью туалета знатной дамы, и потому королеве-гугенотке пришлось однажды услышать, как только что склонявшийся перед ней в поклоне молодой щеголеватый придворный, который целовал подол ее платья, несколько минут спустя прошептал своему приятелю: «Боже, ну у нее и руки! Красные, в цыпках, как у крестьянки!» Жанне отчего-то сделалось неловко, и при первом же удобном случае она невзначай спросила у Екатерины, как нужно поступить с руками, чтобы они стали такими же мягкими и белыми, как у Ее Величества. И вот этот ларец…
А через неделю Жанна умерла. Пропитанные ядом перчатки, которые флорентийка советовала надевать на ночь, чтобы смягчить кожу рук, сделали свое дело. Марго могла больше не опасаться, что скучная свекровь помешает ей одеваться так, как хочется и как велит мода.
Брак между Генрихом Бурбоном и Маргаритой Валуа был заключен восемнадцатого августа 1572 года в парижском соборе Нотр-Дам, причем церемонию омрачил один неприятный эпизод. В ту самую минуту, когда невесте следовало произнести решительное «да», она засомневалась и принялась беспомощно оглядываться по сторонам, как бы подыскивая подходящий для бегства путь. Карл IX, и без того пребывавший в дурном расположении духа (ему не нравились ни Наваррец, ни многочисленные дворяне-протестанты, находившиеся в свите Бурбона и не скрывавшие своего презрения к бесовскому городу Парижу), так рассердился на сестру, что сильно ударил ее кулаком по затылку. Несчастная охнула и, едва не лишившись от боли сознания, опустила голову. Священник, видевший лишь, что ее высочество кивнули, повел церемонию дальше и объявил принца-гугенота и принцессу-католичку мужем и женой.
Спустя пять дней, когда в Лувре еще продолжались торжества, радушные хозяева перерезали почти всех своих гостей-протестантов. Это случилось ночью, которая вошла в историю под названием Варфоломеевская, ибо назавтра отмечался праздник святого Варфоломея.
Из королевского дворца безумие выплеснулось на улицы Парижа. По мостовым текли потоки крови, и Сена стала красной и горячей. Если бы не непонятное снисхождение Карла IX, его сестра в ту страшную ночь сделалась бы вдовой… тем более что этого, кажется, очень хотела Екатерина. Но король дал Наваррцу возможность ускользнуть, а сама Маргарита пережила кошмарные часы, потому что в ее спальню, надеясь на защиту своей государыни, сбежалось множество дворян-гугенотов, которые умоляли спасти им жизнь.
– Я – сестра повелителя Франции! – кричала Марго убийцам, опьяненным запахом крови и потому беззастенчиво врывавшимся в королевскую опочивальню. Но лучники только яростно сопели и резали свои жертвы, не обращая внимания на то, что заливают алой влагой белоснежную ночную сорочку Маргариты.
И только одного своего подданного удалось ей уберечь, уложив на кровать и прикрыв подушками. Король Генрих IV надолго запомнил, как благородно вела себя его жена в ночь святого Варфоломея, и много позже, когда он уже совершенно охладел к ней и называл в письмах недостойными словами, отчаянно настаивая на разводе, он все-таки хранил в памяти слова, сказанные ею тогда в обагренном гугенотской кровью Лувре: «Я спасла бы всех, кого могла, сир, но бог дал мне силы только на одного!»
Маргарита, которую всегда снедало любовное желание, была бы довольна своим мужем, если бы от него не «воняло козлом», по ее же собственному выражению, и если бы он сумел отказаться от мерзкой привычки горцев, среди которых прошло его детство, постоянно жевать чеснок. Поэтому их брачная ночь запомнилась новоиспеченной королеве Наваррской как ночь безмолвия. Говорить молодым было решительно не о чем, влекло их друг к другу не слишком сильно, однако оба были уже опытными любовниками и пришли к молчаливому согласию, что на супружеском ложе они являют собой вполне достойную пару.
И однако Марго и Генрих так никогда и не сумели получить настоящее удовольствие от семейной жизни.
«Я понимаю королеву, – писал Наваррец своему другу Агриппе д' Обинье, вроде бы и виня себя, но одновременно явно рисуясь. – Ведь я солдат, и я часто являлся к ней пыльный и потный, прямо с дороги. Она принимала меня, а потом приказывала сменить простыни, на которых, впрочем, мы проводили вместе не более четверти часа».
Примерно через полгода после свадьбы Маргарита убедилась в том, что мужа подхватил и увлек поток политических интриг, и решила, что вольна сама распоряжаться и своим временем… и своим телом. Она завела сразу несколько интрижек, и многие молодые дворяне могли похвастаться тем, что знают наверняка: вечерами королева Наваррская столь же обольстительна, как и поутру.
А ее муж – тоже, кстати, не чуравшийся в эти первые послесвадебные месяцы придворных прелестниц – создал тайную организацию, желая сместить с трона Карла IX, отодвинуть в сторону (или же вовсе убить) Генриха Анжуйского, успевшего стать польским королем, и сделать повелителем Франции младшего сына Екатерины герцога Алансонского.
Франциск Алансон был довольно привлекательным юношей, но его отличал на удивление завистливый и сварливый нрав. Весь Лувр знал, что его высочество в любую минуту готов расправиться со всяким, кто недостаточно низко поклонится ему, не так на него взглянет или же, к примеру, не станет рассыпаться в похвалах новой герцогской любовнице. Франциска всегда окружала кучка самых настоящих головорезов, которые рады были исполнить жестокие распоряжения своего господина.
И вот с таким-то человеком Генрих Наваррский вступил в союз! Чего не сделаешь ради того, чтобы хотя бы на один шаг приблизиться к вожделенному трону!
…Но среди фаворитов принца был некто Бонифаций де Ла Моль, который, хотя и пользовался славой храбреца и дуэлянта, тем не менее никогда не опускался до того, чтобы убивать из-за угла, да потом еще и не гнушаться грабить свою жертву.
– Скажите, граф, – спросил как-то Франциск своего любимца, – отчего вы не участвовали вчера в нашем ночном приключении?
– Монсеньор говорит о стычке на улице Старой Голубятни? – уточнил де Ла Моль. – Три мертвеца… кажется, в рубахах и… – тут он едва заметно поморщился, – даже без сапог?
– Они пролежали там всю ночь, – засмеялся Франсуа. – Париж – такой беспокойный город. Воры, нищие бродяги, наконец, просто бедняки, коим нечем прикрыть наготу. Мало ли кто мог обобрать этих мерзавцев, которые, между прочим, были одеты весьма богато. А у одного я заметил кинжал – так ему просто цены нет.
– Всему есть цена, ваше высочество, – учтиво возразил граф. – И нынче утром я слышал, как Гитри упомянул о своем знакомстве с неким скупщиком – мол, полезный человек, всегда платит, не торгуясь… А Гитри был вчера с вами?
– Был, – нахмурился Алансон. – И весьма храбро защищал своего господина, когда мы подверглись нападению негодяев. Там не хватало только вас, граф!
– Простите, монсеньор, – поклонился Ла Моль, – но, если я правильно понял, ваше высочество окружало не менее пятнадцати человек. Что бы значила еще одна шпага? Вряд ли я смог бы сделать больше, чем сделал Гитри. А в Париже действительно беспокойно. Подумать только: трое негодяев напали на шестнадцать вооруженных дворян! И на что они только рассчитывали? Разве что на внезапность…
Принц нахмурился и смерил собеседника гневным взглядом, однако де Ла Моль слишком хорошо изучил нрав Франциска, чтобы испугаться. Высказав – почти откровенно – свое отношение к тому, что творили люди Алансона, он сам (презрев все требования этикета) сменил направление разговора, ибо знал, как смягчить Франциска.
Граф намекнул на свое вчерашнее приключение, а поскольку оно начиналось еще на глазах принца, на мессе, где присутствовала некая дама, то его высочество крайне заинтересовался рассказом и о проступке де Ла Моля больше не поминал.
Де Ла Моль был одним из тех, кого несколько веков спустя станут именовать «дамскими угодниками». О его романах по Лувру… да что там по Лувру – по всему Парижу! – ходили совершенно изумительные легенды. Говорили, будто любовниц он иногда меняет несколько раз в день, будто в постели он неутомим и будто после каждого уединения с дамой он непременно спешит в церковь, чтобы замолить очередной грех. Король Карл его просто не выносил. Он называл Бонифация святошей и ждал, когда же наконец красавца графа настигнет месть какого-нибудь обманутого супруга.
Впрочем, дело было, конечно же, не столько в графе, сколько в его господине. Старший и младший братья всегда недолюбливали друг друга. Карл не мог не догадываться о том, что Франциск с детства мечтает о троне – а значит, желает ему, здравствующему королю, – смерти, а Алансон, действительно вынашивая планы пленения, а то и убийства Карла, не забывал, что первые уроки любви их сестренке Марго преподал именно король. Да-да, у Франсуа бывали прямо-таки настоящие припадки ревности. Он отчаянно ревновал Маргариту – хотя не всегда и не ко всем. Например, Генрих Наваррский не вызывал у него слишком уж сильной неприязни, а вот Карл IX, который давно уже любил сестру сугубо платонической любовью, заслужил ненависть принца. Позже, когда королем сделался Генрих Валуа, Маргарита не раз просила у Франсуа помощи против него – и младший братец всегда спешил к сестре… и они находили утешение в объятиях друг друга. Франсуа даже пренебрегал грозившей ему опасностью (ведь заговоры против Генриха он составлял с ничуть не меньшим усердием, чем против покойного Карла) – так ему не терпелось выручить из беды свою возлюбленную… сестру. Умер Франциск от туберкулеза, так и не изведав тяжести венца, и уверяли, будто, когда он уже был болен, Марго, не боясь заразиться, неоднократно навещала его на ложе.
Но вернемся, однако, к де Ла Молю. У этого красавца довольно долго длился роман с Анриеттой Клевской, герцогиней Неверской, которая была лучшей подругой королевы Наваррской. Король Карл решил однажды собственноручно расправиться с графом, до смерти ему надоевшим и к тому же нагло похищавшим на глазах у своего повелителя сердца признанных придворных красавиц. Он обратился за помощью к Гизу (всегдашняя ненависть к Лотарингцу была на время забыта) и к еще нескольким своим приближенным. Решено было подстеречь Ла Моля в коридоре Лувра (ох уж эти дворцовые переходы! сколько они повидали убийств!) и заколоть его.
Однако же королю не повезло точно так же, как не повезло когда-то подосланному им ангулемцу, который намеревался умертвить Гиза. Генрих Гиз, поразмыслив, решился выдать королевскую тайну. Он очень неплохо относился к своей родственнице Анриетте и вовсе не желал лишать молодую женщину удовольствия привечать кого ей заблагорассудится.
Гиз явился к своей прежней любовнице Маргарите Наваррской и без обиняков сказал:
– Если вы не вмешаетесь, ваша подруга Анриетта встретит завтрашнее утро в слезах. Вы же знаете, как сильно Его Величество привязан к графу де Ла Молю. Так вот: сегодня ночью он, я и еще кое-кто намерены убедить графа в своем добром к нему расположении. Место для этого выбрано весьма удачное – прямо возле покоев герцогини Неверской.
Марго протянула герцогу руку для поцелуя, пообещала не забыть его благородный порыв и кинулась к подруге.
Анриетта лежала на кушетке и с интересом слушала Бонифация, который в красках описывал ей свой визит к известному магу и чародею Козимо Руджиери. Женщине было немного страшно, потому что вся Франция знала о том, что Руджиери якшается с самим дьяволом. Если бы не заступничество королевы-матери, колдуна давно бы казнили или хотя бы заточили в темницу, но пока этого не случилось, и многие щеголи навещали Руджиери в его жилище, чтобы купить… нет, не приворотные зелья или яды, а разнообразные благовония, мази и замечательную белоснежную пудру. А впрочем, кто знает, что именно влекло молодых людей в лавку итальянца? И до конца ли был искренен прекрасный Бонифаций, когда повествовал герцогине о своем посещении Руджиери? Отчего он так побледнел, когда вошла Маргарита Наваррская? Не потому ли, что опасался: она услышала, где он был вчера вечером?
Но Марго не обратила внимания на смятение графа. Подойдя к нему – едва успевшему вскочить при ее появлении, – она воскликнула:
– Немедленно отправляйтесь ко мне, граф! Там вы будете в безопасности! – И, повернувшись к изумленной подруге, пояснила: – Меня только что уведомили, что господина де Ла Моля хотят убить – сегодня ночью, возле ваших дверей.
– Пойдемте к королю! – вскричала разгневанная Анриетта. – Пускай убийц схватят на месте и казнят!
– Видишь ли, – сказала Марго, – Его Величество вряд ли поможет нам. Он тоже будет в коридоре…
– Я не дам наколоть себя на шпагу, точно куропатку на вертел! – заявил Бонифаций, который попросту не расслышал, кто именно собирается убить его, и рвался в бой, желая сразиться и победить.
– О господи, граф, ну можно ли быть таким безрассудным?! – изумилась Маргарита. – Неужели вы не понимаете, что, выйдя победителем из этой схватки, вы окажетесь на Гревской площади? Вас привяжут к четырем лошадям, и они помчатся каждая в свою сторону.
– О, так меня намерен убить сам король?.. – задумчиво протянул Бонифаций и позволил увлечь себя в покои королевы Наваррской.
…Целых четыре часа Карл с сообщниками провел возле дверей герцогини Неверской. Наконец, поняв, что ожидание напрасно, он, чертыхаясь, удалился. Ему и в голову не пришло, что де Ла Моль все это время был в постели Маргариты.
Да-да, красавец-граф давно и, как он думал, безнадежно любил королеву Наваррскую. Он, безусловно, знал, что дама его сердца не слишком заботится о поддержании пламени в своем семейном очаге, и потому искренне удивлялся невниманию Маргариты. Он-то полагал, что королева Наварры должна сразу заприметить его – такого обольстительного и такого неотразимого, но Марго равнодушно скользила по нему взглядом, предпочитая ему других, куда менее видных кавалеров.
И де Ла Моль, который был очень набожен и одновременно весьма суеверен, решился обратиться за помощью к Руджиери. Он не стал говорить колдуну, чьей именно благосклонности хочет добиться, но намекнул, что особа эта – королевских кровей. Итальянец понимающе кивнул, удалился куда-то в другую комнату, повозился там минут десять, а потом подал графу вылепленную из воска фигурку. Кукла была облачена в некое подобие мантии, а на голове у нее красовалась золотая корона. Де Ла Моль с недоумением и опаской смотрел на изображение своей любимой, а Руджиери тем временем говорил ему:
– Возьмите вот эту золотую булавку, мой господин. Да возьмите же, не тревожьтесь, я знаю, что надо делать, доверьтесь мне. Так. А теперь проткните фигурку там, где у нее должно было бы быть сердце. Смелее! Вот и все. Забирайте куклу домой. День-два – и вы обретете счастье!
Граф спрятал восковую фигурку под плащ, бросил Руджиери кошель с золотом и торопливо вышел на улицу. Остаток ночи он провел у себя в молельне. Графу было не по душе то, что он сделал, и он усердно просил господа о прощении. Фигурка в мантии лежала в его спальне, под подушкой.
И вот уже на следующий день королева Наваррская сама зовет его в свои покои и с радостью отвечает на его сначала робкие, а потом все более откровенные ласки! Значит, не солгал проклятый колдун, не зря получил он золото!
Маргарита же с удовольствием глядела в глаза Ла Моля и вслушивалась в его мелодичный голос, произносивший ее имя. Конечно же, ей нравился этот темноволосый стройный юноша, всегда изящно одетый, всегда тщательно завитой и благоухавший не чесноком, как ее муж, и не потом, как добрая половина придворных (ибо вода многими в те времена почиталась вредной для здоровья), но ароматическими маслами. И разговор он умел непринужденный поддерживать, и древние языки знал – правда, хуже, чем Маргарита, и танцевал замечательно. И теперь Марго с удивлением спрашивала себя, как же так получилось, что она с легкостью уступила подобного красавца своей подруге, хотя и замечала, что он бросает пламенные взоры именно на нее, на королеву Наваррскую?
…Скоро уже весь Лувр знал, что у Маргариты – новый любовник, и бедняжка Анриетта со вздохом поздравила молодую королеву с таким ценным приобретением. Беззастенчиво выяснив у герцогини кое-какие интимные привычки и предпочтения Ла Моля, Марго усмехнулась:
– Анриетта, милая, извини, но угрызения совести меня не мучат. Вчера около твоих носилок опять гарцевал этот рыжий великан-пьемонтец – или мне показалось?
– Да, – поколебавшись, призналась госпожа де Невер. – И его рассказы о том, как он побивал в Варфоломеевскую ночь гугенотов, так занимательны, что я, пожалуй, попрошу его повторить их у меня в спальне.
– Его зовут Коконнас, верно? Граф часто упоминает это имя.
– Они с Ла Молем закадычные друзья. Вот только одеваться предпочитают совершенно по-разному. И я никак не могу втолковать моему влюбленному пьемонтцу, что к рыжим волосам не идет синяя шляпа. Представь, нынче утром я говорю ему…
И подруги принялись болтать – по обыкновению мило и оживленно.
Две парочки долго бы, наверное, наслаждались любовью, если бы им не помешала политика. Генрих Наваррский решил, что в заговор, направленный против французского короля, надо вовлечь Маргариту.
– Мы же все-таки муж и жена, – отвечал он на все увещевания Тюрена, своего друга и единомышленника, – а значит, должны быть рядом и в беде, и в радости. Пускай королева тоже оставит Лувр и станет жить в моем пиренейском замке. Надо же ей в конце концов увидеть свою страну!
На самом деле хитрый Беарнец (так часто именовали Генриха, ибо родовой его замок располагался в провинции Беарн) надеялся, что Марго в случае неудачи задуманного предприятия сможет смягчить своими красноречивыми письмами мать и брата Карла и убедить их быть снисходительными к нему, сбежавшему из Парижа мятежному принцу.
Итак, он рассказал Маргарите, что намерен ускользнуть из французской столицы, добраться до Наварры, собрать войска и двинуться на Париж. Король Карл так немощен, что не может долее управлять страной; его место занимает Франциск, который не станет препятствовать планам Генриха мирно жить в Наварре и управлять своим маленьким государством.
Марго, отлично знавшая честолюбивый нрав супруга, разумеется, не поверила, что идеал всей его жизни – сделаться сельским государем, однако же мысль о том, что любимый братец Франсуа сменит на престоле нелюбимого братца Шарля, пришлась ей по вкусу. Когда же она узнала, что Алансон уже успел посвятить в тайну и де Ла Моля, и Коконнаса, ее решимость бежать из Парижа лишь окрепла. (Маргарита всегда была авантюристкой. Ее жажда приключений принимала иногда вид мании. Однажды, к примеру, она чуть не сожгла весь Лувр, бросив в огонь камина веревку, по которой только что спустился из окна ее очередной возлюбленный. Никто бы, конечно, и внимания не обратил на эту злополучную веревку, а вот внезапно поваливший из комнаты наваррской королевы черный дым заставил собраться у ее дверей едва ли не всех обитателей дворца.)
В апреле 1574 года Карлу IX стало хуже. Он страдал гемофилией, и у него началось кровотечение. Заговорщики должны были поторопиться, потому что королева-мать могла со дня на день отправить гонца в далекую загадочную Польшу, дабы призвать в Париж Генриха, который должен был наследовать Карлу.
– Итак, до встречи завтра на охоте, господа! – напутствовал Генрих Наваррский де Ла Моля и Коконнаса. Молодые люди имели приказ со свежими лошадьми в поводу ждать Беарнца и Маргариту в Венсенском лесу. Но замысел не удался… потому что трусам нельзя становиться заговорщиками.
Трусом выказал себя Франциск, герцог Алансонский. Поскольку его матушка была женщиной проницательной, она без труда заметила, как изменилось с некоторых пор поведение Франсуа. Он стал еще более развязным, постоянно отпускал какие-то неясные намеки касательно своего великого будущего и то и дело принимался беседовать с Беарнцем, коего прежде почти не удостаивал вниманием, ибо полагал неуклюжим провинциальным увальнем.
Как раз накануне задуманного бегства Екатерина призвала к себе Франсуа и без обиняков спросила:
– Сын мой, что это за дела у вас с вашим кузеном Генрихом? Не задумали ли вы недоброе? Имейте в виду, что звезды открыли мне: вам грозят всяческие несчастья, коли вы доверите свою судьбу представителю рода Бурбонов.
И флорентийка, облаченная по обыкновению в черное, торжественно воздела руку к потолку.
Она и сама не ожидала, какой эффект возымеют ее слова.
Франсуа упал на колени, подполз к матери и, рыдая, стал жаловаться на коварного короля Наварры, который вовлек его в заговор против обожаемого брата Карла и не менее обожаемого брата Генриха.
Расспросив сына о заговоре и утерев ему слезы, королева решила возложить всю тяжесть вины на Ла Моля и Коконнаса – ибо понимала, что не может казнить принца крови и к тому же главу всех французских гугенотов (то, что Генрих Наваррский, сменивший после Варфоломеевской ночи веру, сделался католиком, она считала всего лишь уловкой с его стороны – и была права).
Франсуа, выслушав материнское суждение, радостно кивнул, потому что давно уже злился на своего прежнего фаворита, снискавшего расположение Марго.
Двух красавцев друзей схватили и бросили в тюрьму. Держали они себя мужественно, ни в чем добровольно не признавались – и были подвергнуты пыткам. Особенно палачи усердствовали с Ла Молем, потому что в его доме нашли восковую фигурку – в короне и проткнутую булавкой.
– Злоумышление против короля! То-то Его Величеству так худо в последнее время… Проклятый колдун! – зашептались судьи и приговорили обоих молодых людей к «отделению головы от туловища».
В один из майских дней 1574 года граф де Ла Моль и граф де Коконнас были обезглавлены на знаменитой Гревской площади, а после казни их тела разрубили на несколько частей и вывесили на городских стенах – для позора и устрашения.
Ну а ночью дворецкий королевы Наваррской по имени Жак д'Орадур, захватив с собой довольно крупную сумму, отправился к палачам и выкупил у них головы обоих несчастных.
И если герцогиня Неверская взирала на искаженное смертной мукой лицо возлюбленного со страхом и отвращением, то Маргарита нежно целовала холодные губы де Ла Моля и шептала всякие нежные слова.
– А зачем они нам? – спросила с недоумением Анриетта, когда ее подруга наконец оторвалась от мертвой головы.
– Я думала, ты поняла… – отозвалась Марго и принялась священнодействовать. Она извлекла из шкафа два богато изукрашенных ларчика, флаконы с благовониями и – широкую кружевную нижнюю юбку. Затем она запустила руку в шкатулку с драгоценностями, достала полную пригоршню топазов, изумрудов и жемчугов, засунула их в рот любовнику (Анриетта еле слышно охнула и на секунду прикрыла глаза, боясь потерять сознание) и начала умащивать голову графа благовониями.
– Ну, что же ты? – повернулась она к подруге. Та кивнула и тоже принесла юбку и драгоценности.
В конце концов головы казненных, старательно обернутые юбками и помещенные в ларцы, были отвезены на Монмартр и похоронены там.
Спустя несколько десятилетий рабочие, копавшие канавы на территории Монмартрского монастыря, принесли его настоятельнице два ящика с заключенными в них головами мужчин. Рты у покойных были набиты драгоценностями, и аббатиса решила, что это – два мученика, пострадавшие за веру. Ящички с благоговением поместили в нарочно ради этой цели построенную часовню. То-то завидная посмертная судьба!
На следующий день после казни королева Наваррская и герцогиня Неверская явились на роскошный многолюдный бал в глубоком трауре да еще и с серебряными черепами, украшавшими их браслеты и ожерелья. Это было сочтено признаком дурновкусия и решительно всеми осуждено.
Впоследствии Марго не уделяла своим погибшим любовникам столько внимания. Она ограничилась тем, что приказывала бальзамировать их сердца. Уложенные в золотые маленькие коробочки, они всегда были при ней – прикрепленные изнутри к фижмам замечательно широкой юбки. Возможно, это всего лишь легенда, но члены семейства Валуа отличались такими странностями, что в эту легенду хочется верить.
Муж Марго сумел-таки ускользнуть из Парижа. Он жил в Нераке и время от времени писал «своему повелителю и брату» Генриху III довольно-таки унылые письма, прося прислать к нему Маргариту. Но Генрих вовсе не желал угождать ненавистному Наваррцу и уж тем более отпускать к нему свою сестру. Казалось, он снова воспылал к ней страстью, коя обуревала его в пятнадцать лет; он даже забывал иногда о своих наложниках, беседуя с Марго на самые разные темы.
Никто не знает, заменяла ли ему тогда сестра его многочисленных «любимчиков», но скорее всего нет, потому что Маргарита несколько раз жаловалась матери, что Генрих держит ее взаперти, не давая жить так, как ей нравится.