Вечер в Византии Шоу Ирвин
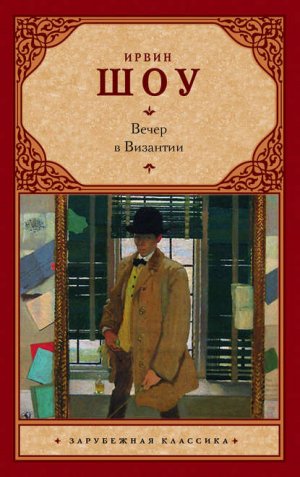
Крейг засмеялся.
— Да нет же. Я подумал, не сходить ли нам в казино. Раз уж ты приехал, должен же ты познакомиться с местными достопримечательностями. А там при входе спрашивают паспорт. — По крайней мере за игорным столом он будет избавлен часа на два от излияний удрученного парня.
— Ах, извините, — сказал Пэтти. — Конечно. Он у меня в кармане.
— Хочешь пойти?
— А что мне терять?
— Кроме денег, ничего, — сказал Крейг.
В казино Крейг коротко объяснил, что такое рулетка, и посадил Пэтти рядом с крупье, чтобы тот подсказывал новичку, что делать. Сам же сел за стол, где играли в chemin de fer. До этого он играл в Канне только однажды — в ту ночь, когда одолжил Уодли триста долларов и когда Мэрфи рекомендовал ему отказаться от мысли поставить «Три горизонта». Он усмехнулся про себя, вспомнив тогдашний разговор с Мэрфи по телефону. Садясь за игорный стол, он с удовольствием подумал: «Теперь, имея в запасе тридцать тысяч франков, можно и порезвиться».
Время от времени, перед новой раздачей, Крейг подходил к Пэтти. У того возбужденно блестели глаза — перед ним лежала солидная куча фишек. «Я заразил его новым пороком, — подумал Крейг. — Зато хоть об Энн ныть перестанет».
За столом напротив Крейга освободилось место, и его заняла полная дама. Она была в белом шелковом платье, оставлявшем открытыми плечи и большую часть пышной груди. Замысловатая, тщательно уложенная прическа, сильно подведенные глаза. Несоразмерно тонкие губы на круглом, словно лакированном лице, утолщенные блестящей ярко-красной помадой. Очень смуглая кожа на плечах и груди блестела, точно смазанная жиром. Пальцы с длинными загнутыми малиновыми ногтями были отягощены бриллиантами, которые Крейг — он не был знатоком в этой области — принял за настоящие. Она перенесла с другого стола кучку крупных фишек и, разложив их перед собой в геометрическом порядке, постукивала по ним с хозяйским видом своими длинными накрашенными ногтями. Она взглянула на Крейга и улыбнулась — лукаво, но без особого радушия.
Теперь он узнал ее. Это была та толстуха, что лежала на солнце, когда они с Мэрфи шли в бар отеля «На мысу». Он вспомнил ее залитое потом, размалеванное лицо, вспомнил выражение неприкрытой развращенности, отметины, свидетельствующие о дурном характере, эгоизме, грубости и жадной похотливости. Оборотная сторона монеты, название которой чувственность. Неприятно, что она села за его стол.
Он был уверен, что она выиграет. Так оно и вышло. После нескольких партий он встал из-за стола, взяв с собой выигрыш. Кучка фишек перед Пэтти немного увеличилась, он сидел согнувшись и сосредоточенно смотрел на вращающийся круг.
— С меня хватит, Бейард, — сказал Крейг. — Иду получать наличные. А ты как?
Пэтти с удивлением обернулся на голос Крейга — словно вдруг перенесся откуда-то издалека.
— Да, да. Пожалуй, мне тоже надо бросить, пока я еще в выигрыше.
Когда они подошли к кассе, Крейг увидел, что Пэтти выиграл более тысячи франков.
— Сколько это в долларах? — спросил Пэтти.
— Около двухсот пятидесяти.
— Скажи пожалуйста, — удивился Пэтти. — Вот легкий заработок. Как говорится, кому не везет в любви…
— Да брось ты, Бейард.
— Во всяком случае, это возместит мне часть расходов. — Он аккуратно сложил деньги и сунул их в бумажник из страусовой кожи с золотыми уголками. Потом, печально посмотрев на бумажник, сказал: — Это мне Энн подарила. В лучшие времена. На нем и мои инициалы есть.
Они пошли обратно в отель. По дороге к ним несколько раз приставали проститутки.
— Отвратительно, — сказал Пэтти. — И так открыто.
Он сказал, что ему не хочется идти к Хеннесси.
— Вы, как и я, понимаете, мистер Крейг, что такие вечера не для меня. — Он зашел вместе с Крейгом в холл, чтобы узнать, нет ли вестей от Энн. Никаких вестей не было.
— Если я до отъезда узнаю что-нибудь, то сообщу тебе, — обещал Крейг. Ему было совестно перед парнем, точно он собирался от него сбежать.
— Вы мне друг, мистер Крейг. Я считаю вас истинным другом.
Крейг смотрел вслед понурой громадной фигуре любовника своей дочери, пока тот, прихрамывая, не вышел на темную улицу, и, когда парень исчез из виду, подумал: «Ну, свой отцовский долг я исполнил. Или часть долга».
Дверь «люкса» Хеннесси была настежь открыта, и шум голосов заполнил весь коридор. Несомненный признак успеха. Должно быть, фильм Хеннесси приняли очень хорошо. Через открытую дверь проникал тоже не оставлявший сомнений запах марихуаны.
«В мое время, — подумал Крейг, — мы просто напивались. А вот это, как видно, и есть то, что профессора социологии и называют новыми моральными критериями?»
Гостиная была полна народа. У большого стола, уставленного бутылками, стоял Мэррей Слоун, критик из киногазеты. Он не курил марихуану. Верный старой традиции, он накачивал себя даровым виски, У противоположной стены на большом диване рядом с героем вечера сидела Гейл. Хеннесси — сияющий, раскрасневшийся, потный — был без пиджака, в подтяжках. Он делил сигарету с Гейл, далекой, холодной, безразличной к шуму и веселью.
— Как приняли фильм, Мэррей? — спросил Крейг.
— Как видите, — Слоун повел стаканом в сторону шумящих гостей. — В телячьем восторге.
— В таком духе вы и собираетесь о нем писать?
— Нет. Напишу, что он полон веселого, соленого американского юмора и что реакция публики вполне оправдала надежды продюсера. Идет на высшую премию. — Слоун старался держаться прямо, однако слегка покачивался, из чего Крейг мог заключить, что пил он прилежно. — Умолчу я и о том, что на деньги, потраченные сегодня на травку, можно было бы снять недорогой порнографический фильм. И вот еще о чем я не напишу: если бы не даровая выпивка, я бы ни на один фестиваль в жизни не поехал. А как у вас дела, мой друг? Могу я передать что-нибудь про вас по телексу?
— Нет, — сказал Крейг. — Вы Йена Уодли здесь не видели?
— Нет. Старый собутыльник. Когда его нет, вроде бы что-то не то. Слыхал я про его стычку с Мэрфи в ресторане. Теперь уполз, наверно, в какую-нибудь нору и лаз за собой закрыл.
— Кто вам наболтал? — резко спросил Крейг.
— Ветром занесло, — покачиваясь и ухмыляясь, ответил Слоун. — Мистраль нашептал.
— Вы ничего об этом не писали? — спросил Крейг.
— Я для светской хроники не пишу, — с достоинством сказал Слоун. — Хотя есть и такие, что пишут.
— А в светской хронике ничего не появлялось?
— Насколько я знаю, нет. Только я ее не читаю.
— Спасибо, Мэррей.
Крейг отошел от критика. Не за тем же он пришел, чтобы тратить время на Мэррея Слоуна. Он стал пробираться туда, где сидели Гейл и Хеннесси, и наткнулся на Корелли, итальянского актера, который сидел, сверкая улыбкой, на полу, будто мальчишка, вместе со своими непременными двумя спутницами. Крейг не мог вспомнить, те ли это девицы, которых он уже встречал, или не те. Корелли тоже курил сигарету и давал покурить поочередно своим подружкам. Одна из них затянулась и сказала: — Дивный марокканский рай! — Крейг споткнулся о вытянутую ногу Корелли, и тот, мило улыбнувшись, сказал:
— Присаживайтесь к нам, мистер Крейг. Ну, пожалуйста. У вас лицо simpatico.[32] Правда, у мистера Крейга лицо simpatico, девушки?
— Molto simpatico,[33] — подтвердила одна из девиц.
— Извините, — сказал Крейг, стараясь ни на кого не наступить. — Поздравляю, Хеннесси. Говорят, вы всех сегодня сразили.
Хеннесси приветливо улыбнулся, попробовал встать, но упал на диван.
— На сегодня я себя обессмертил. Становлюсь новым Сесилем Б. де Миллем. Неплохой вечер, а? Выпивка, травка, слава и поздравления дирекции.
— Привет, Гейл, — сказал Крейг.
— А, Малколм Харт собственной персоной, — сказала Гейл.
Крейг не мог сказать, пьяна она или одурманена.
— Что, что ты говоришь? — недовольно пробурчал Хеннесси. — Разве я приглашал еще кого-нибудь?
— Это наша с Гейл шутка.
— Молодчина девка, — сказал Хеннесси, похлопав Гейл по руке. — Поила меня весь вечер, пока на Лазурном берегу решалась моя судьба. Все спрашивала про мою прежнюю жизнь. Начиная со времен рабства. Боксер-любитель, шофер грузовика, дублер-акробат, вышибала в бильярдной, бармен, рекламный агент… Кем я еще был, дорогая?
— Автомехаником, рабочим на ферме…
— Вот, вот. — Хеннесси одарил ее улыбкой. — Всю мою подноготную знает. Законченная американская посредственность. Но я знаменит, и она собирается сделать меня еще знаменитее, верно, дорогая? — Он передал Гейл сигарету, и она, закрыв глаза, сделала большую затяжку.
«Нет, эта вечеринка не для меня», — подумал Крейг.
— Доброй ночи, — сказал он. Гейл открыла глаза и медленно выпустила сладковатый дым. — Я только хотел сказать вам, что завтра улетаю в Нью-Йорк.
Его разбудил телефонный звонок. У него было такое ощущение, будто он и не спал вовсе, а видел один из тех снов, когда человеку кажется, что он бодрствует, но ему очень хочется спать. Он пошарил рукой и взял трубку.
— Я стучала, стучала. — Это была Гейл. — И никакого результата. — Голос ее звучал так, словно он слышал его во сне.
— Который час?
— Три часа утра. Все в порядке. Я поднимаюсь к тебе.
— Ни в коем случае.
— Я плыву, плыву. И хочу тебя. Мне не терпится коснуться губ моей истинной любви.
— Ну и накурилась же ты, — сказал он.
Она хихикнула.
— Ага, так накурилась! И так хочу тебя! Отопри дверь.
— Иди к себе и ложись спать.
— У меня сигаретка есть. Чудесное марокканское курево. Оставь дверь открытой. Поплывем вместе в прекраснейший марокканский рай.
Он не знал, что делать. Сон окончательно прошел. Манящий нежный голос волновал, вкрадчиво пробирался по электрической цепи его нервов.
Гейл снова хихикнула.
— Ты поддаешься. Моя истинная любовь поддается. Еду наверх. — В трубке щелкнуло.
Он немного подумал, вспоминая их ласки. Молодая, девичья кожа. Мягкие беззастенчивые руки. В первый и в последний раз он узнает, что такое наркотики, хоть это и знают почти все. Что бы там с Гейл сейчас ни происходило, счастлива она, безусловно, была. Что он потеряет, если познает эту тайну и на час-два впадет в блаженное состояние? Через двадцать часов он будет уже на другом континенте. Он никогда больше ее не увидит. Завтра у него начнется новая, упорядоченная жизнь. Осталась одна только ночь, чтобы вкусить наслаждений хаоса. Он знал, что, если даже не откроет дверь, ночь для него все равно потеряна. Он встал с постели и отпер дверь. Потом лег поверх простынь и стал ждать.
Он слышал, как дверь открылась и снова закрылась, слышал, как она вошла в спальню.
— Шш… моя истинная любовь, — прошептала она.
Он лежал не шевелясь, слушая, как она раздевается в темноте, увидел на секунду ее лицо, когда в руке ее вспыхнула спичка. Она подошла к кровати и, не касаясь его, подложила под спину подушку и села рядом с ним по-турецки. По мере того как она раздувала «чудесное марокканское курево», светящаяся точка в ее руке становилась все больше. Она протянула ему сигарету.
— Задержи в себе дым подольше, — сказала она дремотным, далеким голосом.
Он уже более десяти лет назад в один день бросил курить, но затягиваться еще не разучился.
— Чудесно, — прошептала она. — Чудный мой мальчик.
— Как зовут твою мать? — спросил он. Надо было задать этот вопрос сразу, пока курево не подействовало. Но уже первая затяжка начала сказываться.
— На пяти саженях глубины моя мать.[34] — Она потянулась за сигаретой, тронула его за руку. Ему показалось, будто тело его ненароком подхватил мягкий теплый ветерок. Слишком поздно задавать вопросы.
Так, передавая друг другу сигарету, они выкурили ее. Комната наполнилась дымом. За окнами шумело море, ритмично, успокаивающе, словно кафедральный орган. Она легла рядом с ним, коснулась его рукой. Они предались любви, забыв о времени, обо всем вокруг. В ней воплотились все девушки, все женщины этого южного берега — похотливая толстуха с раскинутыми ногами, ничком лежавшая под солнцем, и молодая белокурая мать у плавательного бассейна, и все девушки Корелли, золотистые и теплые, как свежевыпеченные булочки, и белогрудая Натали Сорель с ее танцующей походкой, и Констанс, произносящая по буквам «Мейраг».
Потом они не спали. И ни о чем не говорили. Лежали в каком-то бесконечном, упоительном трансе. Но как только сквозь ставни проникли первые лучи рассвета, Гейл встрепенулась.
— Мне надо идти. — Голос ее звучал почти нормально. Если бы ему сейчас пришлось заговорить, то его голос донесся бы откуда-то издалека. Ему было все равно, уходит она или остается. Сквозь туман он видел ее платье. Ее вечернее платье.
Она наклонилась к нему и поцеловала.
— Спи. Спи, моя истинная любовь.
И она ушла. Он знал, что должен задать ей вопрос, но забыл какой.
16
Он почти уже кончил укладываться. Он путешествовал налегке, поэтому, куда бы он ни ехал, мог собраться за четверть часа. Он заказал разговор с Парижем, но телефонистка сказала, что все линии заняты. Он попросил ее все же попробовать пробиться.
Когда телефон зазвонил, он с неохотой взял трубку. Не очень-то приятно объяснять Констанс, что он не будет обедать с ней в понедельник. Но на проводе оказалась не Констанс. Это был Бейард Пэтти, он говорил таким голосом, словно кто-то сдавил ему горло:
— Я в холле, мистер Крейг. Мне надо вас увидеть.
— Я укладываюсь, и к тому же…
— Говорю вам, мне надо вас увидеть, — задыхался Пэтти. — У меня вести от Энн.
— Поднимайся ко мне, — сказал Крейг и назвал ему номер своего «люкса».
Когда Пэтти вошел в комнату, вид у него был дикий — волосы и борода всклокочены, глаза воспалены, точно он не спал несколько суток.
— Ваша дочь, — сказал он тоном обвинителя, — знаете, что она сделала? Удрала с этим жирным старым пьяницей — писателем Йеном Уодли.
— Подожди, — сказал Крейг и сел. Это была автоматическая реакция в попытке собраться с мыслями, соблюсти хотя бы видимость приличий. — Не может быть. Это невозможно.
— Вы говорите «невозможно». — Пэтти стоял прямо перед ним и судорожно размахивал руками. — Вы же не разговаривали с ней.
— Откуда она звонила?
— Я спросил. Она не сказала. Только сказала, что она со мной порывает, что я должен забыть про нее — она теперь с другим. С этим жирным старым пьяницей…
— Минутку. — Крейг встал и подошел к телефону.
— Кому вы звоните?
Крейг попросил телефонистку набрать номер гостиницы Уодли.
— Успокойся, Бейард, — сказал он, дожидаясь, когда его соединят.
— Вы говорите «успокойся». Вы ее отец. Вы спокойны? — Пэтти подошел и встал рядом с Крейгом, словно не доверяя ему и желая собственными ушами услышать все, что скажут по телефону.
Когда телефонистка в гостинице Уодли ответила, Крейг сказал:
— Monsieur Wadleigh, s'il vous plait.[35]
— Monsieur Wadleigh n'est pa l,[36] — сказала телефонистка.
— Что она говорит? — громко спросил Пэтти.
Крейг жестом велел ему замолчать.
— Vous tes sre, madame.[37]
— Oui, oui, — нетерпеливо ответила телефонистка, — il est parti.[38]
— Parti ou sorti, madame.[39]
— Parti, parti! — Телефонистка повысила голос. — Il est parti hier matin.[40]
— A-t-il laiss une adresse?[41]
— Non, monsieur, non! Rien! Rien![42] — Женщина уже кричала. Фестиваль начинал сказываться на нервах гостиничных телефонисток. Связь прервалась.
— Ну, что вы узнали? — требовательно спросил Пэтти.
Крейг тяжело вздохнул.
— Уодли вчера утром расплатился и съехал. Нового адреса не оставил. Вот тебе урок французского языка.
— Что же вы теперь собираетесь делать? — спросил Пэтти. Вид у него был такой, точно он сейчас кого-то ударит. «Наверное, меня», — подумал Крейг.
— Собираюсь уложить вещи, — сказал он. — Уплатить по счету, поехать в аэропорт и улететь в Нью-Йорк.
— И не собираетесь искать ее? — с изумлением спросил Пэтти.
— Нет.
— Да что же вы за отец?!
— Отец как отец. Видимо, в наши дни таким и надо быть.
— Будь я ее отцом, я бы разыскал этого мерзавца и задушил собственными руками.
— Значит, у нас с тобой разные понятия о родительском длге, Бейард.
— Это же ваша вина, мистер Крейг, — с горечью сказал Пэтти. — Вы испортили ее. Своим образом жизни. Бросаетесь деньгами, словно они на деревьях растут. За девчонками бегаете, думаете, я не знаю об этой цыпочке — Гейл Маккиннон…
— Ну хватит, Бейард. Конечно, сам я не могу тебя отсюда вышвырнуть, но это может сделать полиция. А даже маленький французский полицейский может причинить большому молодому американцу много неприятностей.
— Не надо мне угрожать, мистер Крейг, я ухожу. Об этом не беспокойтесь. Вы мне противны. И вы и ваша дочь. — Он двинулся было к выходу, но остановился. — Только один вопрос: вам приятно, что она сбежала с этой старой развалиной?
— Нет, — ответил Крейг. — Неприятно. Очень неприятно. — Он счел излишним напоминать Пэтти, что Йен Уодли значительно моложе Джесса Крейга. — И мне жаль тебя, Бейард. Честное слово. Я думаю, тебе лучше всего последовать совету Энн и забыть ее.
— Забыть ее! — Пэтти горестно покачал головой. — Легко сказать, забыть ее. Нет, мистер Крейг, этого я не смогу. Я же себя знаю. Не смогу — и все тут. Не знаю, смогу ли жить без нее, не то что забыть. — Лицо его исказилось, из груди вырвалось громкое рыдание. — Как вам это нравится, — пристыжено проговорил он, — я плачу. — Он резко повернулся и выбежал из комнаты, хлопнув дверью.
Крейг устало провел рукой по глазам. Во время бритья он присмотрелся к своему лицу и понял, что выглядит сегодня не лучше, чем Пэтти.
— Сукин сын, — громко сказал он. — Несчастный сукин сын. — Слова эти относились не к Бейарду Пэтти.
Он пошел в спальню и уложил последние вещи.
При регистрации в аэропорту служащий сказал ему, что его самолет вылетает с часовым опозданием. Сказал он это любезным тоном, словно подарок преподносил. Подарил лишних шестьдесят минут французской цивилизации. Крейг подошел к соседнему окошечку и послал Констанс телеграмму с извинениями. И только начал составлять телеграмму своей секретарше в Нью-Йорке, чтобы она встретила его в аэропорту Кеннеди и забронировала номер в гостинице, как услышал голос Гейл:
— Доброе утро.
Он обернулся. Она стояла рядом. На ней были тенниска и белые джинсы. Лицо скрывали чрезмерно большие темно-зеленые очки — такие были на ней в первое утро, она выбросила их потом в окно машины, когда они возвращались из Антиба. Наверно, она закупила их целую партию.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он.
— Провожаю одного друга. — Она улыбнулась, сняла очки и стала небрежно вертеть их в руке. Лицо у нее было свежее, взгляд ясный. Словно только что выкупалась в море. Отличная реклама достоинств марихуаны. — Портье сказал мне, когда вылетает самолет. Времени у тебя осталось немного.
— Портье ошибся. Самолет опаздывает на час, — сказал Крейг.
— Драгоценный час. — В ее тоне звучала ирония. — Добрая старая «Эр-Франс». Всегда оставляет время для прощания. Выпьем?
— Если хочешь, — сказал он. Отъезд оказался не таким легким, как он предполагал. Он поборол в себе желание пойти к столу регистрации пассажиров, попросить обратно багаж и сказать служащему, что раздумал лететь. Но он сдал телеграмму в Нью-Йорк, расплатился и, держа кожаную папку с «Тремя горизонтами» и перекинув через руку плащ, направился к лестнице, ведущей в бар. Появление Гейл его не радовало. После сцены с Пэтти встреча с ней только портила впечатление от ночи, проведенной вместе. Он шел быстро, но Гейл легко за ним поспевала.
— Ты странно выглядишь, — сказала Гейл.
— У меня была необычная ночь.
— Я не о том. Я еще ни разу не видела тебя в шляпе.
— Я надеваю ее, только когда путешествую, — сказал он. — Так уж получается, что всюду, где бы я ни выходил из самолета, идет дождь.
— Не нравится мне эта шляпа. Добавляет к твоему портрету другие штрихи. Обескураживающие. Делает тебя похожим на всех остальных.
Он остановился.
— Я думал, мы уже попрощались ночью. Сегодняшнее прощание вряд ли будет приятнее.
— Согласна, — спокойно сказала она. — Обычно я не люблю торчать с отъезжающими в залах ожидания и на платформах. Все равно что тянуть и без того растянутую старую резину. Но сейчас особый случай. Ты не находишь?
— Нахожу. — Они двинулись дальше.
Они поднялись на террасу с видом на летное поле и сели за столик. Он заказал бутылку шампанского. Всего несколько дней назад на этой террасе он ждал прибытия дочери. И дождался. Вспомнил книгу «Воспитание чувств», выпавшую из ее брезентовой сумки. Вспомнил, как его раздосадовала ее непривлекательная одежда. Он вздохнул, Гейл, сидевшая напротив него, не спросила, почему он вздохнул.
Когда официант принес шампанское, Гейл сказала:
— Это поможет нам скоротать час.
— Я думал, ты днем не пьешь, — сказал он.
— А мне кажется, что сейчас совсем темно.
Они молча пили, глядя на голубое море, простиравшееся за бетонированным полем. Двухмачтовая яхта, кренясь от ветра и разрезая носом встречную волну, неслась на всех парусах в сторону Италии.
— Страна курортов и развлечений, — сказала Гейл. — Уплывем куда-нибудь вместе?
— Как-нибудь в другой раз, — сказал он.
Она кивнула.
— В другой раз…
— Пока я не улетел… — Он налил себе еще шампанского. — Ты должна ответить мне на один вопрос. Что это за история с твоей матерью?
— Ах, с моей матерью? Что ж, ты имеешь право спросить. Моя мать — женщина разносторонних интересов. — Гейл рассеянно вертела в руке бокал и смотрела не мигая на белые паруса, видневшиеся за посадочной полосой. — Немного училась в художественной школе, увлекалась керамикой, была режиссером в одной маленькой труппе, целый год занималась русским языком, полгода жила с югославским танцовщиком. Кем она совсем не интересовалась — это моим отцом. Она говорила ему, что у него торгашеская душа. Не знаю, что она имела в виду. И еще, как потом выяснилось, она не интересовалась мной.
— Таких женщин я встречал сотни — сказал Крейг. — Но ко мне-то какое она имела отношение? Я в югославском балете никогда не танцевал.
— Можно мне еще шампанского? — Гейл пододвинула ему бокал. Он его наполнил. Мускулы на ее шее почти не дрогнули, когда она сделала глоток. Он вспомнил, как целовал ее шею.
— Когда-то она у тебя работала. Давно это было. Насколько я знаю свою мать, ты с ней спал.
— Даже если и спал, — сердито сказал он, — нечего намекать на кровосмешение.
— О, ни о чем таком я не думала, — спокойно сказала Гейл. — Для меня это была всего лишь шутка. Я пошутила сама с собой. Не бойся, милый, я не твоя дочь.
— Я и мысли такой не допускал, — сказал он. Внизу группа механиков зловеще возилась с шасси самолета, на котором ему предстояло лететь в Нью-Йорк. Нет, он, наверно, никогда не покинет землю Франции. Он умрет на ней. Гейл сидела напротив него в ленивой, раздражающе непринужденной позе. — Ну хорошо. Как ее звали и когда она у меня работала?
— Звали ее Глория. Глория Талбот. Говорит это тебе что-нибудь?
Он напряг память и покачал головой.
— Нет.
— Неудивительно. Она работала у тебя не более двух месяцев. Когда шел твой первый спектакль. В то время она только что кончила колледж, околачивалась возле театра, вот и поступила в твою контору наклеивать в альбомы газетные вырезки, подбирать рецензии и рекламные статьи о тебе и об участниках спектакля.
— Господи, Гейл! С тех пор я принял и уволил не меньше пятисот женщин.
— Ну разумеется, — спокойно сказала она. — Но ты, очевидно, производил на дорогих мамуль особо сильное впечатление. Она продолжала заниматься этим благочестивым делом и после ухода от тебя. Не думаю, чтобы среди этих пятисот женщин была еще хоть одна, которая и после замужества собирала каждое слово, написанное о тебе, и каждую твою фотографию, напечатанную в период с сорок шестого по шестьдесят четвертый год. «Джесс Крейг выпускает в этом сезоне новую пьесу Эдварда Бреннера… Джесс Крейг подписал контракт с „Метро Голдуин Майер“ на выпуск картины. Джесс Крейг завтра женится… На снимке: Джесс Крейг с женой перед отъездом в Европу… Джесс Крейг…»
— Довольно, — прервал ее Крейг. — Все ясно. — Он с удивлением покачал головой. — Зачем она это делала?
— Мне так и не довелось спросить ее. Возможно, она и сама не могла разобраться в своих привязанностях. А вырезки попались мне на глаза после того, как она сбежала. Тогда мне было шестнадцать лет. Сбежала она с каким-то археологом. Я получала открытки из Турции, Мексики и других стран. Двадцать два альбома в кожаных переплетах. На чердаке. Отец уехал всего на два дня, так что ей надо было действовать быстро. Я разбирала на чердаке всякий хлам — отец не захотел больше жить в этом доме, и мы переезжали — и наткнулась на эти альбомы. Немало счастливых часов провела я, изучая историю Джесса Крейга. — Гейл криво усмехнулась.
— Вот откуда у тебя столько сведений обо мне.
— Да. Хочешь знать, как ты провел лето пятьдесят первого года? Хочешь знать, что написала о тебе «Нью-Йорк тайме» одиннадцатого декабря пятьдесят девятого года? Спроси у меня. Я тебе скажу.
— Лучше не надо. И после всего этого ты считала само собой разумеющимся, что у меня с твоей матерью был роман?
— Если бы ты знал мою мать, то не удивился бы, что я так считала. Особенно если учесть, что тогда я была шестнадцатилетней девочкой с романтическими наклонностями и сидела на чердаке, а моя мать только что сбежала с археологом в пустыню. Если хочешь вспомнить, какая она была, я пришлю тебе ее фотографию. Говорят, я очень похожа на нее — она была такой же в моем возрасте.
— Не надо мне никаких фотографий, — сказал Крейг. — Не знаю, каким тебе представляется мой образ жизни в молодые годы…
— Завидным. На снимках я видела выражение твоего лица.
— Возможно. Но если чему и следовало тогда завидовать, так это моей любви к женщине, на которой я впоследствии женился, полагая, что и она меня любит. Ни на кого другого я в то время не смотрел. И какое бы мнение у тебя ни сложилось обо мне за эту неделю, я никогда не отличался неразборчивостью в связях и, уж конечно, помню имена всех женщин, с которыми когда-либо…
— А мое имя ты тоже будешь помнить через двадцать лет? — с улыбкой спросила Гейл.
— Обещаю.
— Отлично. Теперь ты знаешь, почему мне так хотелось встретиться с тобой, когда я узнала, что ты в Канне. Я ведь выросла вместе с тобой. В определенном смысле.
— В определенном смысле.
— Так что для меня это была волнующая встреча. Ты стал частью моей семьи. Тоже в определенном смысле. — Она взяла бутылку и налила себе шампанского. — Даже если ты и не прикоснулся ни разу к моей матери и не знал ее имени, все равно ты оказал на нее какое-то роковое влияние. Твоя жизнь явно восхищала ее. И так же явно не удовлетворяла собственная жизнь. Причем одно как-то глупо связано с другим. В сущности, ты не можешь винить меня за то, что я начала думать о тебе с неприязнью. И любопытством. В конце концов я поняла, что должна с тобой встретиться. Найти способ. Учти, что мне тогда было шестнадцать лет.
— Но сейчас-то уже не шестнадцать.
— Сейчас не шестнадцать. Скажу тебе правду: я чувствовала себя оскорбленной. Ты был слишком удачлив. Все у тебя слишком счастливо складывалось. Ты всегда оказывался там, где нужно. Тебя всегда окружали нужные люди. Ты купался в славе. Никогда не допускал неверных высказываний. Если судить по твоим фотографиям, с возрастом ты даже не полнел…
— Так это же — газетная реклама, черт побери! — Крейг нетерпеливо махнул рукой. — Какое это имеет отношение к реальности?
— Но ведь ничего другого я о тебе не знала, пока не вошла к тебе в номер. Все, что с тобой связано, было таким разительным контрастом моей глупой матери, ее керамике, ее югославу, моему отцу и его пропыленной филадельфийской конторе, где он с трудом зарабатывал на жалкую жизнь. Во-первых, мне хотелось посмотреть, какой ты на самом деле. Во-вторых, причинить тебе как можно больше зла. Кое в чем я преуспела, не правда ли?
— Да, преуспела. А теперь…
В эту минуту раздался серебряный перезвон, призывающий к вниманию, и женский голос объявил по радио, что пассажиров, вылетающих рейсом Ницца-Нью-Йорк, просят немедленно пройти на посадку. Механики, хлопотавшие у самолета, таинственно исчезли. Гейл прикоснулась пальцами к его руке.
— А теперь, по-моему, тебе пора идти вниз и садиться в самолет.
Он расплатился, и они, пройдя мимо бара, спустились по лестнице в главный зал. Не доходя до паспортного контроля, он остановился и спросил:
— Увидимся мы еще когда-нибудь?






