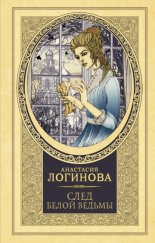Помнишь ли ты, Анаис? (сборник) Бюсси Мишель

И готово дело, можно спросить о куклах!
Моя грубая уловка не обманула Мюгетту, но Полина отвечает, не заморачиваясь лишними вопросами:
– Я не знаю. Разве они не остались у вас?
Я помню, как однажды субботним утром Стан и трое его друзей с тулузским акцентом прикатили к нам в фургоне и за какой-то час вынесли из дома все детство Полины: мебель, книги, тетради, игрушки, одежду.
Грабеж средь бела дня. Нам осталась пустота.
– Нет, Полина. Ты все забрала.
Она задумывается. Моя дочь все такая же хорошенькая, когда хмурит брови. Паршивец Стан осознает, как ему повезло? Понимает, что поймал в свои сети лучшую в мире девушку?
– Не все, – возражает Полина. – Я увезла только нужное: письменный стол, музыкальный центр, книги и конспекты. Игрушки я точно в Тулузу не брала.
Не может быть, Полина!
Я только качаю головой, чтобы не перечить моей детке при муже, но знаю, что говорю. Кукол в доме нет. Я все перерыл. Нашел какие-то старые игрушки, школьную доску, пеленальный столик, но ни одной куклы!
– А разве вас не заливало? – спрашивает вдруг Полина.
Черт! Она права! Заливало! В конце зимы 2014-го сорвало черепицу, и мы обнаружили протечку на чердаке. Многие коробки промокли, пришлось выбросить все, что заплесневело. Пытаюсь вспомнить, что именно, и не могу…
– Да, – утвердительно киваю я.
Кажется, Мюгетту все это забавляет. Но пусть не надеется, я легко не сдамся. Коль скоро у Полины такая хорошая память, пусть покажет, на что способна!
– Ты их помнишь? – Выдержав театральную паузу, достаю фотографию из висящей на спинке стула сумки.
Четыре куклы сидят в ряд. Черненькая, беленькая, рыженькая и лысая.
Такое чувство, что Мюгетта сейчас плеснет мне в лицо розовым вином с грейпфрутовым соком. Или запустит в меня блюдцем с оливками. Но она колеблется – выбирает между боевым истребителем и пикирующим бомбардировщиком. Воспользовавшись ее замешательством, передаю снимок Полине. Моя бывшая фея-егоза, ныне почтенная матрона, берет фотографию равнодушно, и вдруг лицо ее так и сияет.
Как при вспышке молнии.
Сразившей меня наповал.
За долю секунды мне открылась истина: все, что я пережил, чего ждал, что терял, стоило этой минуты. Этой чистой эмоции.
Моя дочка, ставшая женщиной, ставшая серьезной, ставшая сексуальной, знающая, от чего отказалась, и довольствующаяся тем, чего добилась, моя Полина, взглянув на фотографию, вновь обернулась девочкой, со всеми детскими мечтами, откуда ни возьмись всплывшими на поверхность, девочкой без комплексов, без мальчиков, без бремени двух тысячелетий женского удела на плечах… Просто девочкой, которая твердо верит, что жизнь можно лепить, как пластилин.
Что четыре ее куклы живые и единственные в мире.
Полина проводит пальцем по четырем пластмассовым рожицам:
– Шарлотта, Лора… Имани и Келли.
Я гоню от себя мрачную мысль.
Ты бросила их. И папу тоже бросила.
– Ты их нашел! – радуется Полина. – Ты привез их?
Мое сердце дрожит, как веки дочери.
Стан смотрит на жену как на безумную.
Ничего, привыкай, старина, в твоей одомашненной фее живет фея-мечтательница, которую тебе никогда не приручить!
Окрыленный (теперь у меня есть доказательство! Полина с уверенностью опознала на снимке своих кукол!), я открываю рот, чтобы рассказать всю историю – про ярмарку-от-всех, женщину в платье с маками, невероятные совпадения, диски, машинки, игры, лошадку-качалку… но Мюгетта пребольно пинает меня под столом ногой.
В ход пошла тяжелая артиллерия.
– Ты только за этим и поехал в Тулузу! Не для того чтобы повидать дочь. Не для того чтобы повидать зятя. Исключительно потому, что одержим этой дурацкой историей!
Мюгетта бушует, сидя на кровати. Когда моя жена в таком состоянии, лучше спрятаться под зонтом и переждать грозу.
– Тсс! – шиплю я. – Они услышат.
– Ну и пусть!
Мюгетта встает и начинает расхаживать вокруг чемоданов в гостевой комнате. (Кретин Станислас не меньше пяти раз повторил: Дорогая, твои родители займут гостевую комнату! Значит, мы теперь гости, а не семья?)
– Ты вообще соображаешь? – орет Мюгетта. – Ты врал мне с самого начала. На поездку в Тулузу тебя сподвиг твой бред! История с куклами! Которых мы выбросили на помойку сто лет назад.
Я помалкиваю, жду, когда утихнет буря, а Мюгетта, покружив еще немного, осматривает комнату, распаковывает чемоданы и говорит, говорит обо всем на свете – какой изумительный дом, какой замечательный муж Станислас, какая они чудесная пара.
Лучше еще раз попросить прощения, чем все это выслушивать!
– Мне очень жаль, Мюгетта. Это вышло само собой, по ходу разговора, вспоминали Грецию, каникулы, детские игрушки…
Напрасный труд. Мюгетта слишком хорошо меня знает, чтобы купиться на жалкие извинения. За неимением других аргументов иду ва-банк.
– И все-таки, скажи, ты видела глаза нашей девочки? Заметила, как загорелся ее взгляд, когда она держала в руке фотографию кукол? Ты не можешь этого отрицать. Улыбка дочери стоила всех на свете тестов ДНК. Полина их узнала!
– Ты больной, Габи. Больной на всю голову!
Наутро мы выходим к завтраку и по пути заглядываем в будущую детскую. Большая комната с белыми стенами практически пуста, только матрас на полу, коробки, древний компьютер и допотопный принтер.
Комната ожидания. Комната ребенка, которого не чают дождаться.
В центре, как стреноженная, спокойно покачивается лошадка.
Мюгетта, конечно же, ее заметила! Она тянет меня за руку:
– Смотри, Габи… лошадка! Та самая, которую подарила нам твоя мать, когда родилась Полина. Она здесь!
Я ошарашенно рассматриваю красное седло, полосатую гриву, серебряные копыта. Непослушными губами выговариваю вопрос:
– Разве не ты сказала, что она лежит в гараже, развинченная и распиленная?
– Ну, значит, Полина забрала ее, починила, покрасила, – радуется Мюгетта. – Или я ошиблась. Но не это главное. Раз лошадка-качалка, сделанная в единственном экземпляре, как ты сам мне напомнил, терпеливо ждет своего часа в этой комнате, значит, на стенде ярмарки-от-всех ты видел другую игрушку!
Этот раунд за тобой, Мюгетта.
По крайней мере, на первый взгляд.
Рассмотрев повнимательнее тулузскую лошадку, я начинаю сомневаться. Насколько мне помнится, у нашего скакуна седло было посветлее, уши подлиннее, копыта не такие блестящие. Мелочи, о которых я тебе не скажу, Мюгетта, но меня они убедили, что на ярмарке в Туфревиле была выставлена лошадка моей дочери… а в этой комнате живет самозванка!
Завтрак напоминает прекрасный сон. Стан отправился в Бальма учить летать самолеты, и дочь сегодня принадлежит только нам. В доме царит восхитительный кавардак, Полина выглядит более раскованной.
Я ликую. Моя маленькая фея снова со мной, полная жизни, забавная, веселая, она копирует окситанский акцент, подражая булочнице, рассыпает по всей кухне крошки, запихивая в тостер слишком толстые ломти хлеба, жонглирует тремя апельсинами, перед тем как выжать из них сок, звонко хохочет при виде обуглившихся тостов.
Как я мог прожить почти полгода, не видя Полину? Даю себе клятву, что мы будем приезжать часто, очень часто. И не только из-за истории с куклами… и не только ради будущей внучки (у них будет девочка, я уверен).
Мы сидим втроем, нежась на утреннем солнышке. Я терплю, прикусив язык. Клянусь вам, я терпел весь завтрак.
Наконец, допив кофе, я отодвигаю стул подальше от туфелек Мюгетты, перевожу взгляд на Лангедокский канал и спрашиваю Полину:
– А откуда лошадка-качалка в будущей детской? Она очень похожа на ту, которую подарили тебе на рождение. Где ты ее нашла?
Дочь отвечает, расплываясь в клоунской улыбке из капучино:
– Мне ее подарила бабуля!
Комментарий Мюгетты
Ты оставляешь мне мало места, Габи, поэтому отвечаю точечно. Во-первых, ты несправедлив к Станисласу, милый. Ты так трогательно относишься к Полине и по-глупому дуешься на зятя. Боюсь, тебе все-таки придется смириться.
А насчет гнева Тяжелой Артиллерии ты малость преувеличиваешь, тебе не кажется? Пусть и в интересах читателей.
И наконец, ты ошибаешься в главном, мой Габи. Когда Полина родит, мы с тобой будем нянчить маленького мальчика!
8
Я ненавижу это место! Бываю здесь так редко, как только могу. Если моему рассказу суждено принести хоть какую-то пользу, то вот эту: я черным по белому, при свидетелях, пишу эти строки, которые прошу считать завещанием. Я отказываюсь здесь доживать!
Хотя бы ради того, чтобы не терзать моих детей этим испытанием.
От которого, должен признать, максимально часто уклоняюсь. Жизнь мамы в доме престарелых организована, распланирована, расписана по часам двумя моими сестрами, они делят между собой и еженедельные посещения: Стефани по средам, Брижит по субботам. Они взяли на себя все: белье, медицинский уход, бумажную волокиту и даже разговоры. Мне оставили большие праздники, Рождество и дни рождения, а в остальном: Оставь, Габи, оставь, не грузись, мы сами.
Вот так же мамы никогда не дают папам толком заниматься детьми. В чем-то они правы – не мамы в отношении детей, нет, дочки в отношении мамы.
Стефани и Брижит наделены удивительным даром находить темы для разговоров, они могут по три часа тянуть время за остывающим чаем, под бормотание телевизора, заполняя послеобеденные часы вереницами слов.
В те редкие разы, когда я навещаю маму в дневное время, успеваю исчерпать все темы едва ли не за три минуты. Сестры меня понимают, они знают, что любовь измеряется не количеством слов. Ее можно выражать молча и доказывать делами, найти, например, уютный ресторан, чтобы собрать всю семью, симпатичное местечко у моря, музей или выставку, куда можно пойти всем вместе.
Можно было.
Маме исполнился девяносто один год.
– Габриэль, почему ты здесь? Ничего не случилось?
Мама уже не очень дружит с головой, но память сохранила превосходную. Самые давние ее воспоминания – они же самые точные.
– Не волнуйся, все хорошо. Я просто ехал мимо.
– Тебе не надо извиняться, ты же знаешь.
Нам почти нечего сказать друг другу, но мама знает меня как никто. Она умеет расшифровывать мое молчание. Толковать мои жесты. В четыре слова уместилась невысказанная жизнь.
Тебе не надо извиняться.
Будь мы способны поддержать беседу, могли бы проговорить весь день. Мама рада моему визиту, так с какой стати мне оправдываться? Разве я не могу просто войти и сказать: Мне захотелось повидать тебя, мама. Наверное, я должен приезжать чаще?
И я мысленно повторяю: Я должен приезжать чаще.
Мы говорим о детях, о Мюгетте, немного о моих книгах (первый том «Преступлений под яблонями» лежит на тумбочке у кровати) – и ни слова о моей пенсии (кто может вообразить, что будет однажды говорить о своей пенсии с родителями?). Я с удивлением замечаю, что выдержал почти тринадцать минут. Повисает пауза, мама уверена, что ее сын сейчас встанет и смоется, но я усаживаюсь поудобнее и, откашлявшись, продолжаю разговор:
– Ты подарила Полине лошадку-качалку?
Мама удивлена. Она лепечет сконфуженно, как ребенок, застигнутый с банкой варенья:
– Ну да, подарила, уж ты меня прости. Обычно эту игрушку дарят, когда малыш уже родился. Но я знаю, что у Полины и Станисласа трудности. Все будет, надо только набраться терпения, раз Полине нужен именно такой мужчина. У них будут чудесные дети. Но ведь я старею. Сердце колотится как шальное, боюсь, что уйду раньше, чем появится правнук. Или руки у столяра будут слишком дрожать…
– Столяра?
– Андре. Они с твоим отцом были однополчанами, так, кажется, говорили в старину. Наш свидетель на свадьбе. Он живет в Кань-сюр-Мер. Ты можешь его помнить, вы иногда встречались, а когда тебе исполнилось десять лет, он переехал. Андре делает таких лошадок. Ему под девяносто, но руки золотые. Почти как раньше.
– А другая лошадка, та, что ты подарила к рождению Полины, что с ней сталось?
– Откуда мне знать? Надеюсь, она у вас сохранилась.
Я прокручиваю в голове слова Мюгетты. Лошадка-качалка пылилась на чердаке, почти сгнила, и я распилил ее на куски. Медленно достаю фотографию деревянной игрушки на стенде маковой женщины и протягиваю ее маме:
– Это она?
– Да, она!
– Ты уверена?
– Конечно. Каждая лошадка Андре уникальна, понимаешь? Сделана специально для ребенка, который должен родиться, каждая отличается от других формой ушей, густотой гривы, цветом глаз. Никаких сомнений, Габриэль: это лошадка Полины. Я рада, что вы так хорошо ее сохранили.
Я едва сдерживаюсь, чтобы не вцепиться в спинку кровати. Мюгетта ни за что не поверит. Мне придется привезти ее сюда, чтобы мама все повторила, чтобы…
– Ты еще приедешь ко мне?
– Конечно, мама.
Я приеду. Я искренне так думаю. Да, я приеду с вещами, с фотографиями, с книгами, и мы поговорим о прошлом и о будущем… И о моей книге тоже. Множество людей, которых я знать не знаю, заговаривают со мной, чтобы обсудить ее, почему же я ни разу не говорил о ней с родной матерью? Я смотрю на зелено-красную обложку лежащего на тумбочке томика, поднимаю взгляд на маму, точно школьник, предъявивший родителям дневник:
– Как она тебе?
Мама улыбается.
– А я уж думала, ты никогда не спросишь!
Комментарий Мюгетты
А я, мой Габи? Обо мне ты подумал?
С твоим завещанием все ясно, я усвоила, намотала на ус, выбила на мраморе, мне придется терпеть тебя дома до конца, если ты первым превратишься в развалину…
А как же я?
Что, если мне хочется именно этого – доживать в уютной палате с заботливыми сиделками? Проводить дни в компании старушек, играть с ними в домино или вязать?
Ты не последовал бы за мной? Ты даже не приезжал бы меня навестить, мой Габи? С фотографиями и вещами, чтобы освежить мою память?
Это бабушка надвое сказала, я знаю, все зависит от того, кто первым выживет из ума.
Коль скоро ты так любишь обращаться к читателям, можешь спросить их мнение.
Сдается мне, у тебя есть фора, милый:)))
Я шучу! Видишь, я поставила смайлик, как научила Полина?
Я шучу, Габи. Я очень надеюсь, что мы, не раздумывая и взявшись за руки, прыгнем вместе в безумие безвременья.
9
В дни и недели, последовавшие за описанными выше событиями, я постарался сосредоточиться на втором томе «Преступлений под яблонями». И более-менее преуспел, проклиная безумную историю с ярмаркой-от-всех, которая так и оставалась непроясненной.
Я продолжал расследование тайком, стараясь, чтобы Мюгетта ничего не узнала. Задействовал свою сеть, бывший родительский комитет, друзей по библиотеке, служащих мэрий окрестных поселков. Показывал всем фоторобот, и кольцо вокруг бывшей няни из Мон-де-л’Иф, чьи дети ходили в школу одновременно с Полиной и Флорианом, постепенно сжималось. Я наконец выяснил ее имя: некая Сильви Тонневиль!
От моих источников я также узнал, что Полина могла ходить в цирковой кружок в коллеже с дочкой этой Сильви, что Мюгетта могла быть избрана в родительский комитет одновременно с ней, но что с тех пор она успела развестись, переехала и, скорее всего, снова вышла замуж, потому что никакой Тонневиль не оказалось ни в телефонном справочнике, ни в интернете. В общем, я по-прежнему ничего о ней не знал, кроме того, что наши дети, возможно, вместе учились.
Мало-помалу у меня оформилась безумная гипотеза (и сколько я ни ломал голову, она оставалась единственной правдоподобной): что, если эта женщина и вправду отслеживала нашу жизнь? Как в жутковатом фильме «Одинокая белая женщина»[33]. Только Сильви Тонневиль показалось мало подражать (как делала героиня фильма) одной женщине, которой она болезненно завидовала, нет, она решила подражать целой семье. Чтобы в один прекрасный день послать все к чертям и сбыть на барахолке скопированную жизнь.
Почему? Совесть замучила? Что-то стряслось у Тонневилей? Ушли дети? Бросил муж? Зачем было копировать именно нашу семью? Что в ней завидного? Исключительного? Не было ли у Полины и Флориана особых отношений с детьми Тонневилей?
Мюгетте я ничего говорить не стал. Твердо решил держать все в себе, пока не пролью свет на это дело, но часто жалел об этом. А что, если Мюгетта подвергается опасности? Что, если она дружила с этой Сильви Тонневиль, когда дети были маленькими?
Второй том «Преступлений под яблонями» вышел 30 июня. Все лето я мотался по окрестным книжным салонам и, сбывая любопытным зевакам от десяти до тридцати книг каждый уик-энд, к концу августа превысил цифру продаж в пятьсот экземпляров, так что издатель сразу заказал мне третий том. С одним пожеланием: не расширять географические рамки и по возможности углубиться в прошлое. В идеале – написать криминальную историографию коммуны и окрестностей со времен античности! Выкопать все трупы, спрятанные под домами мирных обывателей в разных геологических слоях, начиная с юрского периода.
Ничего не скажешь, программа обширная. Амбициозная. Заманчивая. Самоубийственная.
Я начал собирать материал. И чем больше я звонил в двери, сидел в архивах, рылся на чердаках, бродил по кладбищам, тем чаще ловил на себе косые взгляды. Казалось, каждый местный житель боялся, что я обнаружу у него прадеда-садиста или предка-педофила.
В День всех святых, на официальной автограф-сессии моего второго тома, устроенной в библиотеке Туфревиля, за широкими улыбками и дежурными поздравлениями мэра и советника по культуре мне почудилось нечто странное. Я кого-то потревожил.
Все связано.
Деревня меня сторонится. Мои источники молчат. Знакомые не здороваются. Друзья отворачиваются. Плевать! Пусть расследование будет стоить мне добрых отношений со всеми соседями – благодаря ему я вновь обрел семью!
В ноябре у мамы случилось просветление и она назвала имя свидетеля-столяра: Андре Ломбар. Я отыскал его в доме престарелых в Манделье. Он продолжал выпиливать и сколачивать деревянные вещицы, однако только сам и знал, кого они изображают, но больше не помнил решительно ничего.
«Не настаивайте, у него в мозгах опилки», – деликатно шепнула мне сиделка. Я также дал объявление о розыске Шарлотты, Лоры, Имани и Келли. Специально открыл страницу в фейсбуке. Безуспешно. Похоже, девочки забывают своих кукол, едва зарегистрировавшись в социальных сетях.
Еще я сделал несколько телефонных звонков ближайшим друзьям Флориана – тем, кому он мог одолжить альбомы Nirvana, Metallica и Death Angel. Через несколько часов проклюнулся Флориан.
– Папа? Я сейчас говорил с Нико. Ты спрашивал, у него ли еще диски, которые я дал ему десять лет назад?
– Гм… Да… Ну, ты же сам сказал, что кто-то не вернул их тебе.
– Ты спятил, пап? Позоришь меня перед моими друзьями!
– Я серьезно, сынок. И, кстати, Нико и другие твои приятели считают, что спятил ты. Им совсем не понравились твои обвинения. Они утверждают, что никогда в жизни не брали у тебя ни единого диска.
Флориан расхохотался.
– Вот паршивцы! А ты – самый нудный отец в мире. Если тебе так дороги эти диски, я хоть сегодня закажу их на «Амазоне», и завтра они будут у тебя.
В середине декабря Полина сообщила нам, что беременна. Мы сразу поехали в Тулузу вместе с Флорианом и Амандиной и впервые провели Рождество по-семейному. Стан просто лопался от гордости: ведь это благодаря его преуспеянию родня жены могла собраться на его тиковой террасе. Чтобы доставить удовольствие зятю, мы с Мюгеттой задержались до начала января. И правильно сделали! Стан в конце концов едва нас не выставил.
За все время пребывания в Тулузе третий том не продвинулся ни на строчку. А Мюгетта на обратном пути перешла в наступление.
Габи, милый, почему бы нам не остановиться в каком-нибудь гостевом доме в горах Пюи? Купим тебе свитер, шарф, ботинки на меху и побродим несколько дней по горным тропам. Совсем небольшой крюк, просто чтобы развеяться. Бесс-ан-Шандесс не так далеко, как Венеция или Санторини.
«Посмотрим, – ответил я. – Там будет видно». Это была отговорка. Для меня вопрос не стоял.
Только прямо.
Сначала разгадать тайну Тонневиль. Потом придет черед тайн юрского периода. Горы подождут.
Комментарий Мюгетты
Ладно, мой Габи, ладно. Я тоже подожду, я терпеливая.
Сначала разгадать тайну Тонневиль.
Я не так глупа, как ты думаешь. Я знаю, чего ты ждешь.
Ты пометил этот день красным в своем ежедневнике.
Воскресенье.
Майское воскресенье.
Если бы я только могла представить…
Ничего, я подожду, обещаю, подожду до этого дня.
А потом, милый, ты будешь мой!
10
Все должно было закончиться, как и началось, в майское воскресенье.
Я сижу в моем кабинете у окна. Ни единого солнечного лучика на горизонте, только бескрайнее серое небо, ни малейший ветерок не всколыхнет листья плакучей ивы и не разгонит мелкий дождик, испещривший каплями воду маленького пруда под моим окном. Ничего! Только дождливый майский день. Пожалуй, слишком ненастный, чтобы не ждать подвоха.
Тридцатисантиметровая кипа газет высится справа от меня, слева от меня стопка из десятка книг, на столе остается чуть-чуть места для ноутбука.
Я, по обыкновению, размышляю, когда раздаются шаги на лестнице.
Мюгетта, кто же еще.
На ней джинсы и толстый шерстяной свитер. Я понимаю, что сейчас она меня гильотинирует.
– Если собралась на прогулку, ничего не выйдет! Бум!
Что я вам говорил?
Если бы было солнышко, ну хотя бы градусов двадцать, я бы сам пришел к Мюгетте с широкой улыбкой и сказал: Я славно поработал, милая, можем прогуляться, если хочешь.
Но сейчас…
– Ты видишь, какие сегодня тучи?
Я беру лежащую поверх архивных материалов газету, не ксерокопию, не древний пожелтевший экземпляр с заголовком о трупе, найденном в петле в сарае старой фермы.
Сегодняшнюю газету.
Воскресенье, 20 мая 2018
Ярмарка-от-всех в День святой Троицы
Муниципальный стадион, Туфревиль-ла-Корбелин
С 9:00 до 19:00
Более 50 участников
– Неужели этот дождичек нас остановит, милая?
Мюгетта с тревогой смотрит на капли-камикадзе, разбивающиеся об окно моего кабинета. Она превосходная актриса, но на сей раз я решил положить конец нашему импровизированному матчу. Разумеется, Мюгетта поняла, чего я хочу. Целый год я только и ждал случая вернуться на стадион и походить между стендами. С единственной надеждой – вновь встретить маковую женщину.
– Если это излечит тебя от навязчивой идеи! – смеется Мюгетта.
– Навязчивой? – ощетиниваюсь я. – Сколько месяцев я тебя этим не донимаю?!
– И тайком продолжаешь поиски… Я же не на другой планете живу, Габи. Твоя мать со мной говорила, и Полина, и Флориан. И все соседи.
Разоблачили!
Мюгетта всегда была хитрее меня.
Мы одеваемся по погоде, выходим на улицу, шагаем быстрым шагом по мокрым тротуарам. Зонтики стекаются к стадиону, словно брошенные чьей-то рукой конфетти.
Я продолжаю разговор. Наконец-то можно высказаться.
– Хорошо, Мюгетта, не спорю, я время от времени думал об этой истории. Но признай, что у моих поисков есть и хорошая сторона. Благодаря им я снова навещаю маму, побывал с Флорианом на матче «Олимпик Марсель» – «Стад Малерб Кан»[34] и на концерте рок-группы Les Insus, съездил к Полине. Все, чего я давно не делал…
Мюгетта отвечает улыбкой, истолковать которую выше моих сил. Вот и стадион. Толпа такая же, и дождь никого не напугал. Участники прячутся в импровизированных палатках или под полиэтиленовыми полотнищами, а десятки посетителей шлепают по грязи.
Человек ко всему привыкает, даже к худшим метеоусловиям. Я собираюсь развить очередную теорию, как вдруг все мысли вылетают из головы. Я останавливаюсь как вкопанный, ноги словно увязли в свежем цементе.
Маковая женщина здесь! Через три стенда от нас. На этот раз не в платье, а в вельветовых брюках и зеленом дождевике с капюшоном, но сомнений быть не может. Это она!
Размокшая земля стадиона превращается в быстро схватывающийся цемент. Я каменею с ног до головы. Прошел целый год, я и сам уже поверил, что этой женщины нет в природе, что мне все померещилось и при любом раскладе найти ее не светит, как бывало в молодости, когда не решишься подойти к понравившейся девушке и она исчезает навсегда, оставив по себе бесконечные сожаления.
С тех пор как я с некоторой долей вероятности установил имя неизвестной, Сильви Тонневиль, но так и не сумел напасть на ее след, чутье мне подсказывало, что женщина прячется. Как будто я, сам того не желая, разоблачил аферу, к которой не имел ни малейшего отношения, оказался случайным свидетелем хитрой махинации, и мошенница, перед тем как скрыться, тщательно замела все следы.
Я ошибался с самого начала! Вот она, Сильви Тонневиль, передо мной!
Непринужденная. Приветливая. Беседует с прохожими. Шутит.
И не думает прятаться.
Рядом со мной молчит Мюгетта. От стенда нас отделяют тридцать метров, но я отлично вижу стол перед женщиной. И не узнаю ни одной вещи. Нет ни машинок, ни фигурок, ни кукол, ни дисков, ни лошадки-качалки. Ничего, чем мог бы заинтересоваться ребенок.
Вытаскиваю ноги из топкого месива и шагаю вперед, силясь разглядеть, что же продает в этом году таинственная женщина. Выбор на сей раз победнее. Товар, преимущественно мелкий, занимает едва ли четверть стола.
Я приближаюсь. И наконец вижу.
Не удержи меня Мюгетта за руку, я бы поскользнулся в ручье жидкой грязи, растекающемся под нашими ногами.
Мюгетта подталкивает меня вперед. Мне странен этот жест – приглашение к новому наваждению. На миг мне кажется, что женщина в зеленом дождевике, предполагаемая Сильви Тонневиль, улыбается Мюгетте, более того, она (если только дело не в капле, упавшей с мокрого капюшона) ей подмигивает.
Я делаю еще шаг. Организаторы рассыпали перед стендами опилки, и в непосредственной близости от участников не так скользко.
Почему Мюгетта так крепко сжимает мою руку?
На столе, среди незнакомых безделушек, красуются: старенький путеводитель туристического маршрута № 30 по горной цепи Пюи и Овернским озерам, сильно потрепанный, в точности такой мы с Мюгеттой таскали в рюкзаке двадцать с лишним лет назад;
две венецианские маски, Пьеро и Коломбина, точно такие же мы привезли из свадебного путешествия, и они долго висели над камином; старые программки оперетт Оффенбаха «Прекрасная Елена», «Орфей спускается в ад» и «Парижская жизнь» (мне смутно помнится, что когда-то давно я был на этих спектаклях); стопка почтовых открыток, на первой – вид Санторини, и я мог бы поклясться, что только вчера отправил ее из Тиры, с самого кратера, и на обороте еще написано «Люблю» и нарисованы два сердечка, которые мы с Мюгеттой когда-то переплели.
Под проливным дождем ее рука еще крепче сжимает мою.