Кодекс экстремала Дышев Андрей
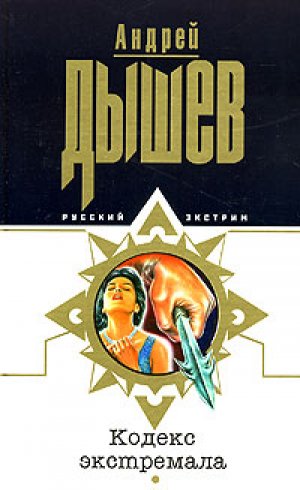
– Его-то за что? – спросил я, поднимаясь с кресла. – Сказали же ясно: криминала нет.
Леша густо покраснел. Игорь Игоревич неожиданно зло рявкнул:
– Молчать!
Татьяна Юрьевна кивнула мне напоследок и певуче произнесла:
– Чао, братишка!
«Может быть, это вовсе не она была в подъезде Лепетихи?» – подумал я, выходя из холла на веранду.
Если начал сомневаться – дело труба.
«Нет-нет! – поспешил исправиться я. – Не может быть! Ошибка исключена. У меня отличная зрительная память. И номер телефона – самая веская улика. Лепетиха сказал мне: начинается на «девяносто». В памяти определителя другого такого телефона не было. Значит, кем бы ни была эта женщина – Эльвирой или Татьяной, с ее офисного телефона кто-то звонил Лепетихе и заказывал убить меня. И это есть истина…»
С такими мыслями я вышел из особняка, с наслаждением вдыхая свежий утренний воздух. Кныш на секунду поравнялся со мной и едва слышно произнес:
– Ну и дурак же ты, батенька.
Я с чистым сердцем пожал ему руку.
Глава 35
Нас с Лешей посадили рядом на заднее сиденье, и я не преминул посмаковать ситуацию.
– Слушай, дружище, а тебя били намного аккуратнее, чем меня!
– Да ну, перестань, – стушевавшись, ответил Леша и тронул себя за скулы. – Все болит.
– Нет-нет, расскажи, как ты сумел так быстро залечить раны?
– Разговорчики! – не оборачиваясь, проворчал с переднего сиденья Игорь Игоревич.
– Гарик, что будешь докладывать? – через минуту спросил Кныш.
Тот не сразу ответил, повернулся, посмотрел в лицо Кныша, потом тронул сержанта за плечо.
– Останови-ка, браток, на минутку.
Кныш и Игорь Игоревич вышли из машины. Я не слышал, о чем они разговаривали. Леша толкнул меня в бок.
– Ты что, не веришь мне?
– Бог с тобой, старичок! Да как самому себе!
Леша внимательно рассматривал мои глаза, словно хотел узнать о моих сокровенных мыслях.
– Понимаешь, – медленно произнес он, – я хотел эту Эльвиру трахнуть между делом.
– Да какой разговор, дружище! Я тебя понимаю. Отпуск, длительное воздержание, отличная кормежка…
– Нет, ты мне не веришь.
Милиционеры вернулись в машину.
– Поехали! – сказал Игорь Игоревич.
Я понял, что они говорили о нашей судьбе. Если действовать по закону, то, конечно, за этот проклятый «ТТ» меня следовало задержать и привезти в отделение. Но если посмотреть с другой стороны, никто этот «ТТ» у меня не видел и даже в случае обыска никогда не найдет – спрятан более чем надежно. От своих слов я могу отказаться. Какой пистолет? Да бог с вами! Никогда в руках не держал и на что нажимать – не знаю! Выдал себя за брата этой женщины? И здесь криминал не ахти какой. Частный детектив, запутался в собственных домыслах: хотел как лучше, а получилось как всегда. Единственная серьезная зацепка – убийство Лепетихи. В этом деле я свидетель номер один. Почему сразу не доложил в милицию, когда обнаружил труп? На каком основании заходил в квартиру убитого? Только за это мне уже могут надавать по шее.
Машина выехала на асфальт, и через несколько минут водитель аккуратно объехал труп собаки. Я проводил его взглядом. Сейчас события минувшей ночи казались сном. Но то, что меня ожидало впереди, вообще представлялось плодом больного воображения.
На кругу перед алуштинским автовокзалом машина остановилась, Игорь Игоревич вышел наружу и молча пожал Кнышу руку.
– Довезешь их до Судака и сразу назад. А мне дочь из школы забирать надо, – сказал он сержанту и захлопнул дверь.
Я очень кстати вспомнил о школе. Сегодня первое сентября – начало занятий.
– Фу-ты ну-ты! Володя, а интересная у нас была ночка, да?
Кныш не ответил мне, демонстративно отвернулся и с деланым интересом стал смотреть в окно.
– Да чего ты такой безрадостный? – спросил я его, хлопая по плечу. – Отделались легким испугом. Так ведь?
– Мне твои легкие испуги, – сквозь зубы ответил Кныш, – слишком дорого обходятся. Учти, в последний раз я вытаскиваю тебя из дерьма.
– Не зарекайся! – безапелляционно ответил я и наклонился над щекой сержанта. – Послушай, братан, тормозни-ка у троллейбусной остановки.
– Куда тебя еще понесло? – устало спросил Кныш.
– Мне с вами не по пути. – Я открыл дверцу и помахал на прощание Леше. Тот как-то жалостливо глянул на меня, словно я оставлял его на тонущем корабле.
– Может, я пойду с тобой? – без всякой надежды спросил он.
– Увы, мой друг! К любимой женщине вдвоем не ходят.
«Эх, Леша, Леша, – подумал я, глядя вслед «уазику», – что ж ты натворил!»
Троллейбусы на Симферополь отправлялись каждые пятнадцать минут, и мне не долго пришлось томиться от предгрозовой духоты. В троллейбусе, продуваемом сквозняком словно на палубе несущегося по морю катера, я уснул, привалившись к окну, и открыл глаза, когда мы уже выруливали на площадь железнодорожного вокзала.
Отыскать в малознакомом городе среднюю школу номер двадцать три оказалось делом более сложным, чем мне представлялось сначала. Подростки школьного возраста на мой вопрос пялили на меня глаза так, словно я спрашивал про двадцать третий публичный дом. Люди постарше пожимали плечами, и все как один утверждали, что они не здешние. У меня сложилось впечатление, что в Симферополе в сезон практически невозможно найти коренного жителя.
Через час утомительных поисков я вошел в прохладный школьный вестибюль, поднялся по лестнице на второй этаж и заглянул в учительскую.
– Что вы хотите? – спросил меня молодой мужчина в легкомысленной футболке – преподаватель физкультуры, наверное.
– Я ищу Наталью Ивановну.
– Наталью Ивановну, Наталью Ивановну, – забормотал физкультурник, подходя к стенду с расписанием. – А у нее сейчас урок.
– И скоро он закончится?
– Он только начался, – усмехнулся учитель. – Присаживайтесь, подождите.
Я глянул на часы, хотя времени у меня было хоть отбавляй. Просто я от природы крайне нетерпелив. Нет для меня страшнее пытки, чем чего-либо ждать. Учитель заметил мой жест.
– Собственно, вы можете заглянуть к ней в класс, если у вас срочное дело.
– Очень срочное, – подтвердил я.
– Десятый «Б». Это на третьем этаже, по центральному коридору.
Я поблагодарил физкультурника, поднялся наверх и приоткрыл дверь с табличкой «10-й «Б».
Пожилая женщина, сидя за столом и подперев щеку рукой, устало говорила классу:
– Что вы понимаете в любви? Любовь – это вовсе не чувство. Это не порыв, не страсть, если хотите…
Она обратила внимание, что все ученики с любопытством смотрят куда-то в сторону – на мою побитую физиономию и перевязанное бинтом колено, и тоже повернула голову.
– Вам что?
Я подумал, что она не узнала меня.
– Извините, Наталья Ивановна. У меня очень срочное дело к вам. Мы с вами недавно встречались…
– Да, я отлично вас помню! – перебила она меня. – Вы же из газеты, я права? Зайдите, не стойте в дверях, а то меня продует сквозняком.
Класс затаил дыхание, предчувствуя смену обстановки. Он не хотел слушать о любви и страсти. Его куда больше интересовали мои зияющие дырами брюки и перебинтованное колено.
Мне пришлось зайти, хотя я бы предпочел, чтобы учительница вышла в коридор.
– Вы очень торопитесь? – спросила она и, не дав мне ответить, добавила: – Сядьте за последний стол и послушайте. Мы говорим о нравственных ценностях, о любви к ближнему и сострадании. Считайте, что это будет преамбулой к нашей с вами беседе.
Я сел рядом с полусонным юношей, который, низко пригибая голову, грыз кончик ручки.
– Из какой газеты? – прошептал он.
– «Криминальный вестник», – не задумываясь ответил я.
– А вы что, с разборок или как? – спросил он, с любопытством оглядывая мой вид.
Я едва досидел до конца урока. И как я раньше мог просиживать за партой по шесть часов в день?
Когда грохочущая лавина учеников очистила класс и после них остались лишь запахи духов и табака, Наталья Ивановна протянула мне полиэтиленовый пакет, набитый тетрадями.
– Поухаживайте… Для учителя литературы и языка самое трудное – разбирать почерк и носить домой сочинения. Потому у меня плохое зрение и хронический остеохондроз. Как, простите, вас величать?.. Ну что ж, Кирилл Андреевич, идемте ко мне, будем пить чай и говорить об Эльвирочке.
Мы спустились вниз. С крыши подъезда ручьями стекала дождевая вода, тяжелые капли с шелестом стегали асфальт, и на нем суетились, словно мячики для пинг-понга, серые пузыри.
– Ну вот, как некстати! – сказал я.
Учительница посмотрела на меня едва ли не с возмущением.
– Что значит некстати? Очень даже кстати! Вы не любите грозу?
– Я люблю смотреть на дождь из окна квартиры.
– Правда? – Мой ответ ей не понравился. – А вы производите впечатление отважного рыцаря… Ну, ничего, не сахарный.
С этими словами она решительно пошла под струи. Мне ничего не оставалось, как поднять воротник куртки и последовать за ней.
– Дождь, голубчик, – это естественная природная среда, – говорила она мне. – Тетрадочки возьмите под мышку, чтобы не намочить. Лет десять назад все повально писали шариковыми ручками. А шарики влаги не боятся. Теперь же пошла мода на перьевые. «Паркеры», «Пилоты», еще какие-то – всего не запомнишь. Особенно мальчики любят ручками друг перед другом хвастать… Сейчас налево…
«Неплохое начало, – подумал я. – Если ее как следует разговорить, то потом и не остановишь».
– Вы сами из Симферополя? Из Судака? Что вы говорите! О! – покачала она головой. – Это моя несбывшаяся мечта – жить на побережье. Если бы это произошло, я купалась бы в море круглый год.
– Вообще-то от Симферополя до моря не так уж и далеко.
– Нет, голубчик. До моря далеко. Меня хватает только на то, чтобы четыре раза в год подниматься на плато Чатыр-Даг. Вы знаете, где находится плато Чатыр-Даг?
– Что-то не припомню.
– Это по дороге на Алушту, как раз напротив перевала. Высота – тысяча двести сорок пять метров над уровнем моря. Эти восхождения – мой особый ритуал. Один раз весной, один раз летом, потом – осенью и зимой.
– Даже зимой?
– Да, – кивнула она. – Представьте, даже зимой. Пока меня на это хватает. Я сшила себе бахилы с влагоотталкивающей пропиткой, купила две лыжные палки и замечательную штормовку – придем, покажу. Рано утром доезжаю до перевала – и вперед! Вечером, когда возвращаюсь домой, еле переставляю ноги. Но зато какое великолепное чувство испытываю при этом!.. Вы еще молоды, и вам не понять нас, стариков.
– Ну почему же…
– Не надо спорить со мной!.. Заходите в этот подъезд. Да что вы голову в плечах утопили? Ну-ка, покажите мне косую сажень, грудь – вперед, подбородок – вверх. Ваши куртка и брюки просохнут за пять минут. Кстати, а что это с вашими брюками? Кто это вас так пощипал?
– Меня покусали собаки, – признался я.
– Что вы говорите! И молчали! Надо немедленно обработать раны!.. Считайте, что вам повезло. У меня есть целебная мазь собственного приготовления.
Перед дверью квартиры Наталья Ивановна нагнулась, откинула половичок и подняла с пола ключи. Это удивило меня куда больше, чем сезонные восхождения на плато немолодой учительницы.
– А вы не боитесь?.. – начал было я.
Но Наталья Ивановна перебила меня:
– Не боюсь. У меня ровным счетом нечего красть. А ключи я могу по рассеянности потерять или забыть в школе… Проходите! Только не надо так старательно вытирать ноги, все равно вы нанесете мне столько грязи, что придется мыть пол.
Когда я вошел в прихожую и оттуда осмотрел единственную комнату, то понял, что у Натальи Ивановны в самом деле красть было нечего. Старенький диван, какой-то допотопный буфет, заставленный рюмками и разнокалиберными чашками, большой сундук и круглый стол на одной ноге. Вот и вся мебель.
– Присаживайтесь, – сказала она, кивая на сундук. – На нем очень удобно. Это когда-то смастерил мой дед.
Она скрылась на кухне. Я рассматривал многочисленные – старые и новые – фотографии в рамках, висящие на стенах. Их было так много, что они закрыли обои.
– Это мои ученики, пятьдесят восьмой год, – сказала Наталья Ивановна, зайдя в комнату и проследив за моим взглядом. Она стала расставлять на столе чашки, сахарницу, маленькие вазочки для варенья, тарелку с пряниками. – А вот это, правее, мой класс на практике. Сборка черешни в деревне Дрофино… А вот чуть повыше – этакая сборная солянка. Все медалисты, которых я выпустила.
Я рассматривал лица, глаза, прически, кофточки, пиджаки. На меня смотрела целая эпоха.
– И все-таки, – произнес я, не отрывая взгляда от фотографий, – скажите, почему любовь – это не чувство, не порыв и не страсть?
Учительница усмехнулась.
– Запомнили?.. Это, голубчик, можно понять только с возрастом. То, что молодежь сейчас называет любовью, – всего лишь реакция нервной системы на внешний раздражитель. Обостренный половой инстинкт плюс яркая, привлекательная внешность – вот все, что необходимо для той любви, о которой молодые говорят. К сожалению, она проходит столь же быстро и внезапно, как и начинается… Снимайте свой бинт, он мокрый и грязный.
– Что ж тогда, по-вашему, настоящая любовь?
– А настоящая любовь, голубчик, – это образ жизни, это посвящение себя кому-то или чему-то другому. Она никогда не проходит. Она все равно что принятие веры, все равно что постриг в монахи…
Учительница замолчала, подошла к стене и сняла групповой снимок в рамке, провела по нему пальцем, словно стирала пыль.
– Вот она, Эльвира. Перед выпускным балом. Красивая, юная…
Наталья Ивановна судорожно сглотнула, сдерживая слезы, покачала головой. Я взял из ее рук снимок. В кругу одноклассников Эльвира выглядела не по годам взрослой девушкой. Ровный овал лица, слегка обозначенные скулы, выделяющиеся губы, спокойный, какой-то умиротворенный взгляд. На шее цепочка с крестиком. Для того времени это был вызов, провоцирование скандала. Прическа пышная, украшенная живой или искусственной розой.
Нет, Эльвиру Милосердову, даже если она с годами изменилась, я никогда не видел.
– Сколько у нее было любовных драм! Сколько слез! Сколько порывов свести счеты с жизнью! Но одни увлечения сменялись другими, и она с необыкновенной легкостью забывала своих прежних возлюбленных. Я ей говорила: нет, девочка, это не любовь. Но она снова и снова рыдала на моей груди и клялась, что наконец встретила своего единственного, неповторимого, уникального… Только порыв, только эмоции, словно огонь, в который плеснули кружку бензина.
– Но разве это так плохо?
– Никто не говорит, что плохо. Но все вещи надо называть своими именами: любовь – любовью, эмоциональный порыв – порывом. Тогда люди смогут лучше понимать друг друга и не будет столько разочарованных в жизни.
– Жаль, что вы не были моей учительницей.
– Спасибо, голубчик, спасибо за комплимент. Давайте пить чай, не то остынет… Чего вы там еще увидели?
Мой взгляд вдруг словно приклеился к фотографии, которую я держал в руках. Рядом с Эльвирой в белой рубашке, ворот которой был отложен поверх пиджака, с каким-то легкомысленным бантиком, пристроенным на лацкане, улыбался во весь рот Леша.
– Кто это? – спросил я.
Наталья Ивановна взяла фотографию, отвела ее подальше от глаз.
– Это Алеша Малыгин. Тоже, кстати, один из ее поклонников. Бедный мальчик, совершенно сходил по Эльвирочке с ума! А сколько раз ему драться за нее пришлось! И что? Где он? Как исчез после выпускного бала, так больше я его ни разу и не видела. Кажется, поехал учиться в Москву. Даже на похороны не приехал… Садитесь же, Кирилл Андреевич! Вы словно указку проглотили.
«Нет, милая Наталья Ивановна, – подумал я, опускаясь на сундук. – Это очень хорошо, что вы не были моей учительницей. Потому что в настоящей любви вы ровным счетом ничего не понимаете. Как, собственно, и я».
Глава 36
Смею предположить, что Лев Толстой, завершив работу над «Войной и миром», испытывал нечто похожее. Букет чувств переполнял меня, когда я возвращался полуденным рейсом в Судак. Самые сильные из них – усталость, легкая эйфория от того, что довел большое и сложное дело до конца, и горечь от той мысли, что предательство и двуличие – вечные пороки людей. «Я считал Лешу другом? – думал я, прижимаясь лбом к прохладному стеклу и провожая взглядом осыпанные пылью, смазанной дождем, деревья. – Я слишком много доверял ему? Мне больно его терять? Нет, нет, нет. Почему же тогда мне так грустно? Почему я не хочу поверить тому, что уже ясно как день?»
С автовокзала я пошел пешком. На рынке встретил Володю Кныша. Он был зол на невыносимую жару и оттого с особым усердием гонял валютных менял, которые с честными лицами топтали пятачок при входе в торговые ряды. Он встретил меня с какой-то изуверской гримасой и, беспрестанно вытирая платком красное лицо, сказал что-то невыразительное:
– Нет, я от тебя шизею! Ну, накрутил-наворотил! Ну, бля, Мегрэ, Конан Дойл прибабахнутый…
– Конан Дойл никогда не был сыщиком, – блеснул я своим интеллектом, но Володя лишь махнул рукой.
– Домой иди! – сказал он властным тоном. – Иди домой! И готовь ведро шампанского!
Мне очень хотелось надвинуть козырек фуражки ему на глаза, но нельзя было фамильярничать с представителем власти на глазах у менял.
Как раз к остановке подпылил автобус, но я, обманывая сам себя, вдруг вспомнил, что дома у меня нет ни крошки хлеба, и пошел обходить все попутные магазины.
«Чего ты мучаешься? – спрашивал я себя, становясь в конец длинной очереди за хлебом. – Ты не знаешь, что делать дальше с этим знанием истины? Ты раскрутил преступление, нашел преступника, но не знаешь, в какой фантик завернуть свой труд и кому его преподнести? Милиции он не нужен, она давно закрыла это дело, а Володя Кныш уже не поверит мне, даже если я приведу ему неопровержимые факты. Он до конца дней своих будет шарахаться от меня, как черт от ладана. Мне – тем более не нужен. Дело Милосердовой было для меня чем-то вроде кроссворда. Решил его, скомкал газетку – и в урну. А что, прикажете обрамить и на стенку повесить? Вот только как мне поступить с Лешей? Как к нему относиться?»
Мне надоело стоять за каким-то скандальным гипертоником, который безостановочно ворчал по поводу медленного продвижения очереди и хватался за сердце.
– Черт возьми! – вслух выругался я. Меня начинала раздражать собственная нерешительность. Точно сказал кто-то из великих философов: движение – все, конечная цель – ничто. Это надо было мне почти три недели кряду носиться как угорелому по следу преступника, недосыпать, недоедать, рисковать башкой, чтобы, достигнув цели, в нерешительности остановиться между булочной и автобусной остановкой.
Берег моря притягивал, а моя квартира с вечной горой засохших грязных тарелок в раковине, с альпинистскими веревками, крюками, карабинами, подводными очками, ластами всех цветов и размеров, пневматическими ружьями – исправными и поломанными, которые валялись на диване и под книжным шкафом, – отталкивала; моя несчастная бесхозная квартира представлялась мне сейчас камерой смертников, где мне суждено было тыкаться в стены без всякого смысла, в каком-то полубредовом состоянии, в котором не проглядывалось ни будущего, ни прошлого.
«Да что я мучаюсь, голову ломаю!» – подумал я, стряхивая с себя эту липкую нерешительность, как пчела со своих лап сахарный сироп, и направился к бочке с портвейном. Мадера оказалась теплой, и после второго стакана горячий асфальт поплыл под моими ногами, зато ощущение глухого тупика, в который я забрел, мгновенно рассеялось и на меня хлынул поток белозубых загорелых улыбающихся лиц. Виртуозно лавируя между изможденными морем и солнцем отдыхающими, я бодро зашагал по кипарисовой аллее на набережную, откуда дул крепкий морской бриз и обрывками доносилась музыка.
«Для начала я зайду к Аруну. Этот приветливый армянин готовит шашлык так, как никто на побережье, – думал я, не в силах совладать со зверским аппетитом, разгорающимся во мне. – Затем загляну в «Парус». Надо будет напомнить о себе и уже с завтрашнего дня возобновить ловлю крабов. А потом, потом…»
То, что я намеревался сделать потом, я сделал в первую очередь. Фигурка человека в белых шортах, сидящего у пирса в тени полосатого шезлонга, раздражала, как соринка в глазу. Стягивая с себя по пути куртку и майку, я шел к пирсу. Недалеко от берега прыгали на волнах две «Ямахи», сверкая оранжевыми бортами. Один из водителей постоянно сваливался в воду, второй же управлял более виртуозно и удерживался в седле, даже когда его вместе с мотоциклом подкидывало в воздух. «От этого мне было бы нелегко уйти», – подумал я, вспомнив свою недавнюю гонку на водном мотоцикле.
Я напрасно разулся. Черный кварцевый песок накалился до такой степени, что, сделав всего три шага по пляжу, я подскочил, как мотоциклист на волне, и сел, задрав ноги кверху. Дима Моргун следил за мной из-под зонтика, и его тонкие усики растянулись во всю ширину лица, напоминая математическую скобку.
– Ты бы лучше не зубы скалил, – сказал я, стряхивая песок с подошв, – а залил бы это пепелище водой.
Дима ничего не ответил, снова откинул голову на спинку шезлонга, и в его зеркальных очках заплескалось море. Я сунул ноги в кроссовки и, оставляя за собой борозду, добрел до зонтика.
– Будешь кататься? – спросил он, не поворачивая головы.
– Я хотел предложить тебе бокальчик холодного шампанского.
Дима вздохнул, вытянул перед собой руки, сжал кулаки, хрустнув суставами.
– Как ты мне надоел! – сказал он, снова растягивая усами лицо.
– Неправда, – ответил я, опускаясь на песок рядом с ним. – Ты только делаешь вид, что я тебе надоел. На самом деле тебе очень хочется со мной поговорить.
– Черт с тобой! – беззлобно ответил Моргун. – Беги за шампанским.
Когда я спускался на пляж с бутылкой под мышкой, над Моргуном, изогнувшись вопросительным знаком, нависал худой, загоревший до черноты помощник. Парень держал в руках раскрытый журнал и водил по странице пальцем.
– …если пластиковую плоскодонку считать как четырехместную, то все равно одной не хватает, – говорил он Моргуну.
Дима, сняв очки и потягивая пепси из банки, косился на журнальную страницу.
– Дальше! – поторопил он мальчика.
– Компрессоры. Числятся три, а в наличии только два.
– А почему ты движок не считаешь?
– Это от «Жигулей», что ли? – захлопал парень глазами.
– Что ли! – подтвердил Моргун и, заметив меня, легко подтолкнул Сережу рукой. – Иди и с вопросами больше не подходи! Весь хлам, все запчасти возьми на учет.
Парень, почесывая затылок и все еще глядя в журнал, поплелся в мастерскую. Он спокойно ступал босыми ногами по песку и не чувствовал боли.
– Решил провести ревизию? – спросил я.
Моргун не ответил. Либо разговор об инвентаре был ему неинтересен, либо представлял собой коммерческую тайну. Он взял у меня из рук бутылку, посмотрел на этикетку и поморщился:
– Сухое! А почему Гульке не сказал, что для меня? Дала бы полусладкое.
– Сухое в жару идет лучше, – отвертелся я.
– Ну, тогда открывай!
Пробка взлетела в небо, вращая белыми боками, словно миниатюрная чайка, и, спикировав вниз, шпокнула по зонтику. Моргун пригубил бутылку. Пузырящаяся пена поползла по его подбородку, съехала на грудь и застряла на золотом кресте с распятием. Христос омылся шампанским.
Дима передал бутылку мне. Скользкая и холодная, как только что пойманная увесистая рыбина, она медленно выползала из моей ладони. Напротив нас на мелководье полная женщина пыталась оседлать прогулочный катамаран. Поплавок под ее тяжестью полностью уходил под воду, палуба наклонялась, и пассажирка соскальзывала с нее в воду.
– Ты паспорта у клиентов требуешь? – спросил я. – Вдруг утопят катамаран или, не дай бог, «Ямаху». Как потом счет предъявить?
Моргун медленно повернул скуластое лицо. В его очках отразились две мои физиономии.
– Ну, – мученическим голосом произнес он, – давай рожай скорее! О чем ты хочешь меня спросить?
– Я уже спросил.
– Эх, Кирилл, Кирилл, – вздохнул Моргун, отобрал у меня бутылку и снова пригубил. – Но мне-то не надо лапшу вешать! Ты хочешь узнать, кто брал в прокат акваланги девятнадцатого августа.
– Да, ты прав, – признался я. – Я это хочу узнать.
– Тогда запоминай. – Моргун воткнул бутылку в раскаленный песок, глядя, как на горлышко наматывается пенящийся клубок, словно белый парик на лысую голову. – В десять часов утра – молодая женщина. Фамилия ее тебе ничего не скажет. Она поплескалась минут двадцать у пирса, собрала в пакет мидий и сдала аппарат. Около двенадцати акваланг взял молодой мужчина… – Моргун поднял глаза, закрытые зеркальной шторой, и сделал паузу, предвкушая мою реакцию. – Да, вторым был мужчина. Алексей Малыгин. – И снова пауза. – Твой знакомый, если не ошибаюсь? Он пользовался аквалангами долго, почти до четырех часов. Должно быть, далеко плавал.
Я смотрел на свои гипертрофированные лица. Я смотрел на себя глазами Моргуна. Надо признать, я держался молодцом. Как партизан на допросе в плену. Глаза не моргали, рот не кривился, подбородок не дрожал и слезы не лились по щекам.
– И еще один раз он пользовался нашими услугами, – добавил Моргун. – Он катался на серебристой «Ямахе». Причем в одно время, что и ты. Я думаю, вы с ним встретились где-нибудь в открытом море, не так ли?
– Так, – кивнул я.
– Есть еще вопросы?.. Пользуйся случаем, следопыт, сегодня я даю для тебя пресс-конференцию по полной программе.
– Ты сможешь повторить все, что сказал мне сейчас, под протокол?
Моргун минуту молчал.
– Смогу, – не совсем охотно ответил он. – Завтра утром. Но в обмен на одну маленькую услугу.
– Какую же?
– Ты дашь мне слово, что больше никогда не станешь цепляться ко мне, как банный лист к заднице.
Глава 37
Я давно заметил: мои дни делятся на удачные и неудачные, причем неудачные начинаются с того, что я поздно просыпаюсь.
Так случилось и в этот раз. Я вылез из спального мешка в двенадцатом часу, когда полуденный зной до отказа заполнил мою квартиру и я попросту начал задыхаться. Еще час ушел на холодный душ и смазывание многочисленных следов собачьих зубов чудодейственным бальзамом, который мне дала Наталья Ивановна. В итоге я вышел из дома в час полуденной сиесты и Володю Кныша на работе не застал. Дежурный сказал мне, что он на выезде и сегодня вообще не появлялся в отделении.
Надо было предупредить Моргуна, что наша беседа «под протокол» переносится на вторую половину дня, и я пошел на набережную.
Зонтик и шезлонг стояли на своем обычном месте, только вместо Моргуна в тени расслаблялся незнакомый молодой мужчина. В его толстых губах дымился влажный окурок.
– А где Моргун? – спросил я его.
– Все, – ответил мужчина и зевнул. – Моргуна больше не будет.
– Что значит – не будет?
– Уехал Моргун. – У мужчины явно не было настроения говорить, к тому же ему мешал окурок.
– Надолго?
– Навсегда.
Я выпрямился и поискал глазами Сергея. Парень подкачивал помпой «банан», а группа людей в полосатых спасжилетах сосредоточенно следила за его ногой.
– Где твой шеф? – спросил я его, подойдя вплотную.
– Здравствуйте, – узнал меня Сергей. – Вы Моргуна ищете? Так он уехал в Москву.
– По делам или как?
– Навсегда уехал, – ответил Сергей, снимая шланг с ниппеля. – Сдал все дела и технику новому начальнику, рассчитался с нами и вчера в ночь уехал.
– Почему так срочно? Как он это все объяснил?
– Никак не объяснил, – пожал плечами Сергей. – Он еще давно говорил, что его берут в одну крутую московскую фирму… этим… менеджером, что ли?
– И теперь у тебя новый шеф? – Я кивнул в сторону шезлонга.
– Да, – не совсем радостно ответил Сергей. – Теперь у меня новый шеф.
Люди в спасжилетах принялись оседлывать «банан». Я смотрел, как они суетятся, стараясь занять место поближе к носу. Последнее седло осталось свободным.
– Ну-ка, – сказал я Сереже, – дай мне жилет.






