Золотая лихорадка Задорнов Николай
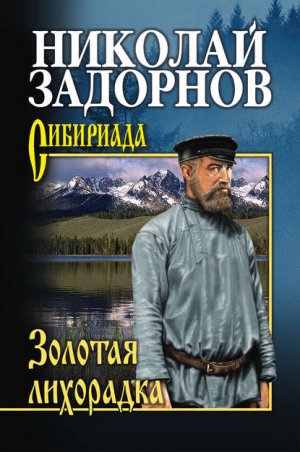
— Что делать?
— Мне кажется, Оломову просто неудобно от всего отступиться и он делает вид, что не уступает Ивану. Со временем все успокоится и забудется. Может быть, Оломов опасается сам, если замешана политика…
* * *
Тихий осенний день. Сопки уже совсем пожелтели, и над городом, по высокому хребту, среди светлых пятен черней проступают кедрачи.
Между земляпок и лачуг, настроенных и нарытых городской беднотой, на вешалах и под крышами сушится юкола.
На изгороди развешен невод, словно кетовая ловушка — заездок расставлена на берегу, и опять весь огород с перекопанными осенними грядками, кажется, поймали в Амуре и вытащили. Кое-где остались сухие стручки бобов на стеблях. Бабы в ватных куртках докапывают лопатами картошку. На чьем-то большом огороде двое арестантов с тузами на халатах руками нагребают картошку в тачку.
«А вблизи — не город, а ерунда! — думает Василий. — И хлама много. И место красивое!» Ему как-то обидно было, что на его родном Амуре нет настоящего города у самого входа в океан: «На этом бы высоком берегу построить бы!»
У американцев длинный деревянный дом, обшитый дощечками в елочку и покрашенный в зеленую краску. Во дворе под навесами стоят ящики с плугами, предназначенные для отправки в Благовещенск.
— Это не нашей фирмы! — сказал Торнтон. — Мы исполняем поручение Мак-Кормика.
— Пойдем поглядим, как мои меха отправляют в Америку, — сказал Бердышов. — Гляди, вот стоит шхуна. Они ее набивают моими мехами! Но самые лучшие я отправляю не только к ним. Выдры — в Китай, на курмы генералам. Там они ценятся дороже всех мехов. Но и им даю сортовые.
Бутсби, увидев Василия, схватил его за плечи и стал трясти.
— О-о! Очень рад!
Он повел гостей в магазин и усадил их на стулья. Тут были винчестеры, револьверы, музыкальные шкатулки, шерстяные и бумажные ткани, консервы, посуда и кожи, такелаж для шлюпок, пилы и разные инструменты, стопы бумаги и разная обувь.
От множества товаров в магазине было глухо, как в ветвях старой ели.
— Я в эту лавку сколько пушнины перетаскал! — говорил Иван, покуривая сигару. Он сидел, развалясь в мягком и глубоком кресле, которое продавлено было многочисленными покупателями. — Вот это и есть заветный магазин, откуда сукно с жирафами. А вот стоит пароход, — приподымаясь, показал Иван сигарой в узорчатое окно коттеджа на бледную реку, — пришел из Америки, привез товары. Они за зиму все распродадут, набьют тюки пушниной и отправят к себе в Америку. А купцы развезут товары по Амуру. Побрякушки тоже… Их спиртом мы гольдов спаиваем!
Бутсби, казалось, был привычен к насмешкам Бердышова. Иван приезжал в этот магазин молодым человеком, еще небогатым и так же всегда подшучивал. Бутсби всегда был радушен с ним. Он не переменился после того, как Иван съездил в Калифорнию, не пользуясь услугами никого из знакомых иностранцев. Он там был довольно долго, быстро «схватил» язык и бегло разговаривал. Бутсби почувствовал, что этот бывший поставщик мехов перегонял его. У него уже тогда были свои прииски. А когда-то Бутсби сомневался, сможет ли Бердышов соперничать с богатыми, опытными в торговле фирмами.
В соседней комнате за открытой дверью Торнтон уже щелкал на счетах. Иван, хлопнув Бутсби по плечу, пошел к нему.
Усевшись на столах, они там громко разговаривали, мешая русскую речь с английскими словами. В лучах солнца из конторы клубами повалил в магазин табачный дым.
Бутсбп осторожно поглядывал на Василия Кузнецова, когда тот не замечал. Его занимало, что это за новая величина всходила. Иван очень приветлив с молодым Кузнецовым. «Это не без причины! Молодой человек! Совсем молодой человек!» Старому торговцу становилось немного грустно.
Сам он уезжал на два года в Бостон, но пришлось вернуться, слишком хорошо знал Бутсби здешние условия, рынок, меняющиеся вкусы покупателей. За последний десяток лет появились его соотечественники, торгующие плугами, боронами, сельскохозяйственными машинами. Бутсби также немного торговал плугами. Но в низовьях слабо развивалось земледелие, к тому же в Сибири умели делать плуги, их доставляли из верховьев реки на баркасах. За последнее время фирмы стали открывать свои отделения на юге края. Торгует в Благовещенске Мак-Кормик. Торговля Бутсби сразу стала чахнуть, как только уменьшилось население в низовьях. Теперь Бердышов развивал промыслы, у него было прииски, несколько тысяч рабочих, а может быть, и несколько десятков тысяч людей зависели от него. И постепенно так получилось, что Бутсби, ослабленный конкуренцией с соотечественниками и с германцами, по сути дела, зависел от своего бывшего покупателя.
Скупку мехов Иван вел и по-прежнему доставлял в магазин Бутсби пушнину. Он держался так, словно ничего не переменилось.
После поездки в Париж Иван сегодня впервые зашел в магазин. На вид он был все тот же. Бутсби выдвинул из стола ящик, бросил туда пачку денег, встал и поблагодарил его. Выпили по стаканчику рома. Вышли.
Шлюпка ждала под обрывом. Несколько арестантов в кандалах и пожилой солдат с ружьем сидели без дела, ожидая чего-то.
— Налегай… Раз-два… О, молодцы! — восклицал немного раскрасневшийся Бутсби. — В ваши годы, — сказал он Василию, — я тоже бродил в портах! Но не в таких… И у меня были такие же волосы и такой румянец!
Все выше и выше под Василием рос темный и щербатый, избитый и разъеденный солью борт.
Отсюда вид на город был хорош. Несколько славных домов, горы, леса, огромная река, как морской залив, голубой горизонт за ее устьем, белые форты крепости на скалах — все нравилось Ваське, он радовался, как в детстве, и чувствовал себя мальчишкой.
На смоленом борту двухмачтового парохода, словно трещины на стекле, перемещались отражения волн. Рыжеватые нерусские матросы в беретах, с бачками и с короткими трубками в зубах, с ножами у кушаков ворочали на палубе громадные шкуры с толстым слоем жира.
Василий залез на палубу и с удовольствием смотрел загрузку трюмов. Кто-то тронул его за плечо.
Темное, опухшее лицо Бутсби улыбалось.
— Вам интересно? Не хотите и вы, как Сана?
Санка Барабанов повел Василия вниз, показал свою каюту. Он уходил в далекое плавание. Отец посылал посмотреть божий свет. Знакомые обещали устроить его на работу. Санка хотел выучиться, узнать машины.
— А ты не привыкнешь? Вернешься ли? — спросил Василий.
Санка хитро засмеялся. Он все мог бы. Но отца подводить не будет.
Отец затевал большое дело, и он решил переезжать во Владивосток.
Васька вернулся на берег и посмотрел сверху на далекий пароход. И жалко и грустно ему было, что уезжает Санка, старый товарищ детства.
— Да, умеючи можно получить любое позволение, — сказал Иван.
Василий подумал, что за такие богатства, какие Иван туда отправляет, конечно, они благодарны ему, приняли как гостя.
Но не богатства и не новые невиданные края заботили Василия. Он хотел не нового края, а нового устройства жизни в том краю, где сам он был новоселом, куда привели его в детстве родители. Не в далеких странах искать счастья! Надо было идти помогать Тимохе. Дома отец с матерью, Катька… «А как мы сойдем с парохода без Сашки?»
… А на сопках в вершинах лежит уже снег. В Уральском еще тепло. «Казакевич» гудит, отходит в Хабаровку. Уезжает все начальство, производившее разгон прииска.
На прощание Барсуков зашел к Ивану Карповичу. Он сказал, что дело Сашки будет представлено генерал-губернатору.
Накануне вечером Василий провожал его.
— Отец мой не читал книг о социализме, но он как-то дошел до всего сам, — говорил Василий. — Нам с детства об этом говорил. Когда мы ему рассказывали, то он не удивлялся, словно знал уже современные взгляды… И глядя на него, мне казалось, что существует как бы совпадение поисков. Поэтому даже простые люди, как мой отец, быстро понимают то, что хотят революционеры.
— Да. Есть закономерность в развитии общества, — отвечал Барсуков.
— Мы и об этом говорили.
— Вы будете переписываться с вашим товарищем?
— Да, мы обещали не терять друг друга из вида. Теперь он в Хабаровке.
* * *
Тимоха и Василий везли на телеге новые жернова, когда их приостановил какой-то человек. По бороде и по виду он принял Силина за кержака.
— Нет, я православный! — ответил Тимоха.
— Своих никак не найду… Мы проездом, — сказал бородач.
— Куда же вы?
— В Америку.
— Что это, куда несет? Кто вам рассказал? Как вы дорогу нашли?
— Пароход повезет! В России жили да перешли в Сибирь, а братья мои со старого места с поляками уехали в Америку. Выслали мне деньги, паспорт. Пишут, что там утеснения нет — нашей вере свободней…
— Расею-то не жалко ли? — спросил Тимоха.
— Да надоело маяться. Все всегда виноваты, чего ни сделай! А там свобода!
— Н-но! — вдруг хлестнул коня кнутом Тимоха, и телега с жерновами тронулась, громыхая на глубоких выбоинах и на засохших комьях грязи. — Н-но! Зараза! Из-за старой веры хочет на чужбину идти! Ты попробуй тут проживи… Тасканый же народ, эти староверы… А начальство все им разрешает… кто-то и об их переселенье хлопочет. Кому в Америку, а кого за одни разговоры — в каторгу.
— А в Америке красивые люди? — спрашивала Ваську дочь экономки, молоденькая, крещеная бурятка в русском сарафане.
— Есть красивые, — отвечал он и невольно залюбовался пристальными ее черными глазами, — а есть черные, как чугун!
Вася думал, что он не завидует Санке. Он хотел бы не в Америку.
«Отец заронил во мне другие желания!» — думал он, возвращаясь с Тимохой на последнем купеческом буксире. Приходилось помогать во всем команде, стоять с шестом, охраняя борты от наносных лесин, приходилось рубить и грузить дрова на остановках.
Васька вспомнил, как Катерина однажды слушала проповеди Корягина и в знак согласия кивала головой, но не вниз, а вверх, словно ее вздергивали удилами или она сильно изумлялась.
А Илья сидел тогда довольный, смотрел пристально, лицо его было степенным, он сложил руки на брюхе, в любимой своей позе, закинув одну ногу под скамью, а другую выставив.
На рождество должны съехаться в церковь хищники, и последние их заработки в мешочках, недомытые их мечты и богатства надо было раздать, чтобы несли кабатчикам, торгашам и контрабандистам, а оттуда все стекалось бы в золотые груды, в подвалы.
После этого надо было отрабатывать Ивану Карпычу.
Потом он вспомнил, как Катя говорила его матери: «Когда я его встретила — удивилась. Я думала, все пьют. Я с самого малолетства среди пьяных, матюкаются и пьют. И Васька меня тот год все отучал и останавливал».
* * *
Весной губернатор просматривал списки крестьян, назначенных принять участие в осенней выставке. Он вызвал Барсукова и любезно обратился к нему:
— Петр Кузьмич, вы включили пермского Кузнецова участвовать с зерном в сельскохозяйственной выставке?
— Да, Андрей Николаевич…
— Но, ведь он… он же… ну… неблагонадежен? — губернатор посмотрел вопросительно.
— Я смею вас уверить, что это честнейший человек, порядочнейшая личность. Его пашня стала как бы символом.
— Да, да… «Егоровы штаны»… — сказал губернатор.
— Да, он первый поселенец, один из образцовых… — Барсуков стал рассказывать все, что знал о Кузнецове.
Губернатор выслушал.
— Петр Кузьмич, мы не смеем выставлять как образец личность, некоторым образом связанную с преступным миром. Он был избранным президентом, то есть атаманом, по сути дела, его близкие побывали в тюрьме.
— Но это же ошибка. Здоровые силы народа. Дайте им право, они вам гору своротят. У них руки связаны!
Губернатору неприятна была подобная фраза: «Руки связаны».
— Пойдем на компромисс. Пусть его младший брат Федор Кондратьевич Кузнецов участвует в выставке со всеми показательными цифрами и произведениями от их хозяйства.
Петру Кузьмичу все это очень не нравилось. И он не хотел спорить с губернатором и дал согласие. «Вообще Корф мог моего согласия и не спрашивать! — полагал он. — Как я буду смотреть в глаза Кузнецовым? Я же знаю его давно…» Он лишь исполнил или пытался исполнить то, о чем мы все мечтаем. Но мы не смеем!.. А он посмел! Предать его — это предать себя! Барсуков кричал на переселенцев в дни их прибытия на плотах. Он делал это по убеждению, и другого выхода не было. Барсукову начинал не нравиться новый генерал-губернатор. Это честные, аккуратные, но сухие люди, на которых поначалу надеешься, потом оказываются формалистами, законниками. А подкупал своей внимательностью, серьезностью.
Барсуков решил, что на этот раз он не уступит. «Придется и мне, как Егору, к барону вернуться за рукавицами. Либо Кузнецов и вообще все уральские и тамбовские, независимо от того, слушали они проповеди на прииске или нет, а только по показателям их хозяйств, по коровам, по зерну, картошке, по шкурам зверей, а не по досье… Либо я ухожу! Уезжаю! Довольно! Поеду доживать век свой на родине, на берегах Байкала!»
ГЛАВА 27
Однажды зимой в Уральском остановился обоз. Время шло к весне, погода была ветреная. Несло сухой, крупчатый снег. Люди намерзлись.
В почтовой избе, которая стояла поодаль от селения, набилось полно народа.
Единственную комнату для проезжающих уступили женщинам. В ямщицкой также многим не досталось места. В сумерках ямщики пошли в селение искать пристанище у знакомых, а за ними побрели двое пассажиров проезжающих, оба в меховых шинелях и тяжелых ямщицких дохах.
Остальные пассажиры тоже потянулись по селению.
— В этой деревне, говорят, злые все, не пускают к себе ночевать? — спросил проезжающий в бобровой шапке.
Ему не ответили. Двое молодых офицеров, оба в меховых шинелях и ямщицких дохах, постучались в какой-то дом, зашли в другой, в третий. В самом деле, никто не соглашался пустить их на ночлег.
— Вот идите еще вон в тот высокий дом, — сказал долговязый ямщик в ватной куртке. Он оставил доху на станке и ходил с кнутом, похлопывая себя кнутовищем по валенку.
Из ворот большого дома вышла Авдотья Бормотова. Рядом с ней шел высокий паренек. Молодые люди приостановились:
— Не вы ли хозяйка этого дома?
— Я хозяйка. Здравствуйте!
— Какой милый малыш!
— Хозяйка, можно ли у вас переночевать?
— Я не пускаю! — ответила Дуня. — У меня у самой полна изба.
— Такая большая изба, а нам негде переночевать. Хозяйка, мы заплатим хорошо… Нам некуда деваться.
— Сказано вам, что нет! — погрубей ответил Сенька, взял мать за рукав, и они пошли вместе к светящемуся за сугробами огоньку в чьем-то большом доме.
— Вот положение! Да что это за люди!
— Наверное, кержаки! Боятся, что опоганим их посуду.
— Верно советовали нам, в Уральское не заезжать.
Молодые люди пошли обратно. Толпа ямщиков стояла около старого бердышовского зимовья, разговаривая с Савоськой.
— Может быть, здесь можно? — с немецким акцентом спросил проезжающий в тулупе и валенках.
— Нельзя, — ответил Савоська. — Идите к старосте.
— А где он?
— Вот в соседнем доме.
Толпа подошла к дому старосты. Вышел Николай Пак с кокардой на шапке.
— Что вам?
— Ты староста? — подступил к нему человек в бобровой шапке.
— Да, мы староста. А ты кто?
— Мы — проезжающие.
— Ступайте в избу для проезжающих.
— Там полно без нас.
У Пака высокая грудь колесом. Он в незастегнутом полушубке и в рубахе. Его широкие челюсти стиснуты, словно он ухватил зубами кусок мяса и держит его. Он спросил сквозь зубы:
— А у Авдотьи Бормотовой были?
— Были. Она гонит.
— Да, верно! Она гонит, — процедил Пак и, кажется, усмехнулся. Он надвинул на лоб шапку с кокардой и стал тереть ладонью стриженый затылок, словно старался его нагреть. — А у Кузнецовых были?
— Были. У них дедушка помирает…
— Да, верно. Дедушка заболел!
— А у тебя?
— У меня ребятишки.
— Сколько же? Не полна же изба?
— Полна.
— Ну, куда же нам? Устрой куда-нибудь. Мы согласны куда угодно.
— Ищите сами! — ответил Пак. — У меня нет.
Он куда-то пошел. Толпа, которой некуда было деваться, побрела за ним. Некоторые возмущались. Пак шел на ветер не застегнувшись, как пьяный рыбак в море.
Снег волнами бушевал вокруг него. Людям казалось, что метель разбивается о его высокую грудь и что идти за ним теплей.
Пак заглянул в зимовье Савоськи и спросил о чем-то на неизвестном языке.
— Мы его угостим! — сказал кто-то из толпы. — Как следует. Заплатим.
— Не надо ваше угощение! Я сам вас угощу! — сказал Савоська.
— Что же ты сразу не согласился, погнал нас по всей деревне, нам лучше и не надо, — сказал офицер.
— Я думал, может, где лучше найдется место, — ответил Савоська.
— Идите сюда! — крикнул военный в шинели своему отставшему товарищу. — Когда негде ночевать, то не до гигиены! И не до соблюдения правил вежливости! Пойдем, что же делать!
— Че тебе, спать негде? — спросил подошедшего Савоська.
— Да-а…
— Вот старое зимовье, никто не живет. Печку затопили, будет тепло.
— Отлично! Чего же лучше!
— Иди! — хлопнул Савоська по плечу барина в бобровой шапке. Савоська был нарочито груб и с удовольствием наблюдал, как эти сытые господа и барчата морщатся от неудовольствия, но все сносят.
Ямщики засмеялись и все вместе повалили в зимовье. Савоська зажег лампу.
Для проезжающих отвели места на нарах, а ямщики укладывали свою теплую одежду на полу. В зимовье было чисто, под потолком висели связки сушеных чебаков, несколько пластин юколы отличной, какие-то шкурки и пахло травой.
— Да тут отлично!
— Гут! — сказал немец.
На столе появилась водка, соленые огурцы и хлеб. Стали пить. С дороги всем было в охотку такое угощение. Савоська достал из-под потолка огромную пластину юколы и живо нарезал.
— Всегда тут у меня останавливаются! — сказал он, кивая на ямщиков.
— Неужели у вас нет приятелей в деревне? — обращаясь к ним же, спросил, снимая свою бобровую шапку, высокий петербуржец. — Ведь вы же все здешние?
— Как нет приятелей. Есть!
— Странная деревня. А что же вы сразу сюда не позвали?
На это никто из ямщиков не стал отвечать. Они рассуждали, как сам хозяин: приведи вас сюда сразу, вы бы нос отворотили. Мол, ни ужина горячего, ни горячей воды. А вот теперь походили по деревне и довольны. А то кричали бы: смеетесь над нами, подлецы!
— Ты что же, старик, здесь живешь? — спросил благовещенский торгаш.
— На этом зимовье? — нарочито ломая язык, переспросил Савоська.
— Да.
— Нет, у меня маленький дом есть. Я там живу.
Попивали водку. В зимовье стало жарко. Все разделись и стали укладываться. Кто-то из ямщиков уже сладко храпел. Савоська подвыпил и сказал благовещенцу, крепко взяв его за пуговицу:
— Знаешь, почему тут не пускают ночевать? Нет?
Все насторожились.
— Знаем! — сонно сказал кто-то из ямщиков. — Они не любят, когда им старое поминают.
— Ах, вот что? — воскликнул улегшийся было петербуржец. — Так это та самая деревня, где была республика?
— Конечно! Никто про это говорить не хочет. А кто придет, сразу спросит: «А правда, республика была?», «А где президент?», «А веди к нему ночевать!» И сразу идут к Егору Кузнецову. «Ты был президент». А че, ему приятно? Или сразу спросят: «А правда, из вашей деревни миллионер Иван Бердышов?» «Кто он? Немец? Татарин? Говорят, он гиляк, крестился, убил разбойника?» Разные такие глупости. Конечно, никто про эту республику рассказывать не хочет. Че про нее говорить. Егора чуть не убили, ему не потеха! Он и теперь нездоров… Была не здесь республика, а ниже есть речка Ух, теперь речка совсем обмелела и скоро ее не будет. И наш мужик ходил туда, нашел, понимаешь, самородки.
— Не-ет, не так, — перебил кто-то из угла. — Это я знаю, как было. Он не сам. Он играл в карты и проигрался… И тогда ему старик гиляк показал место, где когда-то мыли золото…
— Ну, тогда ты рассказывай! — обиженно сказал Савоська.
— Ты, дедка, не слушай его, говори…
Савоську еще долго просили. Он продолжал:
— Нашел, понимаешь, самородок, большой, в две детских головы! Я сам видел! И сразу туда пошел народ. Кузнецов был президент и Силин — атаман. Сразу написали прошение на высочайшее имя, государь дозволил мыть два года, за самородок писал благодарность и чтобы через три года прииск передать в кабинет, государственная земля. А потом передумали, и там теперь Бердышов. Он теперь богатый, у него свой банк, пароходы, торговля во всем мире!
— А где же дом Бердышова? Давно он от вас ушел?
Это как раз был тот вопрос, на который Савоська всегда отвечал с большим удовольствием. Поэтому он умолк и стал раскуривать погасшую трубку. Он долго сопел и тянул ее.
— Неужели Бердышов из этой деревни? — спросил петербуржец.
— Да. Вот это как раз его дом был! — сказал кто-то из темноты, видимо, пожилой человек.
— Вот это он правильно сказал, — кивнул трубкой в тот угол Савоська. — Это самый первый дом на Амуре. Самый первый русский, Ванька приехал. Женил на Анге, на гольдке, моей племяннице, от моего брата Григория. И вот на этом зимовье сами жили.
— А бывает он тут теперь?
— Как же! Обязательно бывает. Он не велит эту зимовьюшку ломать и велит печку топить и пускать ночевать, когда людям спать негде. Ево добрый…
Все отозвались неровным смешком.
— Тигр! — сказал старый ямщик.
— А тигр — ево добрый. Он сам первый не кидается. Ево сильный, ловкий. Когда тигр с медведем сражаются, кто победит?
— Тигр!
— Конечно, тигр.
— Нет. Конечно, сначала тигр. А медведь потерпит и поломает тигра. Тигр — ево добрый, сам человека не трогает. Красивый зверь. С бабой спал когда-нибудь на тигровой шкуре? Попробуй! Черта тебе!
— А у Бердышова тут любовница, говорят, была, и он уехал из-за нее.
— Это не знаю! — отвечал Савоська. — Я этим делом не заведую!
— А где теперь твоя племянница?
— В Петербурге, богатая барыня. Дочь Таня с золотой медалью гимназию кончила. Бердышов как раз тут жил. И потом приехали с Расеи переселенцы, церковь построили.
— А нашли того, кто хотел убить Кузнецова? — спросил голос из угла.
— Нашли.
— Кто же был?
— А Васька, сын Егора, его в ту же осень встретил в тайге. Хлысты в тайге жили. Отец и два сына. И Васька встретил парня в тайге, который стрелял Егора. Он и прежде тихо заходил на прииск, и терся, где китайцы и староверы, и слушал. Васька его спросил. Тот ответил: «Человек есть грязь, мерзость, чем больше людей убить, тем лучше. Надо чистых оставить, которые бога любят и правильно живут. А всех остальных убить не грех!» Так проповедуют. А он, Васька, не испугался и хорошо с ним поговорил. А Васька сам догадался, что это он. Спросил, ты стрелял. Тот ответил, я. Сказал — лгать не могу. Васька его отпустил. Но ружье отобрал… А тот отошел и из кустов стрелил Ваську из самоделки какой-то, видно, вроде пистолета. Васька его гнал долго по тайге. Но тогда прииск уже разогнали, у него жена молодая и красивая, молоденькая, и он вернулся. Егор самый хороший и пашню пахал, золото нашел сам, людям отдал, никто ему не показал. Он в карты не играет. Это дурак какой-то выдумал… Черта тебе!
— Ну, а вот эта красивая молодая женщина… Ты не стесняйся. Это ведь вот и есть вдова Ильи? Мы уже слышали. Что у нее за роман с Бердышовым?
— Какой роман! Нет ни черта. Мужа ее убили на прииске.
— Знали мы Илью! Гуляли вместе. Удалой был.
— Ево убили, а прииск взял Бердышов! Какой тут роман? Она ево близко не пускает…
Проезжающие теперь молчали. Разговор шел между местными людьми.
— Тебе, старик, сколько лет? Ты ведь уж давно живешь?
— Наверно, сто. Да, однако, сто.
— И сколько еще собираешься прожить?
— Лет пять еще надо. А че? Люди и до ста тридцать живут. Еще железную дорогу поеду посмотреть.
— И водку пьешь?
— Маленько пью. Я Невельского помню. Муравьева тоже. Ванька когда был бедный, его помню. Помню нойонов, мы как воевали с ним, я еще некрещеный был. Всю историю помню. Долго жить тоже худо, рассказываешь, а люди не верят, думают, им врешь. А че мне врать!
— А как Сашка Кузнецов у вас живет?
— Хорошо.
— И кореец Николай теперь староста?
— Да, он староста. Только они с Сашкой не ладят.
— А оба хорошие?
— Конечно, плохие, што ль? У нас ученых много. Катька все писала Наталье письма, просила третьего сына, Алешку, отпустить к ней во Владивосток, мол, отдам его в гимназию. И теперь он учится, будет образованный. Катька воспитывает. У Катьки свои дети тоже учатся. Не знаю где. Она приезжала, говорила старикам, сын будет капитаном.
— У них дом, што ль, во Владивостоке?
— Конечно. Когда Кузнецовы без дома жили? Хоть из чурбанов, да построят дом. Леса, што ли, у нас нет!
— Где он работает?






