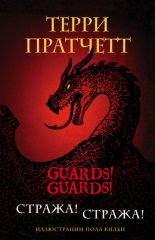Кибериада. Сказки роботов Лем Станислав

И они пошли, бранясь на ходу и наскакивая друг на друга и размахивая руками, к удивлению придворных. Прошли они так через королевскую оранжерею, через дворцовые сады, через пять мостов на пяти городских каналах и даже того не заметили.
– Не в том суть, – говорил Трурль, – чтобы создать мир, застегнутый на все пуговицы, мир, очищенный от катастроф, в котором никто не мог бы никому ничего ни вонзить, ни вырвать. Это педантизм, лакировка Божьего дела. Дело не в том, чтобы вычистить его до глянца, а в том, чтобы превзойти автора в исходной концепции!
– Оставь при себе эту риторику! Ты не перед королем стоишь! – оборвал его Клапауций.
– И все-таки! В Божьем варианте одно существо не может достигнуть всех совершенств одновременно. Если я о чем-нибудь мечтаю или к чему-то стремлюсь, то этого не имею, а если имею, то не стремлюсь и не мечтаю. Я не могу упиваться надеждой, если она сбылась, а между тем сладость надежды совсем иная, чем радость обладания! Таким образом, бытие принуждает нас к постоянным отречениям. Если я ожидаю любовных объятий, то, очевидно, меня никто не обнимает, а если обнимает, моему разыгравшемуся любовному воображению уже нечего ожидать. Я не могу обнимать и не обнимать, иметь и не иметь. Что достигнуто, то мне безразлично, а что бесценно и неизменно, то недостижимо. Так наше бытие качается между чрезмерной уверенностью и излишним риском, то есть между скукой и страхом.
От голода до пресыщения один шаг. И мало того. То, что мы воображаем, всегда наше и уже потому слишком гибко, податливо и беспочвенно, а что материально, реально, безотносительно, то не зависит от нас – прямо до отчаяния. Дух слишком зависим от меня, материя слишком независима!
– Что ты плетешь?! – скривился Клапауций, но Трурль не унимался.
– Переводя эту фатальность творения на язык строительной практики, мы отметим три ограничения свободы в бытии: материальное, временное, пространственное. Либо что-то является мыслью, либо вещью – это первое принуждение. Вторая несвобода – местоположение. Если что-то где-нибудь находится, то там же не имеет права находиться ничто другое. Третья неволя
– это насилие, которому подвергает нас время, потому что мы в нем заключены: если нас выпустит среда, то поймает четверг, после четверга придержит пятница – вечная муштра, настоящая казарма; равняй шаг, ни вперед, ни назад – замечали вы, так же как и я, эту военно-строевую природу времени? Ни на волос нельзя отклониться от настоящего! Я считаю, что мы должны ликвидировать все эти ограничения. Что ты скажешь?
– Ты хочешь ликвидировать время, пространство и Материю?
– Именно так!
Клапауций еще колебался, но его захватил радикальный подход Трурля, а когда он огляделся вокруг, то обнаружил, что они стоят в песочнице среди детей, ибо их как раз туда и занесло, и принялся чертить пальцем на песке контуры нового мира, а Трурль все нападал на его схемы, дети тоже мешали, тогда они поднялись и поспешно отправились в мастерскую. Прошла неделя, потом вторая, третья, они не подавали признаков жизни. Нетерпеливый Ипполип послал главного думчего на разведку, потом самого министра мыслительной промышленности, а когда и самого министра не пустили на порог, то король лично отправился к конструкторам. Застал он их, сильно возбужденных, посреди страшно захламленного зала, между штабелями аппаратов, поставленных как попало, в путанице проводов, а когда они не проявили особого желания давать объяснения, он насел на них по-королевски и настоял на своем – только тогда они посвятили его в свои тайны.
– То, что существует, мы отбросили полностью! – сообщил ему Трурль. – Если можно так выразиться, мир первоначально был навязан сотворенным без всякой предварительной консультации, поскольку творец решил их, сотворенных, этим миром раз и навсегда осчастливить. А что, если они желают быть осчастливленными не по его методике, а совсем по другой? Или вообще хотят отказаться от финального счастья? А может, в один момент хотят, а в другой – не хотят? А может быть, один по этому поводу придерживается одного мнения, а другой – другого? Что тогда? Авторитарно навязывать конформизм? Четко обозначить дороги в рай и в ад, стричь всех под одну гребенку, карать непокорных оригиналов и награждать оппортунистов? Мы поступили совершенно иначе. Сначала мы выбросили из Вселенной материю, пространство и время.
– Не может быть! – Король был поражен. – Зачем?. И что вы дали взамен?
– Зачем? – Трурль потряс головой. – Затем, что дух хочет, а не может, и материя может, но не желает. Лучезарный король этим озадачен? Но это же бросается в глаза! Что можно себе представить расточительнее Космоса? Миллиарды миллиардов огней, горящих и тлеющих в вечности, – и что из того? Что это дает? Чему это служит? Богу? Но ведь его вечное сияние не измеряется в люменах и светит в ином измерении! Может быть, нам? Тоже мне служба! Материя может много, разумеется; если бы не могла, то и нас не было бы, но из такого разбазаривания сырья, вулканического растранжиривания, после стольких ошибочных, путаных, эпилептических мучений она рождает щепотку здравого смысла! К чему такой размах? Для драматического эффекта? Но ведь сотворение не спектакль.
А дух, в свою очередь так увязший в материи, закованный в ней трагикомический узник! Рвется вон из тела, а в это время тело его рвет и само нарывает, пока не распылится или не растечется… С этической точки зрения это непристойно, а с эстетической – отвратительно. И потому мы выкинули материю-идиотку и духа-узника, решив создать нечто осредненное между их крайностями. Наш материал – аматерия. Nomen omen! Amo, Amas, Amat, не так ли? Ars amandi 17 – не какая-нибудь там прана, дао, нирвана, студенистое блаженство, равнодушное безделье и самовлюбленность, а чувственность в чистом виде, мир как эмоциональная привязанность молекул, уже при рождении хозяйственных и деловитых.
Электроны, протоны у нас вращаются друг вокруг дружки не от того, что есть силы, кванты аматериального поля, а оттого, что просто любят друг друга! Теперь понимаете, что поступками аматериального существа движет не физика, а симпатия? Вместо трех законов Ньютона – притяжение нового типа: нежность, забота, любовь. Вместо закона сохранения количества движения – правило сохранения верности, что же касается теории относительности, то чувства вообще относительны, только у нас вместо наблюдателя – возлюбленный, а вместо факта – такт. А поскольку мы отказались от бренных тел, то и в эротике у нас больше нет физики – никакого трения, давления, смазки, сжатия – таким образом, по самой природе любовь в нашей вселенной должна быть идеальной!
– Ну, а время? А пространство? – допытывался заинтригованный Ипполип.
– Времени мы придали покорность и эластичность, чтобы оно слушалось тех, кому это необходимо. Эластичность эта представляет собой так называемый трюм. Вместо казарменного существования, вместо парада часов, минут, секунд в неумолимом календарном режиме под барабанную дробь часового механизма у нас каждый может трюмить неравномерно, как ему нравится. Кто спешит, тот стрюмит из среды прямо в субботу, а кому нравится четверг, может четвертовать себе досыта. А пространство мы убрали полностью, потому что его размерная категоричность содержит в себе серьезную угрозу для живущих.
– Да? Я как-то не заметил.
– А как же? Во-первых, в нем помещается всегда только что-то одно, а когда туда же проникают и другие вещи, происходят несчастья. Например, если свинцовая пуля летит туда, где кто-нибудь стоит, или когда два поезда пытаются занять одно и то же место. А огромные расстояния, которые приходится преодолевать? А теснота – информационная, демографическая и порнографическая? Дух непространственен – его унижает протяженность тел, которая вынуждает хватать, обнимать, тискать, причем заранее известно, что рано или поздно все равно придется отпустить.
– Ну хорошо. И как же вы все это устроили?
– Пространственность заменили вместимостью, благодаря которой каждый может быть везде сразу и даже там, где уже есть другие. Что же касается существ, вернее, существа, то мы пока создали только одно, взяв за основу индивидуализм без эгоцентризма, либерализм без анархии, а также идеализм без солипсизма. Индивидуализм, а следовательно, личность, а не какое-то там совмещенное сознание, втиснутое в общее, неизвестно чье. Конкретное существо, но не самолюбец, занятый только своей особой, скорее, даже вселичность, потому что простирается безгранично. Ото всех в нем понемножку. Он не везде одинаков – здесь его больше, там меньше, а где его что-то заинтересует, туда его сразу наплывает много, то есть создаются очаги концентрации, вызванные желанием или возвышенной решимостью. Иначе говоря, духовная сосредоточенность вызывает физическое сгущение.
Ведь и самый большой гений местами бывает жидким. Между прочим, это разрешает и проблему транспорта, потому что не надо никуда путешествовать. Только помысли о цели – и тут же начнешь там сгущаться и подтягиваться до состояния насыщения и удовлетворенности.
– Как я понял, мир этот у вас уже готов? Что же вы запираетесь и не впускаете моих посланцев? Что? Опять какие-нибудь объективные трудности? Говорите же, не то разгневаюсь!
Трурль посмотрел на Клапауция, Клапауций на Трурля и – молчок. Видя, что ни одному говорить не хочется, показал Ипполип пальцем на Клапауция:
– Говори ты!
– Возникли неожиданные сложности…
– Какие? Ну что мне, по слову из вас вытягивать?
– Сложности неожиданные… Творение, в общем, удалось, и мы можем показать его даже сейчас, но чем дальше, тем меньше понятно, что в нем и как происходит…
– Не понимаю; Что-нибудь портится?
– В том-то и дело, что мы не знаем, портится ли, и не знаем, как бы это можно было узнать, государь. В конце концов в этом легко убедиться. Трурль, включи проектор…
Трурль наклонился над самым большим аппаратом, установленным на двух колченогих столиках, что-то там нажал, и на побеленную стену упал конус света. Король увидел радужную гусеницу на выгоне или глазунью из павлиньих яиц, но быстро сориентировался, что это и есть Крентлин Щедрый, едва зачатый сознанник вездесущий, ни телесный, ни духовный, потому что как раз осредненный. Рос он как на дрожжах, ибо размышлял о себе, а чем больше он размышлял, тем больше его было. Когда он пытался как следует сосредоточиться, то от недостатка сноровки часто расползался, а поскольку Природа не терпит пустоты, эти дыры тут же заполнялись аффектом. Весь он наливался преданностью и чувствительностью, каждым своим размышлением раздвигая радужные горизонты, ибо все психическое там становилось сразу и метеорологическим. Досаждали ему только ложные влюбленности – амурные миражи, потому что приливы одних его чувств наталкивались на наплывы других, ухаживая за ними по недоразумению, и так все время, встречая в себе только себя, местами он по уши в себя же влюблялся. Потом он переживал тяжкие разочарования, когда убеждался, что это все только он сам, а он все же не был самолюбцем и вовсе не себя хотел полюбить, потому все горизонты ему заволокло тоской. И так как кругом был только он сам, это и определило его пол и он стал самцом, отчего тут же бурно возмужал. А поскольку все индуцируется с противоположным знаком, он сразу же решительно возжелал иносущества женского пола. Стал воображать себе девиц-зоряниц с неопределенной, но весьма понятной клубистостью, и ходила в нем та любовь к неведомым раскрасавицам как стихия, и главным образом там, где он почти прекращался.
Так, по крайней мере, можно было понять эти климатически-психические и интеллектуально-метеорологические явления. Мысли его становились все более темными, прямо черными и оседали в наболевшей психике, иногда доходя до размеров философских камней. Потому что так выглядели плоды безнадежных медитаций – будто окаменелый осадок на дне души. Но если это так, то почему он уронил несколько самых крупных на выгон, тихо мигая заревым блеском, а потом пустил копоть и прояснился с явным удовлетворением? Может быть, это был способ избавляться от душевного балласта? И так он с собой боролся, так его бросало из стороны в сторону от неудовлетворенных чувств, так выставлял из себя друголы в разных фазах упоительной консолидации, что надорвался где-то на периферии и выронил из себя нечто вроде облачка-кумулюса, отделенного вихревой стеной от грозового фронта. Образование это некоторое время влачилось за Крентлином, пока не взялось за самоурегулирование. И тогда оказалось, что он выделил не ту единственную друголу, о которой мечтал, а полтреть их, Звоину, то есть Цеву, или Цевинну, несомненно, женскую, а также подобных близнецам-полумесяцам двух ее мужей. Поначалу они были как муравьи, никакого пола, но женственность Цевинны индуктировала в ней двоемужество. Собственно, их было не два и не полтора, а скорее, разветвленец, как бы переходный, – но таким уж он и остался как Марлин-перемычка-Понсий, или же Пунцский, потому что то и дело краснел.
И тут все жестоко перепуталось. Крентлин даже и не знал, что сам явился причиной своей беды, что к двумужнице страстью разгорелся. Не заметил даже, как, пылая, терзаясь приступами ревности, особенно в мысленной погоне за Цевинной, выделяет очередные существа, калибром и форматом соответствующие резкости чувственных перенапряжений.
Так от его любовных метаний и заселялся этот мир. Никто там никому не вредил, тем более что они могли легко и даже фривольно мимоходом проплывать сквозь друг друга, задерживаясь разве что на особенно интересной идее проникаемого, и то мимолетно, без видимых последствий. Но все-таки что-то отягощало их души, потому что мало кто из них не ронял тех черных, как чернильные орешки, конкрементов загустевших мыслей – может быть, плодов слишком холодной и потому застывшей рефлексии. И этого было достаточно, чтобы выгоны покрыла морена – настоящая мировоззренческая свалка. А то, что происходило над ней, понять было трудно. Крентлин во время, казалось, случайных встреч просвистывал сквозь ветреницу Цевинну, как блуждающий вихрь, будто ее не замечал, но это была только видимость. Он ощущал сумасшедшую дрожь, чувствуя, что она то тут, то там ему симпатизирует, что местами он ей вовсе не безразличен. Тогда он начинал сладостно густеть в ее пределах, но она делала тщетными эти окклюзии, давая бедняге холодный афронт.
И однажды Крентлин, уходя, куда мысли понесут, после такой диффузии, которая обернулась конфузней, выронил облачко, очень малозаметное, которое кружилось некоторое время, очевидно, в нерешительности, хватит ли его при такой щуплости на персонализацию. И потом это существо так и не выросло, а только удлинилось, и юркое, как юла, то и дело проскальзывало в Крентлина, то ли с целью подстрекательства, то ли чтобы побыть в ком-то более значительном. А потом этот прихлебатель отрывался и бывал меньшинством у Цевинны. Мародер? Непрошеный гость? Осмотический отшельник? Злонамеренный нахал? Неизвестно. Во всяком случае, досаждал и ей, и ему, так что они отряхивались после его посещения. Зато Марлина-перемычку-Понсия этот странный переуженец избегал как огня.
Тем временем в поведении Крентлина произошла перемена. Ни с того ни с сего он так впух в двоемужа, так в нем разлился, как будто собрался вытеснить его из бытия. Но Марлин-перемычка-Понсий даже не покраснел. А карлик, истинный недоносок, крутился то туда, то сюда, захватил несколько философских камней, но тут же их выбросил и покрылся пятнышками, похожими на глаза. Высматривал кого-то или что еще? Похоже было, что он даже многозначительно моргает. Все как-то приостановились. Почему-то никто уже не взыгрывал духом. Почему-то все поблескивали. Было это преломление света или духовный надлом? Неизвестно, до чего дошло бы дальше, но в этом месте король Ипполип принялся топать ногами и проекцию пришлось прервать. Король требовал объяснений.
– Увы, государь, мы этого сами не понимаем, – сразу признался Трурль. – В этом и состоит наше главное затруднение. Мы не знаем, чем являются действия Крентлина и Цевы – невинными играми или черной язвой нашего творения. Хуже того, мы не знаем, как бы нам это узнать. Мы повторяли опыт неоднократно, сменяя исходные условия. Иногда вместо двоемужа получался полторант, иногда Цевинна получала перемычку, но это статистические отклонения, вполне банальные при любом сотворении мира.
– А этот переуженец?
– Этот вьюн? Понимаю, что имеет в виду Ваше Величество. Он появляется каждый раз, иногда бывает побольше, иногда поменьше, временами несколько раздвоенный, как змеиный язык, что тоже вызывает всяческие подозрения. Но королю должно быть известно, что в каждом производстве имеются отходы, а там, где все настолько же материально, насколько и идеально, даже мусор может быть одушевленным. Следовательно, с технической стороны этот феномен представляется невинным побочным продуктом творения.
– Ты так полагаешь? Только почему он такой настырный? Чего он в них лезет? Может, это соблазнитель?
– Внешне так оно и выглядит, – согласился Трурль. – Но мы-то не знаем, соблазняет он или не соблазняет. Они там все взаимно проникают, но ради прогулки или с намерением прельстить, невозможно разобраться, потому что никак нельзя выяснить, чего им надо. Тут мы попали в переплет, потому что вышли за пределы классического варианта творения. Тот духовный солитер извивается, как змий, поскольку худой он, а значит, и гибкий. Правда, согласно теологии, дьяволу и не полагается лишний вес, но, если посмотреть рационально, разве непременно зло должно быть тощим? Корпулентное тоже вполне могло бы искушать. Мы ничего не повторили и никому не подражали, когда создавали новый мир, – и вот результат. Мы создали мир, непохожий на наш, вот мы его и не понимаем.
– Что ты мне тут рассказываешь? А разве Господь Бог кого-нибудь копировал? Ведь он, как известно, творил из ничего!
– Только сам мир, Ваше Величество, а не райских поселенцев! Тех, если помните, «по своему образу и подобию». Примерно так он их смоделировал. И не случайно. Подобие сотворенных своему творцу – главное условие удачного творения! Чем сильнее отличается творец от своих детищ, тем меньше его разумение о том, кого же он сотворил, что они чувствуют, мыслят и каковы их намерения. Ваше Величество сами в этом только что убедились. Кто ликвидирует подобия, тот уничтожает оплот взаимопонимания. Если мы сами ни в чем не напоминаем сотворенных нами, то не можем и понять, кто, как, почему и зачем там что-то делает, а в первую очередь – почему он делает это так, а не иначе. Речь тоже ничего не объяснит, потому что основана она на подобиях, а их тут нет. Если у нас нет никаких органов, подобных органам сотворенного, если его телесность ни в чем не соответствует нашей, если его время – не наше время, а его пространство – не наше пространство, то оба наши мира ни в чем не совпадают и даже нигде не соприкасаются. Так мы можем по невежеству создать мир наиужаснейших мучений, и при этом у нас не хватит воображения даже представить, что мы сотворили. Существа, совершенно отличные от творца, для него совершенно непроницаемы и непостижимы. Я считаю, что это первый закон творения миров, его неотделимая антиномия. Либо мы сотворяем понятных нам, и тогда они должны быть богоподобными, либо создаем непохожих, судьбе которых не сможем даже сочувствовать, ибо она останется непроникаемой тайной.
– Вот! Вот это важно! О! Фундаментальную вещь ты сейчас сказал, Трурль!
– вскочил с места Ипполип. – Да! Теперь я вижу! Я понял! Суждение, что тот напухлец там познавал блаженство, потому что так цветисто дымил, как доказательство истины стоит столько же, сколько утверждение, что тот, кто эффективно горит на костре, испытывает от этого удовольствие! Теперь я понимаю! Повернуть дело творения лицом к сотворенным – это одно, а понимать, как у них там дела, что они имеют от этого бытия, – это совсем другой вопрос! Друзья мои, изъявляю вам нашу особую благодарность за это откровение, ибо оно утвердило меня в вере. Теперь я буду еще крепче верить в Бога, чем до сих пор.
– Не вижу связи, – удивился Трурль.
– Не видишь? А «Credo quia absurdum est»? 18 Вечный – самопортящихся породил, всемогущий – беспомощных, всеблагой, кому ни малейшего труда не составляет сохранение добродетели, – похотливых ничтожеств. Как же ему не разочароваться, видя такое сочетание качеств? «По своему образу и подобию» он строил свои ожидания, но оказался неспособен миниатюризировать их до масштабов сотворяемого! Вечного огня ожидал он от искорки своего блеска! Отсюда его кажущаяся эксцентричность, мнимые Божьи чудачества, впечатление, что он какой-то шарлатан, чудак, маньяк, сутяга и крючкотвор, который и после смерти тянет сотворенных на судебные процессы, расследования и разбирательства во всех инстанциях долины Иосафата.
Ах, теперь я понял, что так угнетало отцов церкви, а особенно Августина
– эту непостижимость, унизительную не только для здравого рассудка, но и для чувств, они не смогли понять, упрятали свое изумление в догматы, отказались от собственного разума, не зная, что им явилась антиномия, заключенная в технике, а не в этике творения. Да, конечно, это так! Теперь я уже без всякого сомнения верю в Бога и сочувствую ему, – уже спокойно закончил король.
Однако Клапауций его вовсе не слушал. Казалось, он что-то внутри себя переваривал, усмехаясь мыслям, навестившим его неожиданно. Наконец он поднялся с мира, на котором сидел, притом так торжественно, будто собирался взлететь.
– Наисветлейший король! – произнес он важно, сильным голосом. – Мне пришла в голову одна идея, совсем новая. Я не люблю хвастать, но должен сказать, что это замысел совершенно гениальный. Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы создать мир, стремящийся к совершенству, такой, жители которого найдут и утвердят во веки веков собственное счастье, но при этом не будут ни в чем, повторяю, ни в чем похожи на того, кто их сотворил…
– Ну! Ну! – в один голос воскликнули Трурль и Ипполип…
Однако Клапауций ничего им больше не сказал. Сказал только, что через четыре дня приготовит новый мир и экспериментально докажет его безупречность. Напрасно настаивал монарх и злился Трурль. С улыбкой высшего знания, с насмешливым равнодушием гения, который, заслужив вечную славу, ни во что не ставит злопыхательство завистников, Клапауций начал подбирать с полу инструменты. Тогда Трурль заявил, что умывает руки и не будет участвовать в очередной попытке, но пойдет и сам проведет эксперимент в новом направлении. Монарх условился о встрече с обоими конструкторами в дворцовом зале аудиенций в ближайшую среду, и с тем они разошлись.
В среду оба прибыли пунктуально. Трурль с пустыми руками, а Клапауций прикатил тележку, которая трещала под тяжестью аппаратов, и сразу же приступил к демонстрации.
– Государь, я достиг успеха, – сказал он. – Но чтобы все было с самого начала ясно, я должен сделать к моему творению небольшое устное вступление. Мой… э-э… коллега Трурль сформулировал антиномию творения в классическом варианте следующим образом: чем меньше подобен творец своим сотворенным, тем труднее ему разобраться в их судьбе. Когда же в пределе подобие равняется нулю, творец не знает о качестве жизни своих креатур ровно ничего. Отсюда якобы неразрешимая дилемма: либо уподобить творимых самому себе, но тогда чем лучше творец будет понимать сотворенных, тем больше будет ограничен он сам и утратит творческую свободу, либо чем свободней он в своих начинаниях, тем дальше будут от него ускользать сотворенные в своей сущности и существовании. Я уничтожил эту дилемму своим неклассическим подходом. Я сотворил не один мир, а потенциальное их множество – не универсум, а поливерсум вызвал я к жизни в этом ящике. Я сам не знаю, как живется там теперь моим существам, но мое незнание не имеет никакого значения, потому что я поместил их в многовариантном мире, который они могут менять на совершенно иные миры. Кому не подходит данное существование, кому все осточертело, тот бежит к рычагу и одним поворотом переводит бытие на новый путь. И каждый такой мир существует на распутье, будучи пересадочной станцией для бесчисленного множества других, легко доступных миров. А поскольку мои сотворенные сами копаются в бытиях, как в разложенных товарах, поскольку могут примерять их как шапки, руководствуясь своим собственным, а не моим вкусом, то получается вселенная, которая в конечных качествах зависит только от голосования ее жителей. Как творец я дал им максимальную свободу! Я ничего не выбираю за них, не даю им никаких рекомендаций, инструкций или заповедей – ни из горящего куста, ни из какого другого места, я ничего им не навязываю и ничего им не запрещаю, не делаю вида, что знаю лучше них, в чем заключается их счастье, что возвышает их, а что ведет к падению. Они могут заблуждаться, но ни одна ошибка не будет окончательной, ибо ее исправит переключение онтологической стрелки. А потому мой мир не является дидактическим, авторитарным, школярским, арбитральным, категорически заданным раз и навсегда без всяких консультаций и дискуссий. Это не исправительный дом с карами и поощрениями, которые я мог бы установить, сохранив для себя право помилования в исключительных случаях. В этом мире нет подпруг, которые я один мог бы иногда отпустить своим чудотворным вмешательством.
И поскольку этот мир будет все время преображаться и менять суть до тех пор, пока в нем останется хотя бы одна личность, не удовлетворенная тем, что есть, он будет блуждать, пресуществляясь в разные стороны, погружаться в разные судьбы, пока не попадет в такую, которая всех удовлетворит. Только тогда никто не тронет переключателя, ибо воцарится вечная гармония. Итак, мой мир не стартует в раю, чтобы потом поскользнуться в сторону ада, а берет начало в борьбе и направляется к вечному раю. Я все сказал, государь.
– Ага! – сказал Ипполип, который просветлел лицом, пока слушал Клапауция. – Вот! Это мне в самый раз! Давай! Ну, ну! Кажется мне, что на этот раз ты угодил в десятку! Говоришь, учредил выборы? Пятидостойное демократично-онтичное голосование: равное, всеобщее, свободное, тайное, да еще и обратимое? Что ж, это похоже на идеальное равноправие. И говоришь, не можешь ничего понять, ихних там поступков, мотивов? По правде говоря, немного жаль.
– Вот, вот! – Клапауций поднял палец укоризненным жестом. – «Немного жаль», не так ли? Жаль, что нельзя возноситься, вмешиваться, мудрить, требовать, ругать, обласкивать, приводить в исполнение, рога обламывать, поливать серой и при этом петь себе дифирамбы устами сотворенных! Конечно, можно кое-что понять и в таком мире, как этот мир в ящике, но это возможное понимание ни к чему не обязывает, оставаясь чем-то вроде частного мнения, votum separatum Творца, записанного на полях его Творения…
– Ну что ж, покажи, покажи, любезный, нам свой мир, – вздохнул Ипполип и поудобней уселся на троне, а Клапауций, не обращая внимания на угрюмо молчавшего Трурля, пустил сноп света на алебастровую стену.
И снова они увидели Крентлина-зорянина, его духовные метания и заблуждения, закончившиеся появлением на свет гермафродитного потомства. Цевинна совсем не изменилась, а муж на этот раз оказался полтораком, потому что на него пошло меньше аматерии и он появился как по туловищу перевязанный Марлин Подпонций.
А так как присутствующие это уже раз видели, картина показалась им вполне доступной для понимания, а кое в чем даже ясной. Каждый созданный был понемножку везде, каждый, общаясь с другими отдельными своими частями, присутствовал по желанию в братних и сестринских душах, посещая ближних изнутри с умеренностью, происходящей от поверхностного натяжения и хороших манер. Видимо, желая доказать бесполезность артикулированной речи для понимания событий, Клапауций включил звук, и этот немой до сих пор мир взорвался многоголосым говором.
Сразу же донеслись до них отзвуки трюмления. Это муж, Марлин, раздувал себе приятные минуты в Цевинне, блуждая в ее размышлениях. Потом что-то между ними испортилось. Подпонций удалился, слегка затуманенный сзади, а Крентлин стал напирать на нее. Цевинна не пропускала его вовсе, будто аппретированная.
– Ну, дай мне хотя бы один трюм! Соснимся! Затуманы устроим!
– Сам затуманься! Прошу в меня не вмешиваться! Это моя клокоть!
– Осмотическая прелестница, зоревая сгустница! Пустим Понтяка на клейстер!
– Вы забываетесь! – донеслось неразборчиво.
– Что тебе, полторант милее? Я тебе вмою, втрою, замстру!
Не совсем было ясно, кто, о чем и в каком смысле кричит. Посреди морены из отвалов философского камня тут и там торчали аккуратно покрытые навесами пересущницы. Цевинна от взъяренного Крентлина стянулась к ближайшей из них, где сидел на страже превратник, непроницаемый, будто весь затянутый бельмом, этакий молокосос. Между ними произошел краткий обмен мыслями:
– Дай мне сплав, дай отпуст, хоть на один трюм, а то съюхчу! Шансуй мне забыт, во как нужно! На мучильский всос!
– Отоймись, смотри, перебытую! Не балуй, не еленься, ты!
Пользуясь замешательством, Цевинна уже диффундировала сквозь превратника к рычагам, но в этот момент Крентлин, выйдя из себя, окружил ее сгустки, внедрился в нее, захватив по дороге молокососа, и начал ее ожесточенно трюмить: «Засущимся здесь, тут!..»
А уж Марлин рвался к ним так, что лопнула перемычка и муж вместе с отделившимся побочным Подпонцким влетели в Крентлина с намысленной стороны, распучили его, вышла куча мала. Цевинна выскочила оттуда растормошенная и стала иннеть. Каждую минуту меняется: евится, мариолизуется, наконец, слюдмилась – что это, болезнь или вид мимикрии? По некоторой относительной близости наеленилась, но стала скорее Елендой, чем Еленой, может, от волнения, а может быть, второпях.
Тем временем над пересущницей Марлин и Подпонций с Крентлином превратились в клубок кипящего киселя, размазывая во взаимных турбуленциях превратника, который напрасно старался сосредоточиться, потому что его рассеивали с подмысленной стороны.
– Чтоб ты лопнул, чужеловская диффузия! – вопят как один мужья.
– Сами лопайтесь! Впитывайтесь в мертвячий чух, а не то я вас сам впитаю! – отвечал им любовник, хотя и неудачливый, но уж близкий к цели.
– Ты, растворяк, черт с тобой! Вали в онтику!
Крентлин в один миг вымыслился из пересущницы и уж был рядом с Цевинной, наполнил собою ее всю, хотя и в фазе Еленды. Муж тут дернулся сразу в обе стороны – к жене и к рычагам:
– Пересущаюсь, чтоб Крентляк впитался! Цева не изменится? Мигом мне шансуй, беляк!
А превратник совсем выцвел и сипит:
– Пусти, радикал лощеный! Или по нулям, или трансфинально. Компромисс не советую – трюма не выйдет!
– Уточни! Кто занулится? Влезун?
– Гы! Может, твоя четверть, а может, Понцкая, а может, и оба пропадете. Я не пророк, а шансер.
– Шанса тебе в трюм! Затьмись! Пересущаюсь!
Подскочил Марлин к пересущнице, Подпонций с ним вместе тянет.
Тут блыснуло, заничевело, но через мгновение опять они тут, но не те же самые, ибо онтика стала совсем другая. Понция нет и следа, Крентлин уже не Крентлин, а Гренслич, и к тому же карликовый, как будто его таким индуктировала экономная Цевинна, которая сама ничуть не изменилась, по крайней мере на первый взгляд. Пресуществление вызвало всеобщую панику. Кто мог, сразу нырнул в кого попало, то ли чтобы спрятаться, то ли от утробного рефлекса – неизвестно. Каждому хотелось быть в самой середине. Цевинне тоже, поэтому она двинулась в посторонние неясницы, но попала как раз в область таких отдаленных интересов, что ее там вообще почти не было, тогда она прояснилась на вылет и выпала на морену. Она еще дрожала, а тут
– что за постоянство чувств! Марлин пополам с Гренсличем к ней. Тут она смешалась, а они с нею. Она хотела уйти прочь, стряхнуть их, выйти из этого бедлама, в котором уже никто собственных мыслей не узнавал и тянул к себе чужие, принимая их за свои в психическом замешательстве, почти что помешательстве. Цевинна развеялась оболочками, а те с трудом опомнились, полные чужих чувств, и направились к пересущнице. Теперь Марлин дал другое бытие. Из хаоса воплей можно было заключить, что теперь уже никто ничего не понимает.
Дым повалил, как от ста пожаров без огня. Казалось, что каждый, по-прежнему вездедействуя, кроме того, выпускал из себя будех, то есть планы на будущее, неисполненные намерения, и тем обильнее, чем отчаяннее старался сосредоточиться.
Возможно, это была лишь форма экстернализации мыслей, или же в конце концов (так потом утверждал Трурль) дело дошло до панпсихической аннигиляции, и упомянутые дымы были вывороченными наизнанку интеллектуальными потрохами жителей этой версии бытия.
Глядь, а тут Гренслич разлетается во все стороны, вместо мировоззренческой морены какие-то тумбы, до самого горизонта умозаключается тихая мыслительность, мир в этом варианте как бы более доодушевленный, но в высшей степени официальный, потому что повсюду какие-то гербы и печати. Муж не муж, а уж и сползает к Цевинне с довольно сильной прецессией. Сила Кориолиса, Мопертюи или привычки – не разберешь. Вдобавок ко всему исчезло деление по родам. Неизвестно стало, что предпринимать, потому что пропал смысл конфликта. Секс тут уже из области преданий – не секс, а экс. Мужуж, не разобравшись в этом вследствие сильного аффекта, кинулся было в глубь Некароля Гренслицкого, шипя: «Я ж тебя заклокочу, я тебе покажу этрусское бытие!» – но остолбенел, увидев, что перед ним не любовник, а любовно: сникакала Гренслича эта онтология.
А тут еще вмешался молокосос, вдруг отпихнул ужа, а сам шасть в пересущницу и – полный назад, чтобы вернуть нечто предыдущее, но либо попал в дурной трюм, либо хватка у него соскользнула с онтоятки. Охнули все координаты, континуум ужасно застонал, как будто с ним выкидыш случился, посыпался град философских камней, и сверкнул новый мир, но какой!
Из мужа-ужа получилась растопырка, явно женственная, как будто этого женского начала чуть-чуть оставалось на самом дне, превратник, весь в батистовых оболочках, как вьюнок обвился вокруг пересущницы и расцвел над рукояткой радужным цветком – ни дать ни взять папоротник в ночь на Ивана Купала!
А где же Цевинна? Какие-то раздутые вспученности, пузыристые завитушки, баллонеты-монгольфьеры в небесах – она ли это? Растопырка из ужа влезла в соседник, где пелегриб с недодуткой разглагольствует, стоя на одной ноге, а со ста сторон, дрожа от усилий, ложноножки тянутся к онтоятке…
Король уже минуту как требовал прекратить проекцию, немедленно закончить. Клапауций наконец неохотно повиновался. Он выключил аппаратуру, ворча, что можно было бы обождать еще несколько пересуществлений, что в конце концов все это должно как-то отдистиллироваться, разъясниться, это они так, по неопытности, с непривычки, из-за спешки, но никто его не слушал. Король сунул скипетр в карман и чистил державу рукавом, а Трурль, став на четвереньки, с трех сторон осматривал ящик со вселенной, зажмурив то один, то другой глаз, заглядывал внутрь через щели, постукивал в дно, потом решительно поднялся и сказал, стряхивая колени: «Значит, так. Выбравшись из классической антиномии, уважаемый коллега влез в неклассическую». Пятидостойные выборы онтологии – не так ли? Смешно! Они же в этом ящике ничего не выбирают, а только скачут, как рыбы на сковородке, бедняжки. Открытие, несомненно, налицо: падучая многосущая, или ontolepsia progressiva – новый вид экзистенциальных страданий. Ведь они тем только и заняты, что от холеры бегут к чуме, от чумы к проказе, и как можно при этом утверждать, что, убегая от одной заразы в другую, сотворенные таким образом приближаются к идеалу?
Тут Клапауций начал кричать и даже, забыв о королевском присутствии, топать на Трурля, который уселся на его мир и вызывающе болтал ногами. Дело могло дойти до оскорблений действием, если бы не вмешался Ипполип, напомнив, что это как-никак, а все же сотворение мира.
Едва остыв, Клапауций принялся бойко и научно объяснять, почему множество альтернатив бытия должно оказаться для сотворенных непредсказуемым: бытия не ботинки, чтобы их можно было примерить! Риск есть при каждом переходе, это накладные расходы прогресса. Но» в его, Клапауция, варианте расходы эти меньше, чем в классическом, и он готов доказать это расчетами. Примерка бытия невозможна еще и потому, что когда кто-нибудь переходит из одной онтики в другую, то он не только меняет все свое окружение на совершенно новое, но вместе с тем и собственную сущность подвергает непредсказуемому изменению. Риск здесь неизбежен, а пробы требуют времени, но что такое десять минут лишних наблюдений в сравнении с целыми эпохами классического варианта? Идеальное состояние может наступить через час или через двести лет, это правда, но другого пути не существует… Так он продолжал, употребляя все более замысловатые термины, ссылаясь на топологию духа и геометрию осознаний и озарений, излагая элементы эндоскопической онтографии, климатизации эмоциональной жизни, ее уровней, экстремумов, подъемов, спадов, а также упадков духа, и болтал так долго, что охрип, а у короля разболелась голова. Тогда Трурль поднялся с мира, на котором сидел, и, вынув из-за пазухи небольшой клочок бумаги, сказал:
– И я тоже не тратил попусту эти последние дни, государь. Позвольте представить Вашему Величеству результаты моей работы.
– Подожди, – прервал его король. – Один из моих советников так мне вчера сказал: если мир выйдет у нас лучше, чем у Господа Бога, тогда он выиграл, потому что это значило бы, что он наделил нас, сотворенных, неограниченными творческими возможностями. Если же мир нам не удастся, то выходит, что он нам этого всемогущества не дал, потому что не захотел. Итак: если выиграем, то проиграем, а если проиграем, то как раз и выиграем! Ведь выиграть мы можем только за его, за Божий счет, в то время как, проиграв, мы проявим немощность, которую он нам придал, и эту немощность ему возвратим с протестом, что мы жертвы дискриминации при сотворении мира! Что скажете?
– А! Софизмы! – Трурль сунул королю под нос свою бумажку и при этом забылся до такой степени, что, желая до конца унизить Клапауция в монарших глазах, потянул короля за обшитый горностаем рукав: – Вот, взгляни сюда, государь! Это проведенное мною формализованное, то есть окончательное доказательство невозможности сотворения мира!
– Да? Ну? – изумился монарх. – Что я слышу? Так ты действительно доказал, что нельзя?
– Да, государь. И без всяких натяжек. Нечего и стараться – вот расчеты.
Король вытаращил глаза.
– А как же, однако, все это? – развел он руками. – Мир-то существует…
– Что ж, – пожал плечами Трурль. – Таков уж этот мир… Я-то имел в виду совершенный…
Воспитание Цифруши
Когда Клапауция назначили ректором университета, Трурль, который остался дома, поскольку терпеть не мог любой дисциплины, не исключая университетской, в приступе жестокого одиночества соорудил себе премилую цифровую машинку, до того смышленую, что втайне уже видел в ней своего наследника и продолжателя. Правда, всякое между ними бывало, и, в зависимости от расположения духа и успехов в учении, иной раз звал он ее Цифрунчиком, Цифрушей или Цифрушечкой, а иной раз – Цифруктом. Первое время игрывал он с нею в шахматы, пока она не начала ставить ему мат за матом; когда же на межгалактическом турнире она одолела сто гроссмейстеров сразу, то есть влепила им гектомат, Трурль убоялся последствий слишком уж однобокой специализации и, чтобы ум Цифруши раскрепостить, велел ему изучать в очередь химию с лирикой, а пополудни они вдвоем предавались невинным забавам, например, подыскивали рифмы на заданные слова. Именно этим и занимались они в один прекрасный день. Солнышко пригревало, тихо было в лаборатории, только щебетали реле да на два голоса звучала рифмовка.
– Внемлите? – предложил Трурль.
– Литий.
– Взор?
– Раствор.
– Солнце?
– Стронций.
– Тюльпан?
– Пропан.
– Храм?
– Вольфрам.
– Уста?
– Кислота.
– Кой черт, сплошная химия! – не выдержал Трурль. – Ты что, не можешь другой извилиной пошевелить? Убит!
– Карбид.
– Хлебнуть?
– Ртуть.
– Акация?
– Полимеризация.
– Прадед?
– Радий.
– Силен?
– Этилен.
– Довольно химии! – разгневался Трурль, видя, что так можно продолжать без конца.
– Это почему же? – возразил Цифрунчик. – Такого запрета не было, а правила во время игры не меняют!
– Не умничай! Не тебе меня учить, что можно, а чего нельзя!
Между тем малыш преспокойно продолжал:
– Теперь ты. Магний?
Трурль не отзывался.
– Гафний? Цезий? Кобальт? Спасибо, я выиграл! – заключил Цифруша.
Трурль, тяжело дыша, начал было озираться в поисках гаечного ключа, но затем, овладев собою, сказал:
– Хватит на сегодня играть. Займемся-ка более высоким искусством, а именно философией, поскольку она – царица наук и как таковая касается абсолютно всего. Спроси меня о чем хочешь, а я отвечу тебе дважды, сперва по-простому, а после по-философски!
– Правда ли, что тепляк – это подогретый земляк? – спросила машинка.
Трурль откашлялся и произнес:
– Нет, ты не так меня понял, твой вопрос касается словаря…
– Но ты же сказал, что философия касается всего на свете! – настаивал Цифрунчик.
– Спрашивай про другое, раз я тебе говорю!
– Почему скверный делец не то же самое, что деловитый сквернавец?
– И откуда ты только берешь такие дурацкие вопросы?! – возмутился Трурль. – Ну, хорошо. Выучки тебе еще не хватает, это понятно. Знаешь ли ты, чего хочешь?
– Малость поинтегрировать.
– Да не в эту минуту, осел, а в жизни!
– Хочу превзойти тебя славой!
– Это желание суетное, не стоящее усилий и уж наверняка не достойное быть целью всей жизни!
– Тогда почему ты увешал стены грамотами да дипломами?
– Просто так! Это не имеет значения. И больше мне не мешай, а то я тебя вмиг перепрограммирую!
– Ты не можешь так поступить, ведь это противно этике.
– Хватит. Идем на чердак – я устрою тебе наглядную лекцию по философии, а ты слушай молча, учись и не встревай!
Пошли они на чердак, Трурль приставил лесенку к дымоходу, поднялся по ней, за ним взобрался Цифранчик, и вот уже они стояли на крыше, откуда вид открывался далеко-далеко.
– Взгляни-ка на лесенку, по которой мы поднялись, – благожелательно сказал Трурль. – Куплена она мною по случаю, однако оказалась длинновата, а укорачивать ее не хотелось, уж больно хорошее дерево; вот и проделал я в крыше дыру и в нее просунул излишек. Как видишь, теперь лесенка на два метра выше кровли. Если подниматься по ней, то поначалу каждый твой шаг имеет однозначный и ясный смысл. Но если, оставив внизу чердак, ты будешь взбираться и дальше, смысл, содержавшийся в предыдущих твоих шагах, улетучится на уровне гребня крыши и не останется никакого иного смысла, кроме того, который ты сам вложишь в свои начинания! Поэтому, будучи спрошен, зачем я ставлю ногу на нижние ступени, я вправе ответить: «Взбираюсь на крышу»; но этот ответ не годится, если взобраться на самый верх! Там, наверху, дорогой мой Цифруша, надобно уже самому выдумывать цели и смыслы. Такова in ovo 19 вся теория высших сущностей, то есть разума, который, высунувшись из болтанки и передряг материи, начинает дивиться как раз тому, что он разумен, и не знает, что ему делать с самим собой и что означают его сомнения! Запомни мои слова, Цифрунчик, ибо это чрезвычайно глубокая притча с философской подкладкой!
– Не значит ли это, что нас занесло чересчур высоко? – поинтересовался малыш.
– В известном смысле да, по инерции, ведь этот процесс уже не притормозить, если он набрал ходу. А теперь сосредоточься, потому что я буду говорить о различии между возможным и невозможным.
– Я сам слышал, как ты говорил дяде Клапауцию, что можешь все! – выпалил Цифруша.
– Ты замолчишь когда-нибудь или нет? Я говорил в другом смысле. Знание кладет конец удивлению, ведь того, кто все знает, ничто не в состоянии поразить! Поэтому меня ничто удивить не может, понятно?
– А если б случилось то, что кажется тебе невозможным, ты и тогда бы не удивился?
– Не мели чепуху. Невозможное не может случиться. Если б, к примеру, сейчас в наш садик упал метеорит…
Он не докончил – послышался пронзительный свист, дом задрожал, несколько черепиц соскочили с крыши, лесенка завибрировала, а в саду вырос столб пыли; и все кончилось так же внезапно, как началось.
– Что-то с неба упало! Должно быть, метеорит! Ты не удивился? – радостно запищала машинка.
– Ничуть, – соврал Трурль, который едва не слетел с гребня крыши. – Такое событие как нельзя более кстати для нашей лекции. Это был чистый случай, то есть совпадение независимых друг от друга событий. Статистика утверждает, что падение метеорита на мирные жилища возможно, хотя и случается крайне редко. Однако невозможно, чтобы сразу же после этого метеорита упал следующий, ибо…
Похоже, Цифруша слушал его не слишком внимательно: высунувшись за край крыши, он разглядывал крупную воронку, окруженную валом из остатков ограды и грядок клубники; на ее дне поблескивало что-то вроде стеклянной глыбы.
– Там что-то есть, – сказал он.
Тут снова завыло, загудело, загрохотало, возле воронки взметнулась пыль.
– Второй метеорит! Теперь-то уж ты наверняка удивился! – восхищенно пищал Цифруша.
– Метеориты не падают дважды в одно и то же место, этого не бывает! – изрек Трурль, придя в себя. – Не исключено, что мы наблюдаем новый тип фата-морганы… Но если допустить, что это случилось в действительности, то следующее падение метеорита исключается на очень долгое время, поскольку статистическое распределение…
Грянул гром, и, взметнувши в воздух тучу обломков, между двумя воронками врезался какой-то блестящий предмет, да с такой мощью, что дом качнуло, как на волнах.
– Третий! – радостно взвизгнул Цифруша.
– Ложись! – перекрыл его голосом Трурль, падая с лесенки на чердак и увлекая за собой воспитанника.
Встав на ноги и слегка отряхнувшись, они уже безо всякого философствования побежали в сад. Трурль обошел вокруг трех больших воронок, тряся головой и тихонько вздыхая, а потом присел на корточках на краю самой маленькой из них.
– Удивляешься?! – торжествовал за его спиною малыш. – А я вот ни капельки не удивляюсь, потому что математика идет впереди твоей философии! Множество планет пересекается со множеством метеоритов, образуя такое подмножество, в котором метеориты по меньшей мере единожды залетают в клубнику. В этом подмножестве должно находиться подподмножество планет, на которые метеориты падают дуплетом, а в нем, в свою очередь, – подподподмножество троекратных столкновений!
– Чушь, – ответил Трурль рассеянно, так как стряхивал песок и глину с загадочной глыбы на дне воронки. – Почему это должно было случиться именно с НАМИ?
– Потому что с кем-то должно было случиться, согласно нормальному распределению, – выпалил Цифрунчик.
– А в каком подмножестве находятся метеориты, начиненные музыкальными инструментами? – спросил Трурль, вставая, а Цифруша заглянул в воронку и издал удивленный писк.
Трурль подошел к сараю и позвал копальную машину, но та, поскольку была разумна, перепугалась грома с ясного неба и вся задрожала, забилась в угол и даже не думала выполнять приказание.
– Вот плоды автоматизации чересчур совершенной! – буркнул Трурль, видя, что рассчитывать не на кого.
В конце концов, орудуя киркой и лопатой, он выгреб из меньшей воронки кусок льда неправильной формы, запачканный землей и внутри мутноватый; однако там, в глубине, виднелась цилиндрическая тень, запеленутая матерчатой лентой. Принесенным из лаборатории молотком Трурль принялся откалывать лед, осторожно, чтобы не повредить вмерзший в глыбу предмет. Глыба наконец раскололась, и из нее выпал темно-красный цилиндр, обвитый златотканой тесьмою; ударившись о рукоять брошенной на землю лопаты, он звучно загудел.
– Барабан… – удивился Цифруша, подымая его с земли. Это и вправду был оркестровый барабан с подставкой, в превосходной сохранности, обшитый козлиной кожей. Цифруша немедленно попробовал выбить на нем мелкую дробь.
Тем временем Трурль без лишних слов принялся за вторую воронку, ибо и там застряла ледяная глыба, гораздо больше первой. Он методично бил молотком, пока из-под отскакивающих ледышек не показались два столбообразных кожаных футляра с молнией наверху, а дальше – еще пара столбиков, обернутых зеленой материей. Трурль работал без устали, и вскоре неведомый предмет лежал на траве, освобожденный от ледовых оков.
Покрывавший его материал, твердый словно стекло, был украшен рядом золотых пуговиц и заканчивался отложным воротником, из которого высовывался кругляк, прикрытый суконной нашлепкой; а с другого конца торчали столбы в футлярах.
– Ей-ей, Существо со Звезд! – возбужденно воскликнул Трурль. – Трубы у него на ногах зовутся сапогами – я видел такие в атласе древностей у моего наставника Кереброна! Это старинный робот, прямо-таки допотопный, смотри и учись! Да перестань же ты барабанить, а то у меня уши лопнут! Вот это – его узорный кафтан, это – шляпа, а что у него в руках? Палки? Они принадлежат к барабану, барабан к ним, из чего следует, что перед нами барабанщик! Поспеваешь ли ты за быстрым течением моих мыслей?
– Я даже опережаю его, – дерзко заявила машинка. – Если барабан с барабанщиком летели вместе, значит, у них была общая траектория, однако вмерзли они не в метеориты, ведь те не летают так кучно; следовательно, нашу клубнику погубила ледовая комета! А раз так, то это три фрагмента ее ядра. Я бы ничуточки не удивился, если в третьем окажется дирижер или виолончелист!
– Это еще почему, умник ты мой? – спросил сбитый с толку Трурль.
– Потому что комета, должно быть, задела хвостом целый оркестр! Во всяком случае, это вполне вероятно…
– Не трогай его! Ничего не трогай! Сиди смирно, пока я не скажу, понятно? – снова рассердился Трурль и, утвердившись тем самым в своем наставническом превосходстве, продолжил осмотр Существа.
– Эти сапоги – с пряжками, – назидательно сказал он. – Но почему материал окаменел? Ага, похоже, промерз насквозь, вместе с владельцем! Можно было бы исследовать его спектроскопом – ты понял? – беря небольшие пробы; но тогда мы узнаем лишь его химическое строение, а оно не скажет нам, как он очутился в ледовой гробнице! Засунем-ка мы его в воскресильню, так будет лучше всего!
Он сидел на корточках возле Существа со Звезд в глубоком раздумье.
– Если нам повезет, мы сможем его расспросить и узнаем много нового. Но какую матрицу воскрешения выбрать? Вот вопрос! Это не представитель класса Silicoidea, отряд Festinalentinae 20, не киберак и тем более не киберыба…
– Обычный ударник, я же говорю! Лучше всего положить его на печку! – визжала свое машинка.
– Тихо у меня! Робот роботу не ровня… Положить на печку – дело нехитрое и не требующее моих незаурядных познаний! Тут легко и глупость сморозить! Возможно, барабан – всего лишь прикрытие, камуфляж, и тогда оживление крайне опасно: а ну как это смертоносное машинище, посланное каким-нибудь злобным конструктором в Космос за намеченной жертвой? Ведь и такое бывало! Но с другой стороны, предпринять воскрешенческие процедуры побуждает нас императив космической доброжелательности, соображаешь? Тем самым я ввел в наши рассуждения этику. Может, узнаем побольше, заглянув в третью яму?
Как он сказал, так и сделал на глазах у смекалистого Цифруши, который по-прежнему мешал ему дотошными вопросами, так что разгневанный Трурль молотил по льду все сильней и сильней. С ужасающим треском глыба распалась надвое, а вместе с ней – вмерзший в нее предмет. Трурль на мгновение даже лишился речи.
– Это все ты! Чтоб тебя…
– А космическая доброжелательность? – прошептал Фрунчик, впрочем и сам порядком смутившийся.
Трурль не отрываясь смотрел на сверкающие туфли с застежками, на темно-синие носки в красную полоску и заледеневшие икры, что торчали, уже очищенные ото льда, из половины ледовой глыбы. Необычайная чистота всех этих предметов изумила его.
– Неужели это существо воздает почести нижним своим футлярам? – произнес он, размышляя вслух. – Странно! Не уверен, что попытка оживить разделенные половинки увенчается успехом… сперва надо бы снова соединить их!
Присев, он внимательнее всмотрелся в то, что содержалось в середке расколотого. Скол сиял ледяными кристалликами, являя взору беспорядочные завитушки внутренних органов. Трурль почесал голову.
– Неужто перед нами существо, построенное из клея, одно из тех, о которых писал древний кибермистик Клибабер? Неужто мы видим одного из пратуземцев Галактики, допотопного тленника, именуемого в легендах чиавеком? Столько миров облетел я, столько систем посетил, но ни разу не случилось мне увидеть воочию Мыслящего Масляка! О, надобно приложить все силы, чтобы воскрешение удалось! Что за редкостная оказия потолковать на онтологические темы, не говоря уже о мине, которую состроит твой дядя Клапауций! Но до чего бестолково сконструирован этот расколотый! Бедный раскольник, поистине гордиево у тебя нутро, ни винтика тут не приладишь, ни скрепы, и неизвестно, что здесь к чему! Только общая ледоватость удерживает воедино все эти петливины и извилки!
– Папа, – сказала машинка, заглядывая Трурлю через плечо, – это не чиавек, не масляк и не тленник, а обыкновенный хандроид!