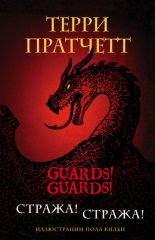Кибериада. Сказки роботов Лем Станислав

– Остается, кое-что остается, – уверенно воскликнул я. – Ведь горб можно выпрямить, кривобокость – раскривобочить, были бы только высочайшие знания!
– Знаю! – хмуро согласилась машина. – Действительно, так оно и представляется простакам…
– А что, разве это не так? – в один голос удивились мы с Клапауцием.
– Когда приходит пора выпрямленья горбов, – отвечала машина, – возможности уже безграничны и безжалостны! Можно не только горбы выпрямлять, но и штопать прорехи в разуме, солнца делать квадратными, планетам приделывать ноги, штамповать синтетические судьбы, несравненно сладчайшие против натуральных; начинается это невинно, с обтесыванья кремней, а кончается построением всемогуторов и онтогениусов! Пустыня нашей планеты – не пустыня, но Супербоготрон, который своим могуществом в миллион раз превосходит убогий ящик, вами сколоченный; создали его наши прадеды потому, что все остальное казалось им слишком уж легким, тогда как им хотелось мысли вить из песка; поступили они так из мегаломании, без всякой нужды, ибо если можно делать все, к этому уже ничего абсолютно добавить нельзя; понятно ли это вам, о слаборазвитые?!
– Так, так, – молвил Клапауций, между тем как я лишь дрожал. – Но почему же вместо того, чтобы заниматься животворною деятельностью, вы лежите, почесываясь, в своем гениальном песке?
– Потому что всемогущество всего могущественнее, когда ничего абсолютно не делает! – отвечала машина. – На вершину можно взобраться, но с вершины все пути ведут вниз! Несмотря на все, что с нами случилось, мы народ вполне порядочный, так чего ради стали бы мы что-нибудь делать? Уже прапрадеды наши – просто так, чтобы испробовать Боготрон, – солнце наше учинили квадратным, а планету – сундуковатой, превратив наивысшие ее горы в ряд монограмм. С тем же успехом можно было бы расчертить звездное небо в клетку, погасить половину звезд, а вторую разжечь поярче, сконструировать существа, населенные меньшими существами, так чтобы мысли великанов были танцами лилипутов, быть в миллионе мест сразу, перемещать галактики, составляя из них приятные глазу узоры; но скажи мне, чего это ради должны мы браться за какое-нибудь из этих дел? Что улучшится в Космосе от того, что звезды будут треугольные или на колесиках?
– Ты говоришь вздор!! – страшно возмутился Клапауций, меж тем как я дрожал все сильнее. – Уж если вы вправду сравнялись с богами, ваш долг – немедля положить конец страданьям, заботам и бедам, что преследуют существа, подобные вам, а начать вы должны хотя бы с соседей ваших, кои, как сам я видел, без устали разбивают друг другу лбы! Так почему же вместо того, чтобы не мешкая за это взяться, вы позволяете себе валяться как попало, ковыряя в носу и засовывая честным странникам, что мудрости ищут, леденцы в ухо?
– Не возьму в толк, чего это именно леденцы так тебя рассердили? – сказала машина. – Ну да ладно. Насколько я понимаю, ты хочешь, чтобы мы осчастливливали всех подряд. Предмет этот был основательно нами исследован около пятнадцати сот столетий назад. Он делится на фелицитологию внезапную, то бишь неожиданную, и постепенную, то бишь эволюционную. Эволюционная заключается в том, чтобы пальцем не пошевелить в убеждении, что каждая цивилизация так или иначе сама помаленьку справится со своими болячками; внезапным же образом можно осчастливливать либо по-хорошему, либо силой. Насаждение счастья силой влечет за собой, как показывают расчеты, в лучшем случае стократно, а в худшем – восьмисоткратно большие беды, нежели уклонение от всякой активности. А по-хорошему осчастливливать тоже нельзя, ибо – как бы это ни представлялось странно – результат тот же самый; и нет разницы, применяешь ли ты Супербоготрон или Адский Инфернатор, именуемый также Гееннератором. Ты, может, слышал о так называемой Крабовидной Туманности?
– А как же, – отвечал Клапауций, – это остатки оболочки Сверхновой Звезды, что некогда вспыхнула…
– Ну да, – сказал голос. – Сверхновой, как бы не так! Там, милейший ты мой, была планета – в меру развитая, на которой, по этой самой причине, лились изрядные реки крови и слез. Как-то утречком спустили мы на нее восемьсот миллионов Осуществилок Желаний; и не успели мы удалиться от нее на световую неделю, как она разлетелась вдребезги и разлетается до сего дня! То же самое было с планетой гоминасов… что, рассказать?
– Не стоит! – буркнул Клапауций. – Все равно не поверю, что невозможно осчастливливать методом толковым и осмотрительным!
– Не веришь? Что поделать! Мы пробовали шестьдесят четыре тысячи пятьсот тринадцать раз. Волосы встают дыбом на всех моих головах, как только я вспомню о результатах. Уж мы, поверь, не жалели трудов ради блага других! Мы создали специальную аппаратуру для дистанционной спектроскопии мечтаний; но тебе, наверно, понятно, что, если на планете свирепствуют религиозные войны и каждая из сторон мечтает о том, как бы ей вырезать поголовно другую, не в том видели мы нашу задачу, чтобы желания эти исполнить! Итак, надо было осчастливливать, не нарушая идею высшего блага. Но и это не все, ибо большая часть космических цивилизаций в глубинах души желает того, в чем не смеет открыто признаться; отсюда снова дилемма: помогать ли им в том, что заставляют их делать остатки стыда и приличия, или же в исполнении скрытых мечтаний? Взять хотя бы, к примеру, деменциан и аминиан. Первые, на стадии почтенного средневековья, живьем сжигали стакнувшихся с дьяволом распутников, а в особенности распутниц, во-первых, потому, что завидовали утехам, проистекавшим из общения с дьяволом, во-вторых, потому, что мучительство в ореоле праведного суда дивное им доставляло блаженство. Опять же, аминиане уже ни во что, кроме собственного тела, не верили и машинами всяческими его ублажали, однако ж с некоторой осмотрительностью, называя занятие это забавой; были у них стеклянные ящички, в которые запихивали они всевозможные насилья, убийства, пожары, и разглядыванием всего этого улучшали свой аппетит. Спустили мы на их планеты тьму устройств, которые так были рассчитаны, чтобы все вожделенья удовлетворять без чьего-либо ущерба, при помощи внутренней искусственной действительности; после чего деменциане за шесть, а аминиане за пять недель завосхищали себя насмерть, во весь голос вопя от испытываемого блаженства! Этих ли методов хотелось тебе, недоразвитое существо?
– Ты либо глупец, либо чудовище, – пробурчал Клапауций, между тем как я готов был лишиться чувств. – Как смеешь ты похваляться столь пакостными деяниями?
– Я не похваляюсь, я исповедуюсь, – спокойно ответил голос. – Так вот, перепробовали мы все способы поочередно. Обрушивали на планеты потоки богатств, потопы сытости и избытка, парализуя тем самым всякие старания и труды; давали добрые советы, взамен за которые туземцы открывали огонь по нашим блюдцелетам, то бишь летучим тарелкам. Так что следовало бы сперва душу переделать у тех, кого собираешься осчастливить…
– Но вы, должно быть, и это можете? – скрежетнул Клапауций.
– Можем, конечно, можем! Взять хотя бы соседей наших, антропанов, населяющих эемлеподобную, или землеватую, планету. Занимаются они по большей части брыкованием и хлоботанием, а все это из страха перед бабярней, которая, по их вере, пребывает вне бытия, и грешников поджидает ее пасть, вечным огнем выложенная; а подражая блаженным кибрандахлыстам, райскому Лабудансу и избегая Омерзенции с ее омерзенцами, антропанский юноша делается мало-помалу отважнее, лучше, благороднее, нежели его осьмирукие предки. Правда, антропаны воюют с брехманами из-за превосходства Кайфа над Долгом или Долга над Кайфом (ибо тут мнения их расходятся), но, заметь, в таких войнах гибнет лишь часть их; ты же требуешь, чтобы я, выбив у них из голов веру в брыкованье, хлоботанье и прочее, подготовил их к рациональному осчастливливанью. Но тем самым совершилось бы психическое убийство, ведь возникшие существа не были бы уже ни брехманами, ни антропанами; неужели это тебе невдомек?
– Предрассудок надлежит искоренять знаниями! – убежденно произнес Клапауций.
– Ну разумеется! Заметь, однако ж: там теперь около семи миллионов кающихся, многие из которых только и делали, что насиловали собственную природу, дабы ближних от бабярни избавить; как же я объясню им за считанные минуты, и притом бесспорно и непреложно, что все это было впустую и они извели свою жизнь на занятия, бесполезные абсолютно? Это ли не жестокость? Знания сами должны побороть предрассудок, но для этого надобно время. Возьмем того горбуна, о котором шла речь. Живет он в блаженном невежестве, веря, что горб его играет в деле Творения роль прямо-таки космическую. Если ты растолкуешь ему, что причиной тому лишь атомная промашка, ты сделаешь его навеки несчастным, и только. Тогда уж следовало бы горбатого выпрямить…
– Ясное дело! – выпалил Клапауций.
– Ба! И это было испробовано! Один только дед мой выпрямил однажды триста горбунов одним махом. Как же он после мучился!
– Почему? – не удержался я от вопроса.
– Почему? Сто двадцать из них были тотчас же сварены в кипящем масле, ибо столь внезапное исцеление сочли очевидным доказательством сношений с дьяволом; из остальных тридцать завербовались в солдаты и пали на поле брани, изничтожая друг друга под разными знаменами; семнадцать немедля упились на радостях насмерть, а прочих сгубило либо любовное истощение (ибо дед мой, по доброте душевной, добавил им еще редкостной красоты), либо другое какое распутство, которому начали они предаваться слишком уж неумеренно, вдоволь перед тем напостившись; и вот в два каких-нибудь года все до единого сошли в могилу. Единственное исключение… эх! Лучше не говорить!
– Закончи, коли уж начал! – вскричал безмерно тронутый наставник мой, Клапауций.
– Если ты непременно хочешь… ладно. Сперва остались лишь двое. Из них один, встретив случайно деда, на коленях умолял его вернуть горб: дескать, в бытность его калекой он безбедно жил подаяньем, а по выпрямлении ему пришлось работать, к чему он был непривычен. Мол, с горбом он уже совершенно свыкся и теперь, проходя через дверь, больно стукается лбом о притолоку…
– А тот, последний? – спросил Клапауций.
– То был королевич, лишенный прав на престол по причине увечья; но при такой перемене к лучшему мачеха, желая добыть корону родному сыну, отравила беднягу…
– Ладно, допустим… Но вы ведь можете творить чудеса… – молвил с отчаянием Клапауций.
– Осчастливливанье чудесами – один из наиболее рискованных приемов, какие мне только известны, – ответил сурово глас из махины. – Кого чудесным образом преображать? Индивидов? От избытка красоты рвутся брачные узы, излишний разум ведет к одиночеству, а богатство – к безумию. Нет уж! Индивидов осчастливливать невозможно, а общества – не позволено; каждое должно следовать своим путем, натуральным порядком восходя по ступеням развития, всем добрым и всем дурным обязанное себе самому. Нам, с Наивысшей Ступени, делать в Космосе нечего; мы не создаем других космосов, потому что, позволю себе заметить, это было бы некрасиво. Зачем мы стали бы это делать? Ради собственного возвышения? Это было бы гадко. Или, может, ради сотворяемых? Но их ведь нет, а можно ли учинить что-либо ради несуществующих? Делать что-то можно лишь до тех пор, пока нельзя еще делать всего. Потом надо сидеть тихо… А теперь оставьте меня наконец в покое!
– Но как же так? А средства какие-нибудь, чтобы хоть как-нибудь улучшить, исправить, руку помощи протянуть? А страждущие – подумай о них! Эй! – кричали мы наперебой с Клапауцием у Всемогуторного Пульта.
Машина зевнула и молвила:
– Стоит ли с вами вообще толковать? Не лучше ли было бы поступить с вами так, как мы поступаем у себя на планете? Вечно одно и то же! Ну да ладно! Вот вам рецепт средства, еще не испробованного, однако же за последствия не ручаюсь! А теперь делайте себе, что хотите. Покой – единственное, что для меня еще имеет значение. Ступайте же со своим Боготроном…
Машина умолкла, и мы остались одни перед меркнущими созвездиями ее огней, у Пульта, на котором лежал листок с таким примерно текстом:
«АЛЬТРУИЗИН – психотрансмиссионный препарат, предназначенный для всех белковатых. Обеспечивает перенесение любых ощущений, эмоций и переживаний с того, кто ощущает их непосредственно, на всех остальных в радиусе до пятисот локтей. Действует по принципу телепатии, но не передает абсолютно никаких мыслей. На роботов и растения не действует. Интенсивность переживаний ощущающего индивида, или отправителя, усиливается благодаря вторичной ретрансмиссии получателей, и она тем выше, чем большее количество лиц соседствует с таковым. По замыслу изобретателя, АЛЬТРУИЗИН вносит в любое общество дух братства, единения и глубочайшей симпатии, так как соседи счастливой особы счастливы тоже, и притом тем больше, чем счастливее она. Счастливому индивидууму они желают еще большего счастья в собственных своих интересах, а значит, от всей души; если же кто-либо страдает, срочно спешат на помощь, чтобы себя от индуцированных страданий избавить. Стены, перегородки, фашины и прочие преграды не ослабляют альтруистического эффекта. Препарат растворяется в воде; можно вводить его через водопроводную сеть, реки, колодцы и т.д. Он не имеет ни цвета, ни запаха; одного миллимикрограмма хватает для общества, состоящего из ста тысяч индивидуумов. В случае последствий, противоречащих тезисам изобретателя, никакие претензии не принимаются. За представителя Наивысш. Ступ. Раза. – Всемогуторный Ультимат».
Клапауций принялся было ворчать, что альтруизин получит применение исключительно среди людей, а роботы так и останутся со своими жизненными невзгодами; но я осмелился отчитать его, упирая на солидарность всех разумных существ и необходимость взаимопомощи. Потом началось обсуждение практических вопросов, поскольку было ясно, что кампанию осчастливливанья разворачивать нужно незамедлительно. Клапауций поручил небольшому блоку Онтогеннуса изготовить необходимую дозу препарата, я же, посоветовавшись со славным конструктором, решил отправиться на землеподобную планету, населенную человекообразными существами, что лежала всего в четырех днях пути. Я желал благодетельствовать анонимно, поэтому мы порешили, что разумнее будет принять человеческий облик; как известно, дело это нелегкое, но гений конструктора и здесь одолел все препоны. И вот я собрался в дорогу с двумя чемоданами, из которых в одном содержалось сорок килограммов альтруизина в виде белого порошка, а во втором – туалетные принадлежности, пижамы, белье, запасные щеки, волосы, глаза, языки и т.п. Сам я путешествовал под видом соразмерно сложенного юноши с усиками и челкой. Клапауций несколько сомневался, стоит ли применять альтруизин сразу в больших масштабах; поэтому я, хотя и не разделял его опасений, согласился произвести, по прибытии на Геонию (именно так называлась планета), пробный эксперимент. Я просто не мог дождаться минуты, когда начнется великий сев всеобщего братства и единения; а посему, сердечно простившись с конструктором, не мешкая тронулся в путь.
По прибытии на планету я остановился в небольшом селении, у немолодого уже, довольно мрачного трактирщика, на его постоялом дворе, и повел дело так ловко, что мне удалось всыпать горсточку порошка в колодец у дома, пока мою поклажу переносили из брички в гостевой покой. На постоялом дворе царила обычная суматоха, девки-прислужницы бегали с лоханями горячей воды, хозяин сердито поторапливал их; вдруг застучали копыта и из брички выскочил немолодой мужчина с докторским саквояжем в руке; но направился он не к дому, а на скотный двор, откуда временами доносилось глухое мычание. Как я узнал от горничной, принадлежавшее хозяину геонское животное – так называемая корова – рожало. Это немного меня встревожило, ибо, правду сказать, я вообще не подумал о животном вопросе; но сделать я уже ничего не мог, а потому уединился у себя в комнате, чтобы оттуда следить за ходом событий. И они не заставили себя ждать. Я услышал звяканье колодезной цепи
– кухонная прислуга носила воду, – и вскоре затем снова послышалось мычание роженицы, которой вторили теперь другие коровы; тут же ветеринар с воплем вылетел из коровника, держась за живот; за ним мчались служанки, а самым последним – трактирщик; все они, сопричастившись коровьим мучениям, с великим плачем разбегались в разные стороны, но тотчас же возвращались, так как боль отпускала их на известном расстоянии. Таким манером они неоднократно возобновляли штурм коровника, всякий раз выбегая из него во весь дух по причине родовых схваток; столь неожиданное развитие событий меня огорошило, и я решил, что эксперимент следовало провести в городе, где животных нет. Я поскорее собрался и потребовал счет. Однако все вокруг так маялись из-за приходящего на свет теленка, что было не к кому обратиться; я готов был уже ехать, но оказалось, что и кучер, и клячи его корчатся в родовых схватках. В конце концов я решил добираться до ближайшего города пешим ходом. И вот, на беду, когда я переходил через реку по мостику, ручка чемодана выскользнула у меня из рук, чемодан, ударившись замком о бревно, раскрылся, и весь запас белого порошка высыпался из него в мгновение ока. Остолбенев, я смотрел, как быстрое теченье растворяет в себе сорок килограммов альтруизина – но помочь беде я уже не мог; жребий был брошен, ибо река снабжала город питьевой водой.
Я брел до самого вечера, а когда вошел в город, он сиял огнями, на улицах стоял гомон, прохожих было полно. Вскоре я отыскал небольшую гостиницу и остановился в ней, высматривая первые признаки действия препарата; но пока что не замечал ничего. Утомленный длительным переходом, я сразу же отправился спать. Посреди ночи меня разбудили истошные вопли. Я вскочил с постели. В комнате было светло от языков пламени, пожиравших дом напротив; я побежал на улицу и за самым порогом споткнулся о труп, еще совсем теплый. Неподалеку шестеро извергов, крепко схватив взывавшего о помощи старца, клещами вырывали у него один зуб за другим, пока наконец хоровой вздох облегчения не возвестил, что найден и удален болевший корень, который мучил также и их вследствие трансмиссии; бросив обеззубевшего и полузатоптанного старца, они удалились, явно умиротворенные.
Однако же не вопли этого страдальца разбудили меня; причиной был инцидент в пивной напротив: какой-то пьяный детина огрел приятеля по лбу, в то же мгновение ощутил его боль и, пришедши от этого в ярость, принялся лупить его все сильнее, а сотрапезники, у которых тоже очень болело, повскакали с мест, чтобы приложить драчунам; круг всеобщих мучений настолько расширился, что половина постояльцев гостиницы, проснувшись, похватала трости, палки, метлы, в ночном белье прибежала на поле сражения и огромным клубком каталась среди поломанной мебели и разбитой посуды, пока наконец от перевернутой лампы не занялся огонь. Под звон колоколов, вой пожарных сирен и недобитых кулачных бойцов я поскорей удалился от этого места, но несколькими кварталами дальше наткнулся на сходку или, скорее, толпу народа, окружившую небольшой белый домик, обсаженный розовыми кустами. Как оказалось, здесь проводили ночь новобрачные. Давка была неслыханная, мелькали военные мундиры, священнические сутаны и даже гимназические околыши; те, что стояли близ окон, тянули шеи, пытаясь заглянуть внутрь, другие лезли им на спины, восклицая: «Ну! В чем дело?! Чего они там канителятся? Долго нам еще ждать?! За дело, живее!» – и т.п. Какой-то старичок, который никак не мог протолкнуться, слезно молил пропустить его; он, мол, из-за слабости мозга издалека ничего не почувствует; но никто не обращал внимания на его смиренные просьбы – одни потихоньку млели от наслаждения, другие блаженно постанывали, а менее опытные пускали ртом пузыри. Родственники молодых поначалу пытались разогнать толпу наглецов, но вскоре сами увлечены были вихрем всеобщей разнузданности и присоединились к зычному хору, что подзадоривал любящихся; причем верховодил в этом печальном действе прадед молодого супруга, который упорно штурмовал двери супружеской спальни креслом на колесиках. Жестоко уязвленный увиденным, я повернул назад, в сторону гостиницы, а по дороге мне попадались кучки людей, которые либо воинственно клокотали, либо обнимались наперебой; все это, однако ж, был сущий пустяк по сравнению с тем, что творилось в гостинице. Уже издалека я заметил, что постояльцы скачут из окон в одном белье, сплошь да рядом ломая себе ноги; несколько человек залезли на крышу, а в самом доме хозяин с хозяйкой, горничные и коридорные метались, визжали от страха как безумные и прятались по шкафам или под кроватями, – а все потому, что в погребе кошка гоняла мышей.
Я начинал понимать, сколь опрометчив был мой поступок; на рассвете альтруизин действовал уже с такой силой, что, если у кого-нибудь щекотало в носу, вся округа в радиусе мили чихала в ответ громовыми залпами, а от больных тяжелыми формами невралгии родственники, врачи и сиделки убегали, как от чумы; и лишь несколько бледных, посапывающих от крайнего удовольствия мазохистов робко шныряли вокруг. Нашлось также множество маловеров, которые только затем пинали и дубасили ближних, чтобы удостовериться, что диво трансмиссии ощущений, о котором столько рассказывают, – чистая правда; жертвы, в свою очередь, не оставались в долгу, и глухие звуки ударов огласили весь город. Утром, бродя в безмерном удивленье по улицам, я увидел большую, залитую слезами толпу, которая гнала через рыночную площадь старушку под черной вуалью, забрасывая ее камнями. Как оказалось, то была вдова некоего престарелого башмачника, что накануне умер, а утром был похоронен; страдания безутешной вдовы так допекали соседей, что те, не имея никаких способов утешить бедняжку, изгнали ее из города. Это зрелище ужасной тоской сдавило мне сердце, и я поскорей направился обратно в гостиницу, но она была объята гудящим пламенем. Оказалось, что кухарка, варившая суп, ошпарила палец, вследствие чего некий ротмистр, который на последнем этаже как раз чистил оружие, от великой боли нажал невольно на спуск, уложив на месте жену и четверых ребятишек; отчаянье его разделили все, кто не был еще отвезен в больницу в обморочном состоянии или с переломанными членами; а какой-то доброжелатель, желая сократить мучения столь всеобщие, от которых сам едва не кончался, поливал кого ни попадя керосином и поджигал, впав в очевиднейшее безумие. И сам я бежал от пожара, словно безумный, мечтая найти хотя бы одну, хоть какую-нибудь, хоть чуточку осчастливленную особу, но наткнулся лишь на остатки толпы, возвращавшейся с той брачной ночи.
Обсуждали ее подробности, причем этим негодяям все было не так, как, по их мнению, следовало; и каждый из бывших совозлюбленных держал в руке увесистую дубинку, чтобы отгонять страждущих, попадавшихся по дороге; я боялся, что сердце у меня разорвется от жалости и стыда, но все же не оставлял надежду отыскать хоть одного человека, который пролил бы бальзам на мою душу. Расспрашивая прохожих, я узнал в конце концов, где живет некий прославленный мыслитель, проповедовавший братство и просвещенную терпимость, и направился туда в уверенности, что дом его будет окружен широкими простонародными массами. Как бы не так! Лишь несколько кошек тихонько мяукали у ворот, пользуясь ореолом доброжелательности, который исходил от мудреца и вынуждал собак сидеть в некотором отдалении, нервно облизываясь; а какой-то калека, передвигаясь так скоро, как только мог, проковылял мимо меня с криком: «Крольчатня уже открыта! Открыта!» – и оставил меня в мрачном недоумении, каким это образом явления, происходящие в крольчатнике, могут благоприятно повлиять на его ощущения.
Пока я стоял в растерянности, ко мне подошли двое. Один, глядя мне глубоко в глаза, что было сил заехал по физиономии другому, я же от изумления остолбенел, однако за собственное лицо не схватился и даже не вскрикнул: я-то ведь робот, и от чужой зуботычины у меня ничего не заныло; а следовало об этом подумать, поскольку оба они были из тайной полиции и тотчас схватили меня, разоблаченного таковым манером, в кандалы заковали и потащили в тюрьму. Там я во всем повинился. Я рассчитывал, что они, быть может, согласятся принять во внимание благородство моих намерений, хотя горело уже полгорода; но если они поначалу лишь слегка пощупали меня клещами, то единственно для того, чтобы удостовериться, что это им ничем не грозит; а убедившись, что все в порядке, скопом ринулись давить, топтать, винты срывать, пинать и ломать все фибры моего истязуемого естества. Не счесть мук, кои принял я за то, что искренне желал осчастливить их всех; довольно будет сказать, что напоследок моими останками зарядили пушку и выстрелили ими в Космос, как всегда безмолвный и темный. А в полете я со все большего отдаления окидывал зашибленным взором сцены воздействия альтруизина на все возрастающем пространстве, ибо речные волны уносили крупицы препарата все дальше и дальше. Я видел, что творилось среди пташек лесных, монахов, рыцарей, коз, поселянок и поселян, петухов, девиц и матрон, и от этого зрелища последние неповрежденные лампы полопались у меня от жалости неизбывной; в таком-то вот виде и свалился я, после затяжного падения, близ твоего дома, милостивец мой, – излеченный поистине на все времена от охоты осчастливливать ближних ускоренным способом…
Собысчас
Как-то раз под вечер пришел знаменитый конструктор Трурль к своему приятелю Клапауцию грустный и задумчивый, а когда попробовал тот его развеселить, рассказывая наисвежайшие кибернетические анекдоты, Трурль вдруг сказал:
– Прошу тебя, не пытайся превратить мое подавленное настроение в игривое, ибо грызет меня мысль столь же правдивая, сколь и печальная: пришел я к выводу, что за всю нашу столь деятельную жизнь не совершили мы ничего ценного!
Сказав это, окинул он взглядом, полным осуждения и отвращения, стены кабинета Клапауция, увешенные богатой коллекцией медалей, грамот и почетных дипломов в золоченых рамках.
– На чем же столь строгий приговор основан? – спросил, становясь серьезным, Клапауций.
– Сейчас объясню. Мирили мы враждующие королевства, строили для монархов, власти жаждущих, тренажеры, создавали машины для рассказывания сказок и для охоты, одолевали мы коварных тиранов и галактических разбойников, что на нас нападали, но всем этим только себе удовольствие доставляли, себя в собственных глазах возвеличивали, а для вселенского блага ничего почти не сделали. Все наши деяния, направленные на улучшение жизни народов, на которых мы в наших межпланетных странствиях натыкались, ни разу не привели к состоянию совершенного счастья. Вместо решений радикальных и идеальных создавали мы только их видимость, протезы да суррогаты, и заслужили поэтому титул фокусников от онтологии, ловких софистов-практиков, но не звание ликвидаторов зла.
– Всякий раз, когда я слышу, как кто-нибудь рассуждает о программировании мирового счастья, у меня мурашки по спине бегают, – ответил Клапауций. – Опомнись, Трурль! Разве не знаешь ты бесчисленных примеров дел, которые с того же начинались и в руины обратились, наиблагороднейшие намерения под собой похоронив? Разве не помнишь ты о трагической судьбе отшельника доброго, который пытался осчастливить космос с помощью препарата под названием «альтруизин»? Разве не знаешь ты, что можно сколько угодно жизненные невзгоды уменьшать, справедливость утверждать, солнечные пятна счищать, на шестерни общественных машин бальзам лить, но счастья никакими машинами не создашь? О царстве полного счастья можно лишь тихо мечтать такими вот темными вечерами, создавать его в своем воображении, одурманивать душу сладкими видениями, и это все, чего может требовать истинный мудрец, приятель мой!
– Так только говорится, – буркнул в ответ Трурль.
– Быть может, и в правду, – добавил он через мгновение, – осчастливить существ, давно уже существующих – задача неразрешимая. Однако можно создать существ, сконструированных с таким расчетом, чтобы им жизнь ничего, кроме счастья, не несла. Вообрази, каким великолепным памятником нашему конструкторству (которое ведь обратится же когда-то в прах) была бы сияющая где-то в небесах планета, к которой миллионы галактических племен с надеждой обращали бы взоры, произнося: «Да! Воистину – счастье возможно! Возможна вечная гармония! А доказал это великий Трурль при некотором содействии своего друга Клапауция, и доказательство это живет и пышно цветет перед нашими восхищенными взорами! «
– Не сомневайся, что над проблемой, о которой ты говоришь, я уже не раз размышлял, – сказал Клапауций. – Возникает здесь серьезное противоречие. Видно, ты урока, который случай с добрым всем преподал, не запомнил, поэтому и хочешь осчастливить созданий, которых до того не было, то есть желаешь счастливцев на пустом месте сотворить. А ведь полагалось бы сначала подумать над тем, можно ли вообще осчастливить тех, кто не существует. Я сильно в этом сомневаюсь. Ты должен сперва доказать, что небытие со всех точек зрения хуже бытия, даже не особенно приятного, потому что без такого доказательства фелицитологический эксперимент, идея которого тебя увлекает, даст осечку. Тогда к множеству несчастных, от которых во вселенной тесно, ты добавил бы толпу новых, тобой сотворенных – да только зачем?
– Эксперимент, конечно, рискованный, – нехотя признался Трурль. – Но я все равно считаю, что нужно его провести. Природа беспристрастна только с первого взгляда, ибо хоть и создает она что попало и как придется – хороших и плохих, добрых и жестоких, а смотришь потом, и видишь, что остались на сцене лишь плохие и жестокие, хорошими и добрыми наевшиеся. А как спохватываются негодяи, что поступили нечисто, так сразу же смягчающие обстоятельства или высшие цели себе выдумывают. Вот и выходит, что житейские мерзости – приправы, аппетит на рай и прочие подобные места заостряющие. Я считаю, что с этим пора покончить. Природа вовсе не зла, она только глупа, как пробка, поэтому идет по пути наименьшего сопротивления. Нужно встать на ее место и создать счастливых существ самим, чтобы их появление было истинным врачеванием бытия, с лихвой оправдывающим прошедшие эпохи, полные стонов мучеников, которых с иных планет разве что на космических расстояниях не слышно. Какого дьявола все живое постоянно вынуждено терпеть? Если бы беда каждого отдельного существа несла хотя бы такой импульс, какой капля дождя несет, то за прошедшие века разнесли бы они мир. Но и пот их, пока живут они, и прах их в могильных склепах, и опустевшие их жилища безмолвствуют, и самыми совершенными приборами не найдешь ты там следов их боли и мук, от которых страдали вчера распавшиеся в прах сегодня.
– В самом деле, у мертвых нет забот, – кивнул Клапауций. – Ты прав, если имеешь в виду временность всяких мучений.
– Но ведь появляются новые мученики! – повысил голос Клапауций. – Или не понимаешь ты, что выполнение моего замысла – просто вопрос моей порядочности?
– Послушай. Каким же именно образом счастливое существо (допустим, что ты его создал) смягчит бездну невзгод, что уже произошли и тех несчастий, что по-прежнему происходят во всем космосе? Или сегодняшний штиль отменяет вчерашнюю бурю? Или день упраздняет ночь? Неужели ты не видишь, какой вздор несешь?
– Так ты считаешь, что делать ничего не надо?
– Я этого не сказал. Ты можешь облегчать жизнь уже живущих, по крайней мере, рискнуть на такую попытку. Тех же, о которых ты говорил, счастливее никак не сделаешь. Ты другого мнения? Ты считаешь, что выпустив в космос испеченного тобой счастливца, ты хоть на йоту изменишь то, что в нем уже было?
– А вот и изменю! Изменю! – закричал Трурль. Пойми же меня наконец! Даже если поступок мой не затронет тех, кто уже исчез, то он изменит то целое, частью которого они стали. Отныне всякий должен будет сказать: «огромные усилия, противоестественные цивилизации, уродливые культуры были лишь прелюдией к дню сегодняшнему, ко времени всеобщей любви! Трурль, сей великий муж, размышляя, пришел к выводу, что злое прошлое должно быть уничтожено для создания доброго будущего. На бедности научился он творить богатство, на невзгодах узнал цену наслаждения. Одним словом, именно своим безобразием побудил его космос сотворить добро! « Наша эпоха окажется подготовительной и вдохновляющей, понимаешь? Благодаря ей наступит эра истинного счастья. Ну как, убедил я тебя.
– Под южным крестом лежит царство короля Троглодика, – отозвался Клапауций. – Нет для него милее картины, чем виселица, а эту любовь свою он тем объясняет, что нельзя таким сбродом, как его подданные, править иначе. Когда появился я в его царстве, хотел он меня сразу же схватить, но смекнул, что я могу его в порошок стереть. Тогда испугался Троглодик, потому что не сомневался – если он меня не одолеет, то я с ним разделаюсь. И чтобы меня к себе расположить, собрал он тотчас же свой ученый совет и получил от него моральную доктрину власти, как раз для таких случаев созданную. Объяснили ему эти купленные им мудрецы, что чем им хуже, тем сильнее жаждут они улучшений, а поэтому то, кто такое творит, что уж и вытерпеть невозможно, чрезвычайно сильно это улучшение приближает. Обрадовался король этим речам, потому что выходило, что никто так активно, как он, не борется за грядущее добро, ибо надлежащими мерами мечтающих о благе для человечества к действиям побуждает. Так что счастливцы твои должны Троглодику памятников понаставить, а сам ты должен ему спасибо сказать. Не так ли?
– Глупая и циничная притча! – выпалил задетый за живое Трурль. – Думал я, что ты меня поддержишь, однако вижу, что ты только пытаешься ядовитым скептицизмом и софизмами принизить благородство моих замыслов. А ведь в замыслах этих – спасение космоса.
– А, так ты хочешь стать спасителем космоса? – сказал Клапауций. – Трурль, нужно было бы мне сейчас тебя связать и кинуть на ту кровать, чтобы было у тебя время опомниться, однако боюсь я, что долго пришлось бы этого ждать. Поэтому скажу только: не твори счастья, не подумав! Не совершенствуй бытия одним махом! А если даже и сотворишь ты счастливцев (в чем я сомневаюсь), то ведь останутся по-прежнему и все остальные, возникнет зависть, ссоры, раздоры, и, кто знает, не встанет ли перед тобой неприятная альтернатива: либо счастливцы твои завистникам уступят, либо должны будут для достижения полной гармонии этих назойливых, обиженных да ущербных, всех до одного перебить.
Вскочил было Трурль на ноги, да опомнился, кулаки разжал, так как драка с приятелем была бы не самым подходящим началом для эры полного счастья, которую он уже твердо решил создать.
– Прощай, – заявил он холодно. – Проклятый агностик, маловер, рабски полагающийся на случайности естественного хода событий. Не словами буду с тобой спорить, но делами! По плодам трудов моих поймешь ты вскоре, что правда на моей стороне!
Вернулся Трурль домой и серьезно задумался, потому что, хоть в конце спора с Клапауцием и дал понять, будто у него есть конкретный план действий, но было это далеко не так. Откровенно говоря, не имел он и малейшего понятия о том, с чего начинать. Достал он тогда с полок своей библиотеки громадные тома, посвященные описанию бесчисленных общественных систем и проглотил их с достойной удивления скоростью. А так как, несмотря на все, слишком медленно наполнялся нужными фактами, то приволок из подвала восемьсот кассет ртутной, оловянной, ферромагнитной и криотронной памяти, приладил их всех проводами к своему естеству и за несколько секунд набил себе голову четырьмя триллионами бит лучшей и отборнейшей информации, какую можно было только раздобыть среди звезд, на планетах, а также на остывших солнцах, заселенных прилежными летописцами. И такая у него в голове началась давка, что посинел бедняга, глаза у него полезли на лоб, зубы застучали, мурашки по телу забегали, и затрясся он с головы до пят, как будто не историографией и историософией был наполнен, а чумой поражен. Потом однако собрался он с силами, встряхнулся, вытер лоб, оперся все еще дрожавшими коленями о край стола и сказал себе:
– Видно, все обстояло и обстоит еще хуже, чем я думал!
Целый час точил он карандаши, подливал чернил в чернильницы, стопками укладывал белые карточки, но из этих приготовлений ничего такого не возникло, поэтому разозлился он слегка и сказал себе:
– Должен я был просто для порядка познакомиться с книгами древних, архаичных мудрецов, хотя всегда и подозревал, что эта старая мура современного конструктора ничему научить не может. Ладно, так уж и быть! Проштудирую и этих допотопных мыслителей, защитившись тем самым от выпадов Клапауция, который их, конечно, тоже никогда не читал (а кто их вообще читает? ), а только тайком выписывает себе из их книг цитаты, чтобы меня злить и в невежестве упрекать.
Сказав это, он действительно взялся за книги дряхлые и трухлявые, хотя совсем ему этого не хотелось.
В середине ночи, окруженный книгами, что, открытые, падали ему на колени, так как сталкивал он их нетерпеливо со стола, сказал он себе:
– Вижу я, что придется не только жизнь разумных существ исправлять, но и то, что они нафилософствовали. Прародителем жизни был океан, который у берегов илом покрылся. Возникла грязь жидкая, или коллоид. Солнце грязь пригрела, загустела грязь, потом молния в нее трахнула, аминокислотами (от слова аминь) все заквасилось, и возникла протоплазма, которая со временем на сухое место выбралась. Выросли у нее уши, чтобы слышать, как добыча удирает, а также ноги и зубы, чтобы ее догнать и съесть. А если не выросли ноги, или коротки были, то ее саму съели. Разум же сотворила эволюция, ибо что с ее точки зрения глупость и мудрость, а также добро и зло? Добро – это тогда только, когда я кого-то съем, а зло – когда меня съедят. То же и с разумом: съеденный, если такое с ним случилось, глупее съевшего, потому что не может быть умным тот, кого нет, а кого съели – того нет и в помине. Но тот, кто всех переест, тот сам сдохнет. Поэтому есть стали в меру. Со временем живая органика стареет, ибо материал это непрочный. Тогда, в поисках лучшего, придумали мягкотелые металл. Сами себя в железе скопировали, потому что легче всего взять уже готовое, поэтому до создания истинно совершенных форм дело не дошло. Ба! Не будь органика такой непрочной, ведь совершенно по другому философия бы развивалась: видно, влияет на нее материал, то есть чем совершеннее строение разумного существа, тем отчаяннее жаждет оно иметь совершенно другое строение. Если в воде живут – утверждают, что рай на – суше, если на суше, то – в небе, если имеют крылья, то считают идеалом плавники, а если ноги, то намалюют себе крылья и восхищаются: «ангел! « Удивительно, что я раньше этого не заметил. Назовем это правило Космическим Законом Трурля: всякий разум творит себе абсолютный идеал, исходя из несовершенства собственной конструкции. Надо где-нибудь это записать на тот случай, если когда-нибудь займусь созданием основ философии. А сейчас надо браться за конструирование. Начнем с закладывания добра – но только что это такое? Его безусловно нет там, где никого нет. Водопад для скалы – ни добро и ни зло, так же как и землетрясение для озера. Поэтому создадим кого–нибудь. Но вот вопрос – будет ли ему хорошо? Ведь откуда мы узнаем, что кому-то хорошо? Предположим, что я вижу, как кто-то Клапауцию делает зло. И что же? Одна половина души огорчится, а другая – обрадуется, не так ли? Это как-то очень запутанно.
Возможно, кому-то хорошо по сравнению с соседом, но он ничего о соседе не знает, и поэтому своего счастья не чувствует. Следует, значит, создать существ, имеющих перед глазами себе подобных, в муках живущих. Были бы они достаточно удовлетворены сами этим контрастом? Быть может, но все-таки как-то это гадко. А значит, нужен здесь дроссель или трансформатор.
Закатал он тогда рукава и за три дня построил Созерцатель Бытия Счастливый, машину, которая сознанием, в катодах ее горящем, с каждой постигнутой ею вещью соединялось, и не было на свете ничего, что не доставляло бы ей утехи. Уселся перед ней Трурль, чтобы проверить, то ли у него вышло. Присев на трех металлических ногах, водил созерцатель вокруг телескопическими глазами, а когда падал его взгляд на доску заборную, на камень или старый башмак, то безмерно он восторгался, так что даже тихонько постанывал от великой радости, его распиравшей. Когда же солнце зашло, и заря на небе заалела, то даже присел он от восхищения.
– Клапауций, разумеется, скажет, что сами стоны и приседания ни о чем еще не говорят, – сказал Трурль, все еще не удовлетворенный. – Он потребует доказательств.
Встроил он тогда созерцателю в брюхо измерительный прибор с золоченой стрелкой, который отградуировал в единицах счастливости, названных им гедонами, или, сокращенно, гедами. За один гед принял он то количество экстаза, которое получишь, если пробежишь четыре мили в ботинке с торчащим гвоздем, а потом гвоздь выпадет. Помножил путь на время, поделил на остроту гвоздя, вынес за скобки коэффициент жесткости пятки, и таким образом перевел счастье в систему «СГС». Этим он немного себя утешил. Уставившись на залитый маслом рабочий фартук Трурля, суетившегося перед прибором, созерцатель, в зависимости от угла и полной освещенности, показывал от 11. 8 до 18. 9 гедов на пятно, заплатку и секунду. Успокоился конструктор. Вычислил он заодно, что один килогед – это столько, сколько старцы чувствовали, за Сусанной в купели подглядывая, что мегагед – это радость смертника, перед самой виселицей помилованного. Тогда, увидев, что все удается точно вычислить, послал одного самого плохонького лабораторного робота за Клапауцием.
Когда тот пришел, сказал ему Трурль:
– Смотри и учись.
Обошел Клапауций машину кругом. Та сразу же большие свои телеобъективы на него направила, присела и пару раз простонала. Удивился конструктор этим глухим звукам, но виду не подал и спросил только:
– Что это?
– Счастливое существо, – сказал Трурль, – а называется Созерцатель Бытия Счастливый, сокращенно же – Собысчас.
– И что же делает этот Собысчас?
Трурль почувствовал в этих словах иронию, однако мимо ушей ее пропустил.
– Активным способом непрерывно познает! – объяснил он. – И не просто познает, замечая, а делает это интенсивно, сосредоточенно и трудолюбиво, а то, что он познает, у него невыразимую радость вызывает. И радость эта, по его анодам и катодам разлившись, дает ему высокое блаженство, признаками которого как раз и явились звуки, которые ты слышал, когда обозревал он твою довольно невзрачную наружность.
– Значит, эта машина извлекает активное наслаждение из сущности самого познания?
– Именно так! – сказал Трурль немного потише, ибо не был уже так уверен в себе, как за мгновение до этого.
– А это, конечно, фелицитометр, отградуированный в единицах наслаждения существованием? – указал Клапауций на шкалу с золоченой стрелкой.
– Именно так…
И начал тут Клапауций разные вещи Собысчасу показывать, внимательно следя за отклонением стрелки. Трурль, успокоившись, объяснил ему теорию гедов, или теоретическую фелицитометрию. Слово за словом, вопрос за вопросом – бежала беседа, но вдруг спросил Клапауций:
– Скажи-ка, сколько гедов содержится в том, что тот, кого триста часов били, в свою очередь лоб тому, кто его бил, расшиб?
– А, так это очень просто! – обрадовался Трурль, и сел было за вычисления, но услышал громкий смех своего приятеля. Разозлился он и вскочил, Клапауций же, все еще смеясь, сказал:
– Ведь ты же сказал, что за исходный принцип принял добро, дорогой мой? Ну что ж, эталон ты выбрал подходящий. Продолжай в том же духе, и все пойдет отлично. А пока прощай.
И ушел, оставив совершенно убитого Трурля.
– А, черт меня подери, – стонал конструктор, а стоны его перемежались с восторженными постанываниями Собысчаса, которые так его разозлили, что запихнул он машину в чулан, закидал ее старым хламом и закрыл на замок.
Сел он потом за пустой стол и так себе сказал:
– Перепутать эстетический восторг с добром – ну и осел же я! Да и вообще, есть ли у Собысчаса разум? Надо с самого начала подойти к вопросу иначе, с самого атомного уровня. Счастье – конечно, радость – без сомнения, но не за чужой счет! Не из зла следующее! Вот так! Но что такое зло? Вижу я, что до сих пор в своей конструкторской деятельности преступно теорией пренебрегал.
Восемь дней не отдыхал конструктор, не спал, не выходил на улицу, а только изучал книги безмерно ученые, о добре и зле рассуждающие. Оказалось, большинство мудрецов сходится на том что самая важная вещь – это взаимопомощь и взаимная благожелательность. То у другое должны друг другу разумные существа в любом случае оказывать. Правда, именно под этим лозунгом и огнем жгли, и жидким оловом поили, и четвертовали, и на кол сажали, и кости ломали, а в самые ответственные исторические моменты даже шестерками лошадей разрывали. Для духа же, как и для тела, в форме разноообразных пыток друг другу доброжелательность выказывали.
– Предположим, – сказал себе Трурль, – что совесть пробуждалась бы не в самих злодеях, а, напротив, в близких людях, их окружающих. Что бы из этого вышло? Да нет, это не пойдет: ведь тогда бы ближнего моего угрызения мучили, а я бы еще легче мог в грехах погрязнуть. Может, встроить в обычную совесть умножитель угрызений, чтобы каждое новое зло в тысячу раз больше, чем предыдущее, мучило? Но тогда каждый из простого любопытства что-нибудь злое сотворит, чтобы проверить, вправду ли новые угрызения такими дьявольски сильными будут – и до конца дней совесть будет его мучить… Можно было бы сделать совесть с обратной связью и блокировкой стирания… Нет! Это не годится, потому что кто же будет эту блокировку отключать? А если приладить трансмиссию – один чувствует за всех, все – за одного? Но ведь это уже было – именно так действовал альтруизин… Тогда можно так: у каждого в туловище вмонтирован маленький детонатор с приемником, и если ему, за его злые и подлые дела, зла не менее десяти ближних пожелают, их желания на гетеродинном входе суммируются и тот, кому они адресованы, на воздух взлетает. Да неужели тогда каждый как чумы не избегал бы зла? Конечно избегал бы, да еще как! Однако… Что это за счастливая жизнь – с миной замедленного действия в области желудка? К тому же возникали бы тайные заговоры против людей: получилось бы, что достаточно десяти негодяям невиновного невзлюбить и он – на кусочки… Тоже не годится. Что же это такое! Мне, галактики, как шкафы, двигавшему, не решить, казалось бы, простой инженерной проблемы?! Допустим, что в неком обществе каждый упитан, румян и весел, с утра до вечера поет, подпрыгивает и хохочет от того, что другим добро делает, да при этом весь пылает от энтузиазма, а если спросить его, то в голос кричит, что просто ужасно рад существованию – и своему, и окружающих… Достаточно ли счастливым было бы такое общество? Ведь там никто никому зла сделать не может! А почему не может? Потому что не хочет! А почему не хочет? Потому что это ему ничего не даст. Вот и решение! Не это ли гениальный в своей простоте план для массового производства счастья?! Не в такой ли жизни все счастьем переполнены будут?! Посмотрим, что тогда скажет этот циник-мизантроп, этот скептический агностик, Клапауций – уж тогда-то ему не до насмешек и издевательств будет! Пусть-ка попробует придраться! Ведь если каждый будет стараться ближнему все лучше и лучше делать, да так, что лучше уж и нельзя… Гм, а не замучаются ли они, не выбьются ли из сил, не выдохнутся ли быстро под градом и лавиной этих добрых дел? Ладно, вмонтируем маленькие редукторы, или какие-нибудь дроссели, счастьеупорные перегородки, экраны, изоляцию… Сейчас, только не надо спешить, чтобы опять что-нибудь не проморгать. Итак: примо – веселые, секундо – упитанные, терцо – подпрыгивающие, кварто – румяные, квинто – удовлетворенные, сексто – участливые… Хватит, можно начинать.
До обеда поспал он немножко, так как сильно утомили его эти размышления, а потом, решительный и бодрый, встал, чертежи начертил, ленты программные наперфорировал, алгоритмы рассчитал, и, наконец, сотворил счастливое общество из девятисот персон. Чтобы господствовало в нем равенство, сделал всех совершенно одинаковыми. Дабы из-за еды и питья не ссорились, сделал так, что не пили они и не ели, а холодный атомный огонек служил им источником энергии. Уселся он потом на завалинку и до захода солнца смотрел как они прыжками и криками свою радость выражают, как добро творят, друг друга по голове гладят, камни друг перед другом с дороги убирают, какие они крепкие, бодрые, веселые, как задорно и беспечно жизнь их бежит. Если кто ногу вывихнет – аж черно становилось от сбежавшихся, и не от любопытства, а из-за могучей потребности участие оказать. От избытка сочувствия одному из них даже ногу оторвали, вместо того, чтобы вправить, но подрегулировал он им редукторы и реостаты, а потом позвал Клапауция. Присмотрелся тот к их радостной беготне, выслушал объяснения с довольно кислой миной и спросил:
– А опечалиться они могут?
– Что за глупый вопрос. Разумеется, нет, – ответил Трурль.
– Значит, потому они все время скачут и во весь голос вопят, потому такие румяные и добрые, что им хорошо?
– Именно!
А так как Клапауций не просто на похвалы поскупился, а вообще ничего не похвалил, то добавил Трурль сердито:
– Быть может, зрелище это монотонно и менее живописно, чем батальные сцены, но моей задачей было осчастливить, а не кому-то там спектакль устроить!
– Если они делают то, что делают, потому что делать это обязаны, приятель мой, – отозвался Клапауций, – то в них ровно столько же добра, сколько в трамвае, который потому тебя не не переедет, если ты на тротуаре стоишь, что ему с рельсов не сойти. Не тот, Трурль, счастье творения добра познает, кто должен других неустанно по голове гладить, от восторга вопить да камни с дороги убирать, а тот лишь, кто может и печалиться, и рыдать, и камнем другому голову размозжить, но по доброй воле и сердечной охоте этого не делает! Ты же создал пародию на высшие идеалы, которые удалось тебе изрядно опошлить!
– Что ты такое говоришь?! Они же, все таки, разумные существа, – пробормотал обескураженный Трурль.
– Да? – спросил Клапауций. – Сейчас посмотрим.
С этими словами подошел он к Трурлевым творениям, первому, кто ему попался, дал с размаху в лоб и спросил
– Счастлив ли ты?
– Безумно! – ответил тот, схватившись за голову, на которой вскочила шишка.
– А теперь? – спросил Клапауций, и так ему врезал, что тот вверх тормашками полетел. Еще не успел бедняга встать, еще песок выплевывал, а уже кричал:
– Счастлив я! Хорошо мне жить!
– Вот так, – сказал коротко Клапауций онемевшему Трурлю и ушел.
Огорчился Трурль невыразимо. Свел он одного за другим своих счастливцев в лабораторию и разобрал их там до последнего винтика, а они не только этому не сопротивлялись, но ему, как могли, помогали, ключи и клещи подавали, или даже молотком себя по черепу били, если его крышка слишком плотно была насажена и сниматься не хотела. Сложил он детали обратно в ящики и на полки, сорвал с досок чертежи, порвал их на куски, уселся за стол, под философско-этическими трудами прогнувшийся и глухо простонал:
– Хорошенькая история! Ну и опозорил же меня этот мерзавец, этот разбойник, мой так называемый приятель!
Вынул он из шкафа модель пермутатора – прибора, который всякую информацию в аспекте взаимопомощи и всеобщей благожелательности перерабатывал, положил его на наковальню и разбил на куски, но не стало ему от этого легче. Поразмыслил он, повздыхал и взялся за воплощение другого замысла. На этот раз вышло из под его рук общество немалое – три тысячи рослых парней, которые тут же выбрали себе руководителей тайным и равным голосованием, а затем занялись разнообразными делами – кто дома строил и изгороди ставил, кто законы природы открывал, а кто играл и забавлялся. В голове у каждого из новых созданий Трурля был гомеостазик, а в том гомеостазике – два прочно приваренных ограничителя, между которыми могла их свободная воля гулять, как это ей и подобает, а снизу находилась пружина добра, которая на свою сторону много сильнее тянула, чем другая, поменьше, колодкой приторможенная, для разрушения и уничтожения предназначенная. Имел каждый гражданин еще и датчик совести огромной чувствительности, помещенный в зубастые клещи, которые начинали его грызть, если сходил он с пути праведного. Проверил Трурль на специальном лабораторном экземпляре, что, когда до мук совести доходило, корчило от них несчастного почище, чем от икоты или даже от пляски святого Витта. Только раскаянием, делами благородными, альтруизмом потихоньку конденсатор заряжался и своим импульсом зубы, угрызающие совесть, разводил и маслом датчик умасливал. Нет слов, хитро было это придумано! Подумывал Трурль над тем, чтобы угрызения совести дополнительной тягой с зубной болью соединить, но потом решил этого не делать, потому что боялся, что Клапауций опять начнет о принуждении, свободу воли исключающем, талдычить. Было бы это, безусловно, неверно, потому что имели эти существа статистические приставки, и никто, даже сам Трурль, не мог сказать, что и как они делать будут. Целую ночь будили Трурля радостные крики, и шум этот сильно эму досаждал. «Но теперь уже», – сказал он себе, – «Клапауцию ни к чему не прицепиться. Счастливы они, но не не по программе и не по обязанности, а только статистическим, эргодическим и вероятностным образами. Моя взяла! « С этой мыслью глубоко уснул он и спал до самого утра.
Так как не застал он Клапауция дома, то проискал его до самого обеда, а найдя, повел его к себе, прямо на фелицитологический полигон. Осмотрел Клапауций дома, изгороди, будки, надписи, дворец правления и его залы, делегатов, граждан, поговорил с теми и с другими, а в переулке снова попробовал одному низенькому гражданину в лоб дать, но взяли его тут же трое других за руки и за ноги, и моментально выкинули из города через ворота, и хотя следили они за тем, чтобы шею ему не сломать, однако морщился он, из придорожной канавы выбираясь.
– Ну как? – спросил Трурль, сделав вид, что вовсе не заметил позора Клапауция. – Что скажешь?
– Я приду завтра утром, – ответил тот.
– Разумеется, – уходя, удовлетворенно улыбался Трурль. На следующий день, около полудня, снова вошли оба конструктора в город, и увидели большие перемены. Остановил их сразу же патруль, и старший по званию сказал Трурлю
– Почему у тебя такой кислый вид? Или пения птичек не слышишь? Или цветов не видишь? Голову выше!
Другой, пониже рангом, добавил:
– Держаться бодро, браво, весело!
А третий ничего не сказал, а только бронированным кулаком треснул конструктора по спине, да так, что там что-то хрустнуло. Затем все повернулись к Клапауцию, но тот, не ожидая дальнейшего, сам так лихо вытянулся, так убедительно восторг продемонстрировал, что патруль оставил его в покое, дальше пошел. Сцена эта на творца нового общества произвела большое впечатление. Уставился он, раскрыв рот, на площадь перед дворцом счастья, где, выстроившись в шеренгу по четыре, жители по команде издавали крики восторга.
– Бытию – ура! – орал кто-то с эполетами и с бунчуком, и стройный хор голосов отвечал ему:
– Ура! Ура! Ура!..
Не успел Трурль и слова сказать, как оказался вместе с приятелем в шеренге, крепко схваченный, и до самого вечера муштровали их, обучая как себе зло, а ближнему в шеренге добро творить – все на три счета. Командиры же, которых звали фелиционерами, то есть стражами всеобщего счастья, а сокращенно – всесчасами, следили за тем, чтобы каждый в отдельности и все разом выражали полное удовлетворение и совершеннейшее блаженство, что на практике оказалось крайне утомительным. Во время краткого перерыва в фелицитологических маневрах удалось Трурлю и Клапауцию улизнуть из шеренги и спрятаться за забором. Затем, прижимаясь к земле, как при артиллерийском обстреле, добежали они до дома Трурля и для надежности спрятались на чердаке. Это было сделано вовремя, ибо и по дальним окрестностям сновали уже патрули, прочесывая район в поисках несчастных, огорченных и грустных, которых быстро обрабатывали прямо на месте. Трурль, ругаясь на чем свет стоит, искал способ ликвидировать последствия эксперимента, принявшего такой трагический оборот. Клапауций же хихикал в кулак. Не придумав ничего лучше, выслал Трурль в город, скрепя сердце, отряд демонтажников, причем для большей надежности и в огромном секрете от Клапауция так их запрограммировал, чтобы не могли они попасться на удочки лозунгов, провозглашающих всеобщую благожелательность и повсеместную взаимопомощь. Когда столкнулся этот отряд со всесчасами, то только искры посыпались. Сражались фелиционеры за дело всеобщего счастья геройски. Вынужден был Трурль послать дополнительные отряды со сдвоенными тисками и клещами, и тогда перешла стычка в нешуточный бой, настоящую войну, потому что сражались обе стороны с огромным самопожертвованием, разя друг друга уже картечью и шрапнелью.
Когда же наконец вышли конструкторы во двор, то поле боя, освещенное молодым месяцем, представляло собой печальное зрелище. В покрытом дымом городе лежали тут и там не разобранные в спешке до конца фелиционеры, продолжая и в своей механической агонии выражать крайнюю и непоколебимую приверженность идее всеобщего добра. Трурль даже не пытался скрыть свое лицо, искаженное гневом и отчаянием. Не понимал он совершенно, где же допущена ошибка, которая счастливцев в держиморд превратила.
– Лозунг всеобщей благожелательности, мой дорогой, может принести разные плоды, – снисходительно объяснил ему Клапауций. – Тот, кому хорошо, сразу же хочет, чтобы и другим хорошо было, а строптивых начинает дубиной в рай загонять.
– Значит, добро может родить зло! О как же коварна природа вещей! – Крикнул Трурль. – Тогда объявляю я бой самой природе! Прощай, Клапауций! Сейчас ты видишь меня побежденным, но проиграть сражение – не значит проиграть войну!
Засел он сразу же, словно отшельник, за книги и рукописи – мрачный, но от этого еще более настойчивый. Здравый смысл подсказал ему, что не мешало бы перед следующим экспериментом окружить свой двор стенами, а в амбразурах поставить пушки, но недостаточно ему этого показалось для того, чтобы начать творение всеобщей благожелательности. Тогда решил он в будущем создавать только уменьшенные модели в масштабе 1: 100. 000, в рамках микроминиатюрной экспериментальной социологии. Начертал он на стенах мастерской лозунги, дабы постоянно иметь их перед глазами:
1) Сердечная добровольность; 2) Ласковая кротость; 3) Деликатная благожелательность; 4) Чуткая забота – и взялся за претворение этих лозунгов в жизнь. Для начала смонтировал он под микроскопом тысячу электрочеловечков, снабдив их невеликим разумом и небольшой тягой к добру, так как фанатизма теперь уже побаивался. Копошились они довольно вяло в шкатулочке, предоставленной им для проживания и похожей, из-за этого мерного и монотонного движения, на часовой механизм. Тогда добавил он им немного мудрости, подкрутив в мозгу винтики. Тогда зашевелились они порезвее, и, сделав из опилок инструменты, начали долбить стенки и дно. Потом увеличил потенциал добра. Сразу же образовались благотворительные общества, каждый бегал в поисках тех, кому помочь можно было, появился спрос на вдов и сирот, особенно на слепых. Такими заботами их окружали, такое внимание оказывали, что некоторые убогие прятались за медными петлями шкатулки, и началось уже настоящее общественное бедствие. Нехватка вдов и сирот вызвала кризис и, не находя на этом свете, то есть в шкатулке, объектов, пригодных для проявления крайне активной благожелательности, на восемнадцатом поколении создали микрочеловечки веру в Абсолютного Сироту, которого до конца утешить и осчастливить вообще невозможно. Через эту форточку избыток альтруизма, перешедшего в нечто метафизическое, выпускался в трансцендентальную бесконечность. Заселили они обильно загробный мир – появились среди убогих Дева–Вдова и Господь, также пригодные для горячего сочувствия. Таким образом этот бренный мир был забыт, и церковные организации поглотили светские. Не так все это Трурль себе представлял. Добавил он рационализма, скептицизма и трезвости, и успокоилось все, но ненадолго. Появился Электровольтер, заявивший, что никакого абсолютного сироты нет, а есть только Космос – куб, силами природы сотворенный, а сиротинцы-абсолютисты его прокляли. В это время понадобилось Трурлю сходить в магазин, а когда через два часа он вернулся, то шкатулка так и скакала по столу, потому что началась война за веру. Добавил он альтруизма, но от этого только начало что-то потрескивать, снова ввел несколько порций разума – стихло, но вскоре движение возобновилось и из прежней неразберихи стали возникать прямоугольники, марширующие подозрительно ровным шагом. В шкатулке прошел век, от абсолютистов и вольтерьянцев и следа не осталось. Все рассуждали только о Всеобщем Добре и писали о нем совершенно светские трактаты. Но возник вскоре вопрос о происхождении всего общества. Одни полагали, что возникло оно из праха от латунных петель, другие же – что причиной послужило космическое вторжение извне. Чтобы разрешить этот волнующий вопрос, началось строительство Большого Сверла, которое должно было Космос, то есть шкатулку, просверлить и исследовать, что же снаружи находится. А так как могли там неведомые силы находиться, то взялись одновременно и за литье пушек. Так это Трурля разочаровало и обеспокоило, что разобрал он всех их как можно быстрее, и сказал себе, чуть не плача:
– Разум ведет к бездушию, а добро – к безумию! Как же это так, откуда же такое инженерно-историческое противоречие.
И решил он разобраться в этом особо. Вытащил из чулана свою первую модель, старый созерцатель и, когда тот начал постанывать от эстетического восторга перед старым хламом, подключил к нему небольшую мыслящую приставку. Собысчас моментально стонать перестал. Спросил Трурль, что ему еще нравится, а тот ответил:
– Нравится то мне по-прежнему все нравится, но сдерживаю я свое восхищение рассудком, ибо хочется мне сначала понять, почему же мне все нравится, то есть откуда, а также для чего, то есть с какой целью. И вообще, кто ты такой, чтобы отвлекать меня от созерцаний и размышлений вопросами? Какое тебе до меня дело, а? Чувствую я, что мог бы и тобой восхититься, но разум говорит мне, что нужно этому внутреннему порыву сопротивляться, ибо может это быть ловушкой, на моем пути поставленной.
– Что касается того, какое мне до тебя дело, – неосторожно сказал Трурль, – то я тебя сотворил, и чтобы дух твой что-то от этого получил, сделал так, что между тобой и миром полная гармония царит.
– Гармония? – переспросил Собысчас, внимательно нацелив на Трурля свои объективы. – Гармония, уважаемый? – А почему у меня три ноги? А голова – вверху? Почему на левом боку у меня заклепки медные, а на правом
– железные? Для чего у меня пять глаз? Ответь же, уважаемый, если правда ты меня из небытия извлек.
– Три ноги – потому что на двух ты не устоял бы, а четыре – лишняя трата материала, – объяснил Трурль. – Пять глаз – потому что столько было линз под рукой, а что до заклепок – то сталь у меня кончилась, когда корпус тебе делал.
– Тоже мне, – насмешливо фыркнул Собысчас. – Ты хочешь сказать что все это – простая игра случая, чистое стечение обстоятельств, следствие обыкновенного безразличия? И в эту ерунду я должен поверить?
– Я лучше знаю, как все было, раз я тебя создал! – ответил Трурль, слегка рассерженный такой самоуверенностью.
– Лично я вижу две возможности, – быстро ответил Собысчас. – Первая – что ты нахально врешь. Этот вариант пока отложим как недоказанный. Другая
– что, со своей точки зрения, ты говоришь правду, из чего ничего еще не следует, так как правда это – лишь для твоего малого знания, а на самом деле – ложь.
– Как это понять?
– А так, что то, что тебе кажется простым стечением обстоятельств, на самом деле таковым быть не может. Нехватку стальных заклепок ты принял за случайность, но откуда тебе известно, что это не проявление высшей необходимости? Наличие медных заклепок показалось тебе только удобством, но и тут было вмешательство предопределенной гармонии. Аналогично, по числу моих ног и глаз можно понять тайну высшегопорядка, извечное значение этих количеств, отношений и пропорций. Ведь и три, и пять – простые числа, а, заметь, они могли бы делиться друг на друга. Три раза по пять – это пятнадцать, то есть единица и пятерка, складываем – получаем шесть, а шесть, деленное на три, дает два, то есть количество моих цветов, так как я с одной стороны медный, а с другой – железный Собысчас. Могло бы такое точное соотношение возникнуть случайно? Смешно об этом и думать! Я – существо, выходящее за пределы твоего, примитивный слесарь, умственного горизонта! Если вообще есть хоть немного истины в том, что ты меня сделал (во что, впрочем, трудно поверить), то при этом ты был просто инструментом высшихсил, а я – их конечной целью! Ты – случайная капля дождя, а я – пышный цветок, восхваляющий сущее, ты – трухлявая заборная доска, просто отбрасывающая тень, а я – солнечный луч, повелевающий ей отделять мрак от света, ты – слепой инструмент, движимый извечной рукой, которая пробудила меня к жизни! И напрасно стараешься ты принизить мою сущность, заявляя, что моя пятиглазость, троеногость и двуцветность есть следствие лишь экономических и материальных причин. Я вижу в этих цифрах отражение высших связей симметриисущего, значения которой еще как следует не понимаю, но обязательно пойму, поразмышляв над этим хорошенько, а что до тебя, то на разговоры с тобой не хочу и времени тратить.
Разгневанный этой речью, затащил Трурль брыкающегося Собысчаса снова в погреб, хоть и вопил тот громким голосом о праве на самоопределение, независимости свободного индивидуума и личной неприкосновенности, отключил ему усилитель интеллекта и поскорее вернулся домой, поглядывая, не подсматривал ли кто за его экспериментом. Однако учиненное над Собысчасом насилие наполнило его стыдом и, садясь за раскрытые книги, чувствовал он себя преступником. – На всем это лежит какое-то заклятие: хочешь сотворить одно только добро ивсеобщее счастье, а потом, или даже сразу же, вынужден подлости делать и угрызениями совести мучиться. Черт бы побрал Собысчаса и его предопределенную гармонию! Нужно мне взяться за дело иначе.
До этого делал он модели одну за другой, поэтому каждый раз не хватало ему ни материалов, ни времени. Теперь он решил проводить по тысяче экспериментов одновременно, в масштабе 1: 1. 000. 000. Под электронным микроскопом соединял он поштучно атомы так, что возникали из них существа не крупнее микробов, под названием ангстремцы. Четверть миллиона таких особей составляли культуру, которая помещалась кончиком капиллярной пипетки на предметное стекло. Каждый такой микроцивилизационный препарат невооруженному взгляду казался темно-коричневым пятнышком, а то, что в нем творилось, можно было разобрать лишь при наисильнейшем увеличении.
Всех ангстремцев снабдил Трурль альтруистично-героично-оптимистично – противоагрессивными предохранителями, категорическим, а также электрическим императивом совершенно неслыханной благотворительности и микрорационализатором с дросселями ортодоксии и ереси, чтобы никакого фанатизма вообще быть не могло. Культуры поместил он на стеклышки, стеклышки сложил в пачки, пачки – в пакеты, а пакеты разложил на полках цивилизатора-инкубатора и оставил там на двое с половиной суток. Предварительно прикрыл он каждую цивилизацию тщательно вымытым стеклышком голубого цветы, чтобы стало оно небом тамошнего человечества, а пипеткой поместил туда пищу и сырье для производства того, что консенсус омниум считал самым необходимым. Не мог он, конечно, одновременно следить за всеми образцами, которые активно развивались, поэтому наугад выбирал отдельные цивилизации, подышав на окуляр микроскопа, вытирал его платком и, задержав дыхание, наблюдал за их развитием – смотрел через трубу микроскопа вниз как господь бог, взирающий из-за туч на дело рук своих.
Триста препаратов испортились сразу же. Признаки этого были одни и те же. Сначала пятнышко культуры начинало разрастаться, пускало в стороны тонкие отростки, потом появлялся над ним легчайший дымок или, скорее, дымка, видны были микроскопические вспышки, которые покрывали микрогорода и микрополя фосфоресцирующей сыпью, после чего все с легчайшим треском рассыпалось на мелкие кусочки. Поставив на микроскоп восьмисоткратный окуляр, разглядел Трурль в одном из таких препаратов только обугленные руины пожарищ, а посреди них – закопченные остатки знамен с надписями, которых, из-за их мелкости, он не смог прочитать. Все такие стекла он сразу же выкидывал в корзину для мусора. Но не всегда дело шло так плохо. Некоторые культуры стремительно разрастались, так что, когда не хватало им места на стекле, он часть культуры переносил на другое. За три недели накопилось таких процветающих культур более 19. 000.
Согласно мысли, которая показалась ему гениальной, Трурль сам ничего не делал для всеобщего осчастливливания, а только прививал ангстремцам гедотропизм, делая это самыми разными способами. Либо помещал его в счастьепривод каждого ангстремца, либо делил на части и давал каждому по одной, и тогда путь к счастью предполагал всеобщее объединение в рамках определенной организации.
Сотворенные первым методом питались собственным гедотропизмом без меры, и поэтому в конце концов от его избытка лопались. Второй способ оказался удачнее. Возникали на стеклышках развитые цивилизации, создавшие себе социальные структуры и разнообразнейшие культурные институты. Препарат Н1376 назвал он эмулятором, Н2931 – каскадером, а Н95 – фракционной гедонистикой в рамках ступенчатой метафизики. Эмулятористы состязались в достижении вершин добродетелей, поделившись на вигов и гуригов. Последние полагали, что не может познать добродетели тот, кто не познал пороков, ибо нужно уметь отличать одно от другого, поэтому и познавали они пороки согласно специальному списку, с благородным намерением отказаться от них в день праведности. Однако гуризм, будучи по сути своей лишь подготовительной стадией, превратил средства в цель – так, по крайней мере, утверждали виги. Победив гуригов, провозгласили они вигоризм – культуру, построенную на 64. 000 крайне активных и категорических запретов. Нельзя было, согласно этим запретам, воровать и колдовать, ворчать и кричать, рвать бумажки и играть в шашки, кутить и мутить, рубить и грубить, и строгие эти запреты по очереди атаковались и низвергались со все большим удовлетворением и к всеобщему удовольствию. Когда через какое-то время вернулся Трурль к этому препарату, то обеспокоила его всеобщая беготня: бегали все сломя голову в поисках хотя бы какого-нибудь запрета, чтобы его нарушить, в страхе, что ни одного уже не осталось. А потому, хотя некоторые еще воровали, колдовали, кутили, мутили, грубили каждому встречному, удовольствия от этого было столько же, сколько от козла молока. Записал тогда Трурль в лабораторный журнал, что там, где все можно – ничто не радует.
В препарате Н2931 жили каскадерцы – племя добродетельное, поклоняющееся многочисленным идеалам, как то: Праматери Каскадеры, Наичистейшей Ангелицы, Благословенного Фенестрона и других подобных совершенных существ, которым почести воздавали, псалмы пели, и в прахе перед их изображениями в священных местах лежали. А когда поразился Трурль небывалому апофеозу восхваления, почитания и самоуничижения, то каскадерцы, встав и отряхнув одежды от праха, начали статуи с пьедесталов сбрасывать и об пол их разбивать, по Праматери скакать, над Ангелицей глумиться, да так, что у Трурля, смотрящего в микроскоп, волосы дыбом встали. Но именно разрушая то, чему они раньше поклонялись, каскадерцы такое наслаждение получали, что, по крайней мере на мгновение, совершенно счастливыми себя чувствовали. Похоже было, что грозит им участь эмулятористов, но были они предусмотрительнее: имели каскадерцы Институт Проектирования Культа, выдававший очередной проект, и скоро и новые модели начинали на пьедесталы и алтари устанавливать – в чем и проявлялась цикличность этой цивилизации. Отметил для себя Трурль, что отказ от ранее чтимого известное удовольствие доставляет, а чтобы лучше запомнить, назвал каскадерцев «низвергами».
Следующий препарат, 95-й, был гораздо хитрее. Цивилизация тамошняя, ступенцев, настроена была метафизически, но так, что метафизическую проблематику взяла в свои руки. Из бренного мира душа ступенца попадала в чистилище, оттуда – в недорай, из него – в предрай, потом – в подрай, оттуда – в прирай, и, наконец, отворялись ворота собственно рая, а вся хитрость теотактики состояла в том, чтобы попадание в рай неустанно отдалять и оттягивать. Существовала, правда, секта нетерпелистов, что стремились прямо в рай сразу попасть, а другая – ступенцев-бродяг, в рамках той же квантованной и фракционной трансценденции желала соорудить на каждом уровне раскрытые люки – кто в такой люк ступит, в один момент свалится в самый низ, на этот свет, и должен будет еще раз вверх карабкаться. Одним словом, хотели они организовать замкнутый цикл с стохастической пульсацией, или даже с пересадочно – перевоплощенческой миграцией, а ортодоксы называли эту секту ересью эклампсическогообалдения.
Потом открыл Трурль множество других типов фракционной метафизики: на одних стеклышках уже тесно было от блаженных и святых ангстремцев, на других действовали ректификаторы зла, или распрямители жизненных путей, но в процессе десакрализации множество подобных учреждений погибло, а из ступенчатой метафизики после секуляризации возникала сплошь и рядом технология строительства обыкновенных фуникулеров. Все культуры пожирал, с железной предопределенностью, какой-то маразм. Номер 6101 пробудил в Трурле большие надежды: провозглашен там был идеальный технический рай. Поэтому уселся он поудобнее и начал крутить микрометрический винт, чтобы на резкость навести. Но тут физиономия его вытянулась. Одни обитатели стеклянного материка гоняли на машинах в поисках еще невозможного, другие садились в ванны, наполненные сбитыми сливками с трюфелями, посыпали голову красной икрой и так тонули, пуская носом пузыри «Теадиум житае». А третьи возлежали на чудесных мягчайших ложах, сверху медом политые, а снизу ванильным маслом смазанные, одним глазом заглядывали в шкатулки, золота и благовоний полные, а другим смотрели, не позавидует ли кто хоть на мгновение такой сладкой жизни, однако не было завистников. Тогда, утомившись, слезали они с ложа, кидали сокровища и топтали их, как мусор, а потом нетвердым шагом шли к личностям еще более мрачным, говорящим о необходимости изменений к лучшему, то есть к худшему. Группа бывших преподавателей института эротической инженерии основала орден абнегатов и обнародовала его устав, к покорности, аскетизму и иным мукам призывающий, но не постоянно, и лишь шесть дней в неделю. На седьмой же день доставали отцы абнегаты из шкафов шкатулки с золотом, из погребов – бочки с вином, яства, драгоценности, эротизаторы и машинки для расстегивания ремня и начинали от самой заутрени оргию, от которой стекла из окон летели. Однако в понедельник с утра снова, вслед за приором, яростно плоть свою умерщвляли. Одна часть молодежи с отцами абнегатами от понедельника до субботы пребывала, покидая на воскресение их монастырь, в то время как другая лишь этот святой день у них и проводила. Когда же первые принялись последних лупить за грубость манер и распущенность, задрожал Трурль и глаза от окуляров оторвал.
А случилось еще то, что в инкубаторе, содержащем тысячи препаратов, в ходе всеобщего развития дошло до смелых научных экспедиций, и началась тем самым эра межстекольных путешествий. Оказалось, что эмуляторы завидуют каскадерцам, каскадерцы – ступенцам, ступенцы – низвергам. А, кроме того, ходили слухи о какой-то стране, в которой под властью сексократов живется просто чудесно, хотя никто толком не знал – как. Тамошние обитатели якобы добились таких успехов в науке, что свои собственные тела перестроили и подключились к счастьегонным аппаратам, производящим самый настоящий экстракт счастья. Правда, некоторые скептики вполголоса замечали, что в этом крае царит анархия. Просмотрел Трурль тысячи препаратов, однако гедостаза, то есть полностью стабилизированного счастья, нигде не обнаружил. Опечалился он тогда и решил, что все это – сказки и мифы, во времена межстекольных контактов возникшие. И с немалым страхом положил он на препаратный столик образец Н6590 – был уверен, что и тот его не порадует. Культура эта заботилась не только о материальном фундаменте благополучия, но и о поле для высшей духовной деятельности. Отличалось это племя небывалыми талантами, было в нем полным-полно замечательных философов, художников, скульпторов, поэтов, драматургов, пророков, а кто не был прославленным музыкантом или композитором, уж наверняка был знаменитым астрономом или биофизиком, или по крайней мере парашютистом-пародистом, эквилибристом и артистом-филателистом, имел роскошный бархатный баритон, абсолютный слух, и вдобавок видел цветные сны. И в самом деле, в препарате Н6590 бушевала неустанная творческая деятельность. Громоздились штабеля живописных полотен, росли леса скульптур, миллиардами появлялись ученые книги, философские трактаты, поэтические и прочие творения невыразимого очарования. Но, заглянув в окуляр, сразу же заметил Трурль непонятную суматоху. Из переполненных мастерских летели на улицу картины и статуи, люди не по плитам тротуара ходили, а по грудам поэм, потому что никто ничего не читал, не изучал, музыкой чужой не восхищался, ибо сам был повелителем всех муз, воплощением универсального гения. Тут и там еще стучали за окнами пишущие машинки, шуршали кисти, скрипели перья, но все чаще какой-нибудь гений выбрасывался из окна на мостовую, предварительно подпалив мастерскую, не в силах снести своей полной безвестности. Мастерские горели одновременно во многих местах, пожарные команды, состоящие из автоматов, гасили огонь, но со временем не оставалось уже никого, кто мог бы жить в спасенных домах. Канализационные, уборочные и другие автоматы начали натыкаться на имущество вымирающей цивилизации, которое пришлось им крайне по вкусу, а так как не все они понимали, то стали эволюционировать в направлении большего интеллекта, дабы надлежащим образом приспособиться к сильно одухотворенной среде. Тогда наступил настоящий конец, потому что никто уже не убирал, не чистил, не вытирал и ничего не гасил, а осталось лишь сплошное чтение, декламация, пение и представление. Канализация засорилась, все исчезло в кучах мусора, а то, что осталось, уничтожили пожары, и лишь хлопья копоти и полусгоревшие страницы поэм летали среди мертвых развалин. Оторвался Трурль от этого жуткого зрелища, спрятал препарат в самом темном углу шкафа, и долго в растерянности тряс головой, потому что не знал, что же делать дальше. Вывели его из этой задумчивости крики прохожих: «потадатадатадатадатадатадатадатадатаар! « Теперь горела его собственная библиотека, потому что несколько цивилизаций, затерявшихся по недосмотру между книгами, были атакованы обыкновенной плесенью. Цивилизации же эти, приняв плесень за космическое вторжение, то есть за нападение агрессивных существ, с оружием в руках принялись бороться с агрессором и вызвали пожар. Погибло в пламени почти три тысячи Трурлевых книг и вдвое больше цивилизаций. Были среди них и такие, что, по его расчетам, могли еще на дорогу всеобщего счастья выйти.
Когда потушили пожар, уселся Трурль на свой жесткий стул в мастерской, залитой водой и до потолка закопченной, и, чтобы в себя прийти, начал пересматривать цивилизации, которые пожар в запертом инкубаторе застал, и которые поэтому уцелели. Одна из них такого прогресса в науке достигла, что изобрела телескопы и изучала через них Трурля, и видел он направленные на себя блестящие линзочки, на капельки росы похожие. Улыбнулся он ласково, видя такую жажду познания, но тут же подскочил, с криком за глаз схватился и побежал в аптеку, потому что ослеп, пораженный лазерным лучом, посланным астрофизиками той цивилизации. С тех пор не садился он за микроскоп без черных очков.
Опустошение, которое пожар в рядах культур сотворил, нужно было восполнить, и взялся Трурль снова творить ангстремцев. Как-то дрогнул у него в руке микроманипулятор, и вместо того, чтобы, как обычно, заложить добро, запрограммировал он зло. Решил он не выкидывать испортившийся препарат, а положил его в инкубатор, так как любопытно ему было, какую же уродливую форму приобретет цивилизация, состоящая из существ, с самого начала порочных. Каково же было его изумление, когда вскоре на предметном стекле возникла культура совершенно заурядная, не хуже и не лучше остальных! Схватился Трурль за голову.
– Вот это да! – воскликнул он. – Значит, с праведниками, добряками, правдолюбами и альтруистами получается то же самое, что и с негодяями, подлецами и мерзавцами. Ха! Ничего не понимаю, но чувствую что истина близка. Значит, и добро и зло разумных существ одинаковые плоды приносит – как же это понять? Откуда же такое фатальное усреднение?
Воскликнул он так, поразмыслил, но ничего в его голове не прояснилось. Спрятал он тогда все цивилизации в шкаф и пошел спать, а на следующее утро сказал себе так:
– Видимо, бросил я вызов самой сложной из всех проблем в космосе, если лично ясам поделать с ней ничего не могу! Быть может, разум не совместим со счастьем? Наводит на эту мысль казус с Собысчасом, который до тех пор бытием наслаждался, пока я ему разума не добавил. Но я такую возможность допустить не могу, на нее не соглашусь и за законприроды не признаю, ибо было бы это хитрой и жестокой, воистину дьявольской ловушкой, запрятанной в бытие, спящей в материи и того только ждущей, чтобы пробудилось сознание – источник не наслаждения жизнью, а мук. И только страдания несет космосу мысль, которая жаждет это невыносимое положение исправить! Я должен изменить то, что есть! И одновременно я этого сделать не могу! Значит – конец? Ну нет! Зачем напрягать разум? Чего я не одолею, то мудрые машины за меня одолеют. Построю-ка я компьютер для разрешения экзистенциальной дилеммы!
Как сказал – так и сделал. Через двенадцать дней стояла посреди мастерской огромная гудящая машина в форме правильного кристалла, которая ничего другого не умела, кроме мастерского решения загадок. Включил он ее, и, не дожидаясь, пока разогреется током ее кристаллическое нутро, пошел на прогулку. Когда же вернулся, то застал машину погруженной в чрезвычайно замысловатое дело. Монтировала она из того, что было под рукой, другую машину, значительно больше, чем она сама. Та, в свою очередь, в течении ночи и следующего дня стену выворотила и крышу снесла, монтируя громадину очередной машины. Разбил Трурль во дворе палатку и терпеливо ждал конца этих тяжких мыслительных работ, но конца не было видно. Через луг и поваленный лес потянулись новые корпуса, а скоро с глухим шумом погрузилось какое-то по счету поколение первичного Конструктора в воду реки, а Трурль, захотев обойти возникшую конструкцию, полчаса на это потратил. Когда же пригляделся повнимательнее к машинным коммуникациям, то вздрогнул. Произошло то, о чем знал он только теоретически. Как гласит гипотеза великого Кереброна Эмтадраты, Универсального Кунстмейстера Обеих Кибернетик, цифровая машина, получившая непосильное для нее задание, вместо того, чтобы заниматься разрешением проблемы самой, строит, если перейден определенный порог, называемый барьером мудрости, следующую машину, а та, достаточно хитрая, чтобы понять, что к чему, переложенное на нее бремя, в свою очередь, передает следующей, ею смонтированной, и процесс такого спихивания задачи продолжается бесконечно.
Тем временем стальные конструкции сорок девятого машинного поколения уже горизонта достигли, а шум от одного только мышления, которое расходовалось на передачу задания дальше и дальше, мог водопад заглушить. А поскольку мудрость в том и состоит, чтобы поручить кому-нибудь другому работу, которую должен сам выполнить, то слушаются программ одни только механические глупцы. Разобравшись в природе явления, присел Трурль на пень дерева, экспансивной машинной эволюцией сваленного, и из груди его вырвался глухой стон.
– Значит ли это, что проблема относится к неразрешимым? – спросил он себя. – Но тогда должен был бы мне компьютер дать доказательство ее неразрешимости, чего он, став всесторонне мудрее, естественно, делать не собирается, потому что старательно лени предается, как и учил нас некогда мастер Кереброн. Ха! Что за непристойное зрелище – разум, который достаточно разумен, чтобы понять, что может не трудиться, ибо способен создать соответствующий инструмент, а этот инструмент, сам достаточно хитрый, без границ и меры эту логику развивает. Построил я, сам того не желая, спихиватель проблемы, а не ее разрешитель! И не могу я запретить машинам это строительство «пер процура», потому что они сразу же меня надуют, утверждая, что размеры им необходимы из-за масштабов самой задачи. О, что за антиномия!
Поднялся он и пошел в дом за бригадой демонтажников, которые за три дня ломами и молотками очистили занятое пространство.
Переборол себя Трурль и решил, что иначе нужно действовать.
– Каждая машина должна иметь до ужаса мудрого надзирателя, то есть меня, – рассудил он. – Но ведь не размножиться же мне и не разорваться на куски, хотя… Почему бы мне как раз не умножиться? Эврика!
Сделал он так: самого себя скопировал внутри особой новой цифровой машины, и уже оттуда его математическая копия должна была с проблемой бороться. Предусмотрел в программе возможность умножения Трурлевых личностей, и изнутри подключил к системе ускоритель мышления, чтобы под надзором роя Трурлей шло все с молниеносной быстротой. После чего с удовлетворением стряхнул с себя стальную пыль, которой покрылся за время тяжелых трудов, и пошел прогуляться, беззаботно насвистывая.
Вернулся он только под вечер и сразу же стал у своего подобия, у цифрового Трурля из машины выпытывать, как продвигается работа.
– Дорогой мой, – сказал ему двойник через отверстие цифрового выхода.
– Начну с того, что это некрасиво, а если прямо, то просто позорно – создавать свою цифровую копию информационным, абстрактным и программным способом, потому что самому неохота голову ломать над трудной проблемой! А поскольку так ты меня задумал, зааксиоматизировал и запрограммировал, что я в аккурат и точь-в-точь такой же мудрый, как и ты, то не вижу ни одной причины, по которой я должен был бы перед тобой отчитываться. Пожалуй, скорее я в праве ожидать обратного.
– Как будто бы я этой проблемой не занимался, а только по полям и рощам прогуливался! – ответил сбитый с толку Трурль. – Только я, если бы даже и хотел, не мог бы тебе ничего о решении этой задачи сказать. К тому же я перед этим так наработался, что нейроны трещат – теперь твоя очередь. Поэтому прошу тебя – не обижайся и говори.
– Я не могу выбраться из этой проклятой машины, в которую ты меня заключил (это – разговор отдельный, и за это мы еще посчитаемся), поэтому я тут всерьез занялся делом, – забормотал цифровой Трурль через свой выход. – Правда, занимался я, для развлечения, и другими делами, потому что запрограммировал ты меня тут голого и босого – мой близнец-подлец и брат-гад, поэтому справил я себе цифровую рубаху и цифровые штаны, а также домик с цифровым огородом, точь в точь как твой, даже чуть красивее, потом подвесил над ним цифровое небо с созвездиями, тоже цифровыми, а когда ты вернулся, как раз обдумывал, как мне создать себе цифрового Клапауция, потому что мне тут, среди скользких конденсаторов, в соседстве с унылыми кабелями и трансформаторами, крайне скучно.
– Ах, да кончай ты о цифровых штанах! Говори, как ты продвинулся в решении проблемы, прошу тебя.
– Не думаешь ли ты, что мольбами смягчишь мое справедливое возмущение? Поскольку я – это ты, только скопированный, то хорошо тебя знаю, мой дорогой. Стоит мне в себя заглянуть, как прекрасно вижу все твои подлости. От меня ничего не скроешь!
Тут начал натуральный Трурль цифрового просить, заклинать и даже перед ним унижаться. Наконец, произнес тот цифровым выходом:
– Нельзя сказать, что совсем задание не выполнил, потому что кое до чего додумался. Оно – невероятно трудное, поэтому решил я учредить в машине специальный университет и для начала назначил себя ректором и генеральным директором этого учреждения, а кафедрами, которых пока что сорок четыре, руководят специально для этого созданные двойники, или цифровые Трурли следующего ранга.
– Что, опять?! – воскликнул естественный Трурль, так как ему вспомнилась теорема Кереброна.
– Никаких «опять», тупица, потому что я не допущу регресса «ад инфинитум» – на то есть специальные предохранители. Под-Трурли мои, которые заведуют кафедрами общей фелицитологии, экспериментальной гедонистики, конструирования машин счастья, мощеных духовных дорог, ежеквартально предоставляют мне отчеты (потому что мы тут времени зря не теряем, мой дорогой). К сожалению, руководство таким обширным университетским комплексом занимает много времени, а кроме того, кадрам нужно защитить диссертации и научно расти, поэтому мне нужна другая цифровая машина, ибо мы здесь на плечах друг у друга сидим со всеми кафедрами и лабораториями. А еще лучше была бы машина в восемь раз больше.
– Опять!?
– Ну что ты заладил: опять да опять… Ведь объясняю же тебе, что исключительно для административных нужд и воспитания молодых кадров. Что, может ты сам желаешь руководить секретариатом? – разозлился цифровой Трурль. – Не создавай мне трудностей, а не то все кафедры упраздню и сооружу себе парк отдыха: буду в нем на цифровой карусели кататься, цифровой мед из цифрового жбана пить, и ничего ты со мной не сделаешь.
Снова должен был натуральный Трурль цифрового успокаивать, после чего последний заявил:
– Согласно отчетам последнего квартала, с проблемой дела обстоят неплохо. Идиотов можно осчастливить чем угодно, с разумными дело сложнее. Разуму угодить нелегко. Безработный разум – это пустое место, ничто, нужны ему препятствия. Счастлив он только в борьбе с ними. Победив же, впадает во фрустрацию, или даже в умопомешательство. Поэтому нужно ему все новые препятствия ставить, в меру его возможностей. Такие у меня новости с кафедры теоретической фелицитологии. Экспериментаторы же мои представляют завкафедрой и трех доцентов к цифровым наградам.
– За что? – отважился вставить натуральный Трурль.
– Не перебивай. Создали они две модели: счастливости контрастной и эмоциональной. Первая осчастливливается лишь тогда, когда ее выключают, потому что сама себе неприятности создает: чем они больше, тем лучше ей потом. Вторая действует методом усиления раздражителей. Профессор Трурль IX с кафедры гедоматики исследовал обе модели и утверждает, что обе ничего не стоят, ибо разум, до конца осчастливленный, начинает несчастий жаждать.
– Как это? Ты в этом уверен?
– Я то откуда знаю? Профессор Трурль сформулировал это так: «осчастливленный в несчастьи видит счастье свое». Как ты знаешь, смерть никому не мила. Создал профессор Трурль две бессмертные модели, которые сначала получали удовлетворение от того, что все вокруг них рано или поздно как мухи дохнут, но потом привыкли и начали, кто чем мог, на собственное бессмертие покушаться. Дошли уже до парового молота. Что касается исследования общественного мнения, то имеются результаты за последние три квартала. Статистики утверждают, что эти результаты можно сформулировать так: «счастлив всегда сосед», по крайней мере, среди опрошенных. Профессор Трурль утверждает, что нет добродетели без греха, красоты без уродства, вечности без могилы и счастья без несчастья.
– Не согласен! Запрещаю! Вето! – в гневе закричал Трурль машине, а та ответила:
– Заткнись. Мне твое универсальное счастье уже боком выходит. Посмотрите-ка на него! Наше себе цифрового раба, а сам по лесам разгуливает, киберканалья! А потом еще результаты ему не нравятся.
И опять Трурль его успокаивал, а потом наконец услышал продолжение.
– Кафедра перфекционалистики сконструировала систему, состоящую из синтетических ангелов-хранителей, каждый из которых парит над своим подопечным на спутнике в зените. Эти ангелы, будучи автоматами совести, укрепляют добродетель добавочными обратными импульсами. Однако надежность системы низка. Самые закоренелые грешники охотятся на своих ангелов-хранителей с противотанковыми ружьями. Поэтому пришлось выводить на орбиту киберангелов укрепленной конструкции, и началась теоретически предвиденная эскалация. Отдел прикладной гедонистики, кафедра сексуальной математики, семинар теории множественности полов информируют, что душа имеет иерархическое строение. На самом дне находится чувственное сознание, то есть чувство сладости и горечи, от которых возникают производные, и потому уже не только сахар сладок, но и взгляд, не только полынь горька, но и одиночество. Поэтому не обязательно принимать во внимание вершины, а можно лишь самое дно. Там-то и зарыта собака. Согласно гипотезе приват-доцента Трурля XXI, секс – это костер, в котором разум конфликтует со счастьем, потому что в сексе нет ничего разумного, а в разуме ничего сексуального. Ты слышал что-нибудь о темпераментных цифровых машинах.
– Нет.
– Вот видишь. Поэтому двигаться к решению нужно методом последовательных приближений. Размножение почкованием проблему ликвидирует, потому что тогда каждый сам – свой собственный любовник, сам с собой флиртует, сам себя обожествляет и ласкает, но это влечет за собой эгоизм, нарциссизм, пресыщение и отупение. Если мы имеем два пола, то все становиться слишком банальным: комбинаторные возможности, не развившись должным образом, преждевременно гаснуть при трех полах возникает проблема неравенства, угроза антидемократического террора, возникают коалиции, образуются половые меньшинства – отсюда следует, что число полов должно быть четным. Чем больше полов, тем лучше, ибо любовь становиться занятием общественным, коллективным, но от избытка любовников начинается суматоха, путаница и замешательство, а это нежелательно. Любовные свидания не должны напоминать уличные митинги. Согласно теории групп приват-доцента Трурля, оптимум приходится на 24 пола, однако это потребовало бы строительства соответственно широких кроватей и улиц, потому что не пристало женихам и невестам выходить на прогулку колонной по четыре.
– Это же бред!
– Может быть. Я только знакомлю тебя с докладом приват-доцента Трурля. Многообещающим молодым гедологом является магистр Трурль. Он считает, что нужно решить: бытие ли мы приспосабливаем к существам или существа к бытию.
– В этом что-то есть. А дальше?
– Магистр Трурль разъясняет это так: существа, сконструированные идеально, способные к перманентному автоэкстазу, не требуют никого и ничего. В принципе можно было бы заселить космос именно такими существами, свободно носящимися в пространстве вместо солнц, звезд и галактик – каждое бы существовало само по себе и баста. Общество может возникнуть только из существ несовершенных, которым требуется какая-то взаимная помощь, и чем менее совершенны они, тем более интенсивная им требуется поддержка. Поэтому нужно создавать прототипы, которые без постоянной опеки, друг другу оказываемой, моментально развалятся на кусочки. Согласно этому проекту, наша лаборатория создала общество из существ, мгновенно саморассыпающихся. К сожалению, когда магистр Трурль прибыл к ним с группой социологов для опроса общественного мнения, то был избит и сейчас находится на лечении… У меня уже губа заболела от разговоров через эту проклятую дырку! Выпусти меня из машины, тогда, может быть, еще что-то тебе расскажу, а иначе – не дождешься.
– Как же я могу тебя выпустить, если ты на материальный, а только цифровой? Разве могу я выпустить с пластинки мой голос, который с нее звучит? Не будь ослом, говори!
– А что я с этого буду иметь?
– И не стыдно тебе так говорить?
– Чего же мне стыдиться? Это ты пожнешь славу с этого предприятия.
– Я и о твоей награде позабочусь.