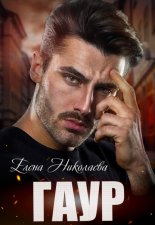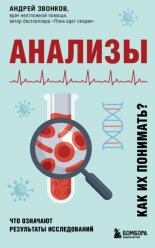Как читать художественную литературу как профессор. Проницательное руководство по чтению между строк Фостер Томас

Питер Фрэмптон[39] однажды сказал: ми мажор – козырь рок-музыканта. Хочешь, чтобы зал взревел и встал на уши? Выйди на сцену в гордом одиночестве, возьми длинный, смачный, гулкий ми мажор – и вся публика завибрирует в ожидании чего-то особенного.
Такое предвкушение бывает и у читателей. Когда я ощущаю, что текст как будто резонирует, дает тот самый многообещающий «гулкий аккорд», нередко выясняется, что фраза или отрывок взяты откуда-то еще и до предела нагружены смыслом. Чаще всего, особенно если заимствование явно отличается от остального текста, оказывается: оно из Библии. Остается лишь выяснить, откуда именно и что означает первоисточник. К счастью, с «Блюзом Сонни» все довольно просто: я знаю, что Болдуин – сын проповедника, что самый известный его роман называется «Иди, вещай с горы» (1952), что в сюжете уже был намек на историю Каина и Авеля: рассказчик сначала отказывался брать на себя ответственность за Сонни. Словом, нужно искать в Библии. Правда, вещь настолько хрестоматийная, что трудно не найти ответа: заключительная фраза взята из Книги пророка Исайи, 51: 17. В оригинале говорится о чаше ярости Господней, и в контексте упоминаются сыновья, которые сбились с пути и пострадали и которых, возможно, ждут отчаяние и погибель. Так что концовка новеллы с цитатой из Исайи получается очень неоднозначной. Может, Сонни обретет почву под ногами, а может, и нет. Не исключено, что впереди у него снова наркотики и приводы в полицию. А фоном его частной истории служит чувство, знакомое жителям Гарлема (где происходит действие), да и вообще всем черным американцам: они «испили из чаши гнева». В заключительных фразах Болдуина есть надежда, но ее накрывает тень ужасных опасностей.
Так ли уж сильно это влияет на восприятие текста? Может, и нет. Бесспорно, добавляются определенные нюансы, но смысл не меняется радикально, с точностью до наоборот. И правильно: ведь многие читатели могут и не распознать аллюзию. Скорее развязка просто получает дополнительный вес за счет переклички с Книгой Исайи, приобретает больший масштаб – даже, пожалуй, больший пафос.
Конечно же не только в двадцатом столетии могла приключиться эта драма: два брата не ладят друг с другом; молодые люди совершают ошибки и набивают себе шишки. Вечная история, старая как мир. Почти все терзания, какие могут выпасть на нашу долю, описаны в Библии. Разумеется, там ничего нет про джаз, героин и исправительные заведения, но ведь главная беда Сонни в смятении духа, а наркомания и судимости лишь внешние, современные признаки его надлома. А старший брат, который давал умирающей матери слово присмотреть за Сонни, но не сдержал обещания? Что ж, про обиду, горечь, вину и покаяние в Библии тоже сказано немало.
Вот этой-то глубины и добавляет истории двух братьев библейский подтекст. Перед нами уже не просто печальная и мрачная современная повесть о джазовом музыканте и его брате, учителе алгебры. Теперь в ней слышится эхо давних времен, многократно рассказанного мифа. История больше не привязана к середине двадцатого века: она становится вневременной притчей о раздорах, стыде, боли, гордости и любви – о том, что происходит всегда, везде, со всеми братьями. А притча по определению не может устареть, ведь она о вечном.
7
Сказка на ночь
Я, наверное, уже изрядно притомил вас, снова и снова повторяя, что литература вырастает из литературы. В наши дни «литература» – понятие растяжимое; скорее уж можно говорить о массиве текстов и сюжетов, составленном из романов, рассказов, пьес, стихотворений, песен, оперных либретто, фильмов, телесериалов, рекламных роликов и, пожалуй, новейших электронных форматов и жанров, даже таких, каких мы пока не представляем, но вот-вот изобретем. Давайте на секунду представим, что мы с вами – писатели. Допустим, нам нужна фактура, какие-то «вкусные» детали, чтобы голый сюжет оброс плотью. Куда податься, кого позвать на помощь?
Черный Плащ – только свистни, и он появится! Не смейтесь, это не такой уж плохой совет. По крайней мере на сегодня. Через сотню лет, наверное, мало кто опознает мультяшного героя 1990-х, но нынешняя публика вспомнит и поймет. Если нужно поднять какую-то специфическую тему, цитата из сферы кино или телевидения вполне может сработать. Насколько она узнаваема и как долго останется актуальной – это, конечно, другой вопрос. Но давайте обратимся к более традиционным источникам, то есть к литературной традиции, или литературному канону. Под словом «канон», кстати, подразумевается список знаковых, эпохальных или вообще чем-то примечательных книг, которого вообще-то нет (именно списка – книги-то есть), но при этом мы все согласны, что образованный человек обязан его знать. Вокруг него ведутся бесконечные споры: какие тексты и, главное, какие имена туда включать; иными словами, что и кого изучать в школе и университете. Америка не Франция, у нас нет Академии наук, которая занималась бы такими вопросами, и отбор чаще производится на местах. Когда я был студентом, в литературном каноне числились главным образом белые мужчины. Например, из британских модернистов в колледжах изучали только Вирджинию Вулф. Теперь, наверное, к ней добавили Дороти Ричардсон, Мину Лой, Стиви Смит, Эдит Ситвелл и многих других. Свод «великих авторов» или «великих книг» весьма изменчив. Но вернемся к проблеме литературных заимствований.
Итак, к кому из «настоящих» классиков вы обратились бы? К Гомеру? Добрая половина услышавших это имя подумает про Гомера Симпсона. Давно вы перечитывали Илиаду? Любят ли поэмы Гомера в городе Гомер, штат Мичиган? Читают ли про Трою в Трое, штат Огайо? В восемнадцатом веке смело можно было использовать Гомера, хотя читали его больше в переводе, чем в древнегреческом оригинале. Но теперь немногие распознают такую аллюзию. (Это не значит, что цитировать Гомера нельзя; просто имейте в виду: намек могут не уловить.) Может, взять Шекспира? Вот где золотое дно – все кому не лень черпают уже пятое столетие. Но тогда читатели могут решить, что вы чересчур «высоколобый» автор, и отложить ваше произведение в сторону. И потом, цитаты из Шекспира – как женихи или невесты: все лучшие уже разобраны. Ну ладно, поищем в двадцатом веке. Джеймс Джойс? Проблематично – очень сложен. Т. С. Элиот? У него самого сплошь цитаты и аллюзии. Разветвление канона привело к тому, что современный писатель не всегда может рассчитывать на общий багаж знаний у современных читателей. Начитанные люди теперь начитаны по-разному. Так где же искать параллели, аналогии, сюжетные ходы и цитаты, которые распознают все без исключения?
В детских книжках.
Да-да, именно. «Алиса в Стране чудес», «Остров Сокровищ», «Хроники Нарнии», «Ветер в ивах», «Кошка, которая гуляла сама по себе». Можно не знать, кто такой Шейлок, но уж Маугли-то знают все. И волшебные сказки тоже, по крайней мере самые распространенные. Сказки славянских народов, столь милые сердцу русских формалистов 1920-х годов, редко читают в штате Кентукки. Но «Белоснежка» и «Спящая красавица» благодаря Уолту Диснею известны и любимы от Владивостока до Майами, от Дублина до Сан-Франциско. Сказки удобны еще и своей однозначной моралью. Обращение Гамлета с Офелией или участь Лаэрта могут вызывать вопросы. Зато любому дураку ясно, как относиться к злобной мачехе или Румпельштильцхену. Всем нравятся прекрасные принцы, всех трогают исцеляющие душу слезы.
Одна сказка почему-то особенно сильно привлекает писателей (по крайней мере, в конце двадцатого века): это «Гензель и Гретель» братьев Гримм. У каждой эпохи свои любимые истории, но рассказ о заблудившихся детях актуален во все времена. В наш тревожный век, когда группа Blind Faith поет «Не могу найти дорогу домой», когда на смену одному потерянному поколению приходит другое, столь же потерянное, история Гензеля и Гретель выглядит очень символично. Этот сюжет кочует по самым разным текстам с начала 1960-х. У Роберта Кувера[40] есть рассказ «Домик-пряник» (1969); он оригинален уже хотя бы тем, что детей в нем зовут не Гензель и не Гретель. Автор рассчитывает на наше знакомство с первоисточником, потому многие детали обозначает намеками, косвенными штрихами, по которым нужно угадать, что происходит. Например, мы уже знаем, что происходит с того момента, когда дети приходят в пряничный домик, и до того, как ведьма сует их в печь; так что это Кувер опускает. Вместо ведьмы он показывает нам лишь ее черные лохмотья, так что мы видим ее как будто краем глаза. Это синекдоха – стилистический прием, где часть обозначает собой целое (например, название столицы – Вашингтон – может подразумевать всю страну и ее правительство). Мы не видим и как ведьма нападает на детей – только как она убивает голубей, клюющих хлебные крошки. Так, пожалуй, даже страшнее: она как будто отрезает детям путь домой, стирает даже саму память о нем. В конце рассказа, когда брат с сестрой приходят в пряничный домик, мы лишь мельком видим развевающиеся на ветру черные лохмотья. Автор заставляет переосмыслить все, что мы знаем об этой истории, заново оценить, насколько привычно мы ее воспринимаем. Обрывая повествование в тот момент, когда драма только начинается (дети нечаянно забредают в жилище злой колдуньи), Кувер показывает, до какой степени наши эмоции – тревога, любопытство, дурное предчувствие – обусловлены хорошим знакомством с немецкой сказкой. «Зачем еще что-то рассказывать? – словно бы спрашивает он. – Этот сюжет живет в каждом из нас!» С первоисточником – в данном случае со сказкой – можно проделать много разных штук, даже перевернуть с ног на голову. Именно так поступает Анджела Картер в цикле рассказов «Кровавая комната» (1979): перекраивает старые тексты, пишет провокационные, феминистские версии хорошо знакомых сказок. Она рушит наши представления об истории Синей Бороды, Кота в сапогах, Красной Шапочки, вытаскивает на поверхность мужской шовинизм и угнетение женщин, представления о неравенстве полов, заложенные в самих текстах и породившей их культуре.
Но старые сюжеты пригодны не только для перелицовки. Кувер и Картер выставляют саму сказку в новом свете, а другие авторы заимствуют отдельные образы и мотивы, чтобы расставить нужные акценты в собственных историях. Еще раз представьте, что вы писатель. Ваши герои – молодая пара. Не дети плотника, да и вообще не дети, и уж точно не брат с сестрой. Скажем, это любовники, которые тайком поехали куда-то на шикарном БМВ и заблудились. Не обязательно в лесной глуши, может, и в большом городе, в районе дешевых многоэтажек. Допустим, они живут в таунхаусах и не привыкли к каменным джунглям, вот и свернули не туда, в явно неблагополучный квартал. Навигатор не работает, мобильник разрядился. И похоже, единственно возможное пристанище – сомнительная хибара на отшибе. Очень даже драматичная завязка для гипотетического сюжета – и вполне современная, без всяких там плотников, крошек и пряничных стен. Так зачем же вытаскивать на свет божий какую-то замшелую сказку? Что она может поведать в такой ситуации?
А это смотря к чему вы хотели бы привлечь внимание в своем рассказе. Что вам кажется самым тяжелым в положении героев? Может быть, одиночество, чувство затерянности. Они как дети вдали от дома, попавшие в беду не по своей вине. Или искушение: пряники-то сладкие, но вот трогать их нельзя? А может, важнее всего то, что они должны выкрутиться сами, не полагаясь на привычные «выручалочки»?
В зависимости от желаемого эффекта можно взять какую-нибудь сказку (хотя бы все ту же, про Гензеля и Гретель) и подчеркнуть общее в сюжетах. Это можно сделать совсем просто: скажем, герой вслух пожалеет, что они не бросали на дорогу хлебные крошки – ведь он проехал нужный поворот (или даже два) и не знает этой части города. Или героиня выразит надежду, что развалюха на окраине не окажется логовом ведьмы.
Вот в чем прелесть этой технологии: не обязательно брать сюжет целиком. Допустим, мы выбрали элементы X, Y и B, но не трогали А, С и Z. И что с того? Мы же не переписываем всю сказку. Просто играем с деталями, фрагментами, отдельными мотивами первоисточника (исходного текста, как сказал бы литературовед, ведь для нас все вокруг – текст). Это нужно, чтобы добавить глубины повествованию, создать текстуру, выделить главную тему, наполнить высказывание иронией, напомнить читателю нечто, впитанное с молоком матери. Пользуйтесь на здоровье, здесь не бывает недобора и перебора. Чтобы вызвать в памяти целую историю, иногда хватает небольшого намека.
Почему так получается? Да потому, что сказки, как и Шекспир, и Библия, и мифы с легендами, и все прочие повествования, вписаны в одну великую историю. А все мы с того возраста, когда нам начали читать вслух или впервые усадили перед телевизором, погружены в нее и ее сказочные варианты. Однажды увидев Багза Банни или Даффи Дака в какой-нибудь переделке классического сюжета, мы всегда будем носить в себе этот сюжет. В наши времена трудно читать братьев Гримм, не вспоминая о братьях Уорнер.
Иронично получилось, вам не кажется?
О да, безусловно. И это один из лучших побочных эффектов литературного заимствования. Та или иная степень иронии характерна для большинства поэтических и прозаических произведений. Трудно спорить, что парочка тайных любовников не похожа на детей в страшном лесу. Но в каком-то смысле они именно таковы: забрались в район, где нечего делать людям их круга. Их можно назвать и морально заблудшими. Они сбились с пути и попали в беду. Ироническим образом знаки силы и влияния (дорогая машина, швейцарские часы, фирменная одежда) не только не помогают им, но, наоборот, превращают в лакомую добычу. Отыскать путь домой и отделаться от ведьмы им будет так же непросто, как маленьким путникам в сказке. Да, никого не надо совать в печь, не надо разбрасывать крошки или отколупывать и съедать куски пряничной стены. Да, они не так уж невинны. На стыке сказок – с их ясной моралью – и нашего сложного, не всегда чистоплотного мира почти неизбежно возникает ирония.
История о заблудившихся детях пользовалась бешеной популярностью еще у экзистенциалистов, и спрос на нее до сих пор высок. Роберт Кувер, Джон Картер, Джон Барт, Тим О’Брайен, Луиза Эрдрич, Тони Моррисон, Томас Пинчон, и так далее, и так далее… Но вам совсем не обязательно использовать сюжет «Гензеля и Гретель» только потому, что это блюдо дня. Или даже блюдо полувека. Сгодится и «Золушка», и «Белоснежка». Вообще, сойдет любая история, где есть злая королева или мачеха. И «Рапунцель» по-своему хороша, про нее даже The J. Geils Band[41] поют. Что-нибудь о прекрасном принце? Неплохо, но помните: в жизни до идеала дотянуть нелегко. Так что будьте готовы к иронии.
Я сейчас рассуждаю так, будто вы писатель, но ведь и вы, и я просто читатели. В чем же здесь для нас урок? Во-первых, в том, как подходить к тексту. Открывая какой-нибудь роман, мы ищем героев, сюжет, темы, идеи – и это понятно. Однако если вы похожи на меня, то вскоре начнете выискивать знакомые моменты: о, вот это мне уже где-то попадалось. Постойте, это же из «Алисы в Стране чудес»! Так-так, а при чем тут Червонная Королева? А это что – намек на кроличью нору? Зачем? Всегда спрашивайте себя: зачем? Думаю, всем хочется получить от книги что-то свежее и непривычное, но и что-то знакомое – тоже. Пусть новый роман не будет слишком похож на то, что мы читали до сих пор. Но пусть у него будет нечто общее с другими текстами, чтобы прежний читательский опыт стал подспорьем, помог извлечь смысл. Если в книге удачно сочетаются новое и узнаваемое, она начинает резонировать, словно к симфонии добавили новые музыкальные темы. Возникает чувство глубины, полноты, насыщенности. «Побочные» мелодии могут доноситься из Библии, из Шекспира, Данте, Мильтона, но могут прийти и из более скромного, хотя и известного всем источника.
Это я к чему: когда наведаетесь в книжный магазин и принесете домой новый роман, вспомните о братьях Гримм.
8
Греческие мотивы
В трех последних главах мы рассуждали о трех разных мифах: шекспировском, библейском и фольклорно-сказочном. Тесная связь мифа с религией иногда вызывает путаницу на семинарах: многие студенты думают, что «миф» означает «выдумка», и не понимают, как он совмещается с искренней верой. Но для меня миф – это устойчивый, узнаваемый сюжет и символы, которые его сопровождают. Верить в историю Адама и Евы, видеть в ней факт или притчу – это, безусловно, важно, только не в нашем контексте. Когда речь идет о чтении и восприятии художественного текста, главное для нас – как тот или иной сюжет становится «литературным сырьем», какие смыслы он придает поэзии и прозе и как его воспринимают читатели. Все три упомянутые мифологии служат материалом, источником аналогий и подтекстов для современных авторов (а любой автор – современный, пока пишет; даже Джон Драйден[42] при жизни еще не был архаичным). Если читатель сумеет их распознать, итог чтения станет существенно богаче и весомее. Библейский миф покрывает весь спектр, все уровни бытия: любые фазы жизни, включая жизнь после смерти; любые отношения, от личных до государственных; любые грани нашего опыта – физические, сексуальные, психологические, духовные. Однако творения Шекспира и сказки (как народные, так и авторские) тоже многое говорят о человеческой жизни.
Когда мы говорим о мифе в самом общем смысле слова, то имеем в виду историю, повествование, рассказ. Подчас они объясняют нам про нас самих больше – или по крайней мере иначе, – чем физика, химия, философия либо математика, при всей их пользе и информативности. Этот свод знаний о себе и жизни принимает форму сюжетов, которые откладываются в памяти групп и сообществ, образуют смысловое поле нашей культуры и сами подвергаются ее воздействию. Они определяют рамки восприятия, задают тот угол, под которым мы рассматриваем весь мир и себя в нем. Давайте скажем просто: миф – это любое повествование, важное для нашей культуры.
Такие повествования есть у каждого сообщества. В девятнадцатом веке немецкий композитор Рихард Вагнер брал сюжеты для своих опер из германской мифологии. Можно долго спорить о том, хороши или плохи оказались результаты с исторической и музыкальной точек зрения, но сам этот порыв – использовать мифы своего народа – очень даже понятен. На исходе двадцатого века в литературу США буквально ворвались авторы с индейскими корнями, и многие из них черпали темы, сюжеты и образы в мифах североамериканских племен. Можно вспомнить Лесли Мармон Силко и ее новеллу «Желтая женщина»; цикл «этнических» романов Луизы Эрдрич; Джеральда Визенора и его сагу «Медвежье сердце». Когда в «Песни Соломона» у Тони Моррисон появился летающий герой, многие читатели (особенно белые) усмотрели в нем параллель с Икаром. Однако сама писательница объяснила, что образ взят из мифа о крылатых африканцах, который очень важен и значим для ее сообщества. В сущности, метод Рихарда Вагнера не так уж сильно отличается от метода Моррисон и Силко: ведь и он обратился к корням, мифам своего племени. Мы не всегда помним, что даже в эру цилиндров и крахмальных воротничков у людей есть племенное родство, но это опасная забывчивость. Во всех моих примерах художник обращается к прошлому и ищет там истории, важные для него самого и его сородичей, то есть мифы.
Конечно же в европейской и евроамериканской культуре есть и другой источник мифов. Или даже Мифов – с большой буквы. Что вам сразу приходит в голову при слове «мифология»? Подсказываю: северное Средиземноморье две-три тысячи лет назад. Правильно, мифы и легенды Древней Греции и Древнего Рима. Греко-римская мифология так прочно вплетена в наше сознание – вернее, в наше бессознательное, – что мы этого уже и не замечаем. Не верите? Студенческий футбольный клуб в моем городе называется «Спартанцы». А школьные команды часто зовутся «Троянцами». У нас в штате есть городок Троя, а в нем колледж «Афины» (а еще говорят, что в департаменте образования нет клоунов!). Имеются также города Итака, Спарта, Ромул, Рем и Рим. Они возникли на разных этапах его заселения и разбросаны по всему штату. Если город в центре штата Мичиган, за тысячи миль от всего хоть капельку эгейского или ионического (не считая нашего же городка Иония), может называться Итака, значит, древнегреческий миф на редкость живуч!
Вернемся на секунду к Тони Моррисон. Меня всегда изумляло, что писатели так носятся с Икаром. Ведь это его отец Дедал соорудил крылья, рассчитал, как взлететь с утесов Крита и добраться до материка, – и долетел ведь, живой и здоровый! А вот взбалмошный мальчишка Икар не послушал родительских советов и разбился насмерть. Но его падение до сих пор будоражит поэтов и художников. Чего только в нем не видели: отцовскую попытку спасти дитя и трагическую неудачу; лекарство, оказавшееся столь же смертоносным, как сам недуг; юношеское дерзание, которое привело к погибели; спор между трезвой взрослой мудростью и бездумным мальчишеским задором; и, конечно, ужас смерти в морской пучине. Совершенно ничего общего с летучими африканцами; понятно, почему Моррисон так удивилась читательской реакции. Но этот сюжет, этот образ так глубоко засел в недрах нашего подсознания, что мы вспоминаем его всякий раз, как речь заходит о полетах или падениях. В случае с «Песнью Соломона» параллель оказалась неверной. Но в других произведениях она и вправду есть. В 1558 году Питер Брейгель написал прекрасную картину «Падение Икара». На первом плане мы видим пахаря с быком; за ним – пастуха и стадо; далее – море, по которому мирно плывет купеческое судно. Все эти сценки дышат будничным покоем. И лишь в правом нижнем углу холста что-то слегка выбивается из общего ряда: две ноги еще бьются над водой, но их явно тянет в пучину. Это и есть Икар, присутствие которого все меняет. Без гибнущего юноши получились бы просто сценки из жизни селян и моряков. Я довольно часто разбираю на семинарах два великих стихотворения, вдохновленных этой картиной: «В музее изобразительных искусств» Уистена Хью Одена (1940) и «Пейзаж с падением Икара» Уильяма Карлоса Уильямса[43] (1962). Оба текста прекрасны, они очень разные по тону, стилю и форме, но тема у них, в общем, одна: жизнь, которая идет своим чередом, невзирая на наши личные драмы. Каждый художник находит в картине что-то свое. Брейгель изображает пахаря и корабль, о которых ничего не сказано в изначальной, греческой версии мифа. Уильямс и Оден, в свою очередь, сосредоточены на разных элементах картины. Уильямса больше интересуют визуальные эффекты; он пытается передать изображение с помощью слов, как бы перевести его с языка живописи на язык поэзии, при этом добавляя кое-что от себя. Текст даже зрительно напоминает об отвесном падении: очень длинный и узкий (за счет коротких строк), он словно прочерчивает по странице вертикальную черную линию. Оден же в своем стихотворении рассуждает о сугубо интимном переживании горя и о том, как мало дела «большому миру» до наших личных невзгод. Очень интересно и удивительно, до чего разные отклики может вызывать одна и та же картина. А ведь у каждого читателя возникнут свои, наверное, совсем другие ассоциации. Моя юность, например, пришлась на 60-е, и участь Икара напоминает мне о тех подростках, что гоняли по улицам на спортивных авто типа «барракуды». Никакие уроки вождения, никакие родительские советы и уговоры не могли преодолеть тягу к этой скорости и мощи. Увы, многие из тех юных «гонщиков» разделили печальную судьбу героя мифа. Мои студенты – люди другого поколения, так что они, конечно, проводят иные параллели. Но основа-то у них одна, мифическая: юноша, крылья, полет и нежданная гибель.
Итак, классическая мифология может поставлять сюжеты для поэзии, живописи, оперы, художественной прозы. А на что еще она годится?
Ну вот, допустим, вам захотелось написать эпическую поэму о жизни бедной рыбацкой общины на Карибском море. Вы родом из тех мест и знаете всех этих рыбаков, как собственную семью? Тогда вам, наверное, захочется рассказать про их страсти – ревность, любовь, отчаяние; про их опасную жизнь, про морские приключения; захочется изобразить их гордыми и достойными людьми, показать те стороны их жизни, невидные туристам и белым судовладельцам. Конечно, можно подойти к делу очень, очень серьезно: сделать всех персонажей невероятно мудрыми и чинными, создать возвышенные образы трудолюбивых праведников. Вот только правильно ли это? Скорее всего, у вас выйдет нечто скучное и ходульное; напыщенность и благородство – очень разные вещи. Да и в жизни рыбаки отнюдь не святые. Они совершают ошибки, они бывают мелочными, завистливыми, развратными, иногда жадными – а бывают смелыми, сильными, толковыми, мудрыми, сложными. Вам ведь нужен обычный живой человек, пусть и очень хороший, а не индеец Тонто из «Одинокого рейнджера». Так что пусть за вашим рассказом о рыбаках мелькнет тенью древняя история о соперничестве и войне, в которой даже победитель обречен на гибель; история, чьи герои, при всех личных слабостях, наделены несомненным благородством. Дайте вашим персонажам имена Елена, Филоктет, Гектор и Ахилл. По крайней мере, именно так поступил лауреат Нобелевской премии Дерек Уолкотт[44] в своей поэме «Омерос» (1990). Ясно, что все эти имена из Илиады, хотя Уолкотт позаимствовал параллели, персонажей, ситуации не только оттуда, но и из Одиссеи.
Настало время неизбежного вопроса: а зачем?
Зачем поэту в конце двадцатого века браться за историю, которая передавалась из уст в уста примерно с двенадцатого по восьмое столетие до нашей эры и записана-то была еще на 200–300 лет позже? Зачем нужно сравнивать каких-то рыбаков с легендарными воинами, ведшими свой род от богов? Ну, хотя бы затем, что великим героям Гомера тоже доводилось и пахать, и рыбачить. И разве не все мы произошли от богов? Проводя такие параллели, Уолкотт напоминает, что любой из нас может обрести величие, даже если его земной удел более чем скромен.
Это один возможный ответ. Другой же таков – у историй гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Сюжет Илиады вовсе не такой уж божественный или всемирный. Те, кто не читал поэму, ошибочно полагают, что она о Троянской войне. На самом деле в ней описано одно-единственное, хотя и довольно длительное действие: гнев Ахиллеса (всего каких-то тридцать пять дней из десяти лет). Ахиллес гневается на своего военачальника Агамемнона, перестает сражаться на стороне греков и возвращается к битве лишь после того, как гибнет его ближайший друг Патрокл. Теперь его гнев обращается против троянцев, и в особенности их величайшего героя Гектора, которого Ахиллес в итоге убивает. А что вызвало этот гнев? Агамемнон отнял его боевую добычу. Банально? Но это еще только начало. Добыча – женщина. Воля богов и общественное мнение вынуждают Агамемнона вернуть наложницу ее отцу, и тогда он обделяет воина, который публично примкнул к его лагерю, – Ахиллеса, забирая взамен его наложницу Брисеиду. Фу, как мелко! И где же здесь благородство? Как же Елена, суд Париса, троянский конь? А они ни при чем. В основе всего лежит история мужчины, обезумевшего от ярости, когда у него забрали женщину. Ее же он «добыл» в ходе общей кровавой бойни, развязанной потому, что другой мужчина – брат Гектора Парис – украл жену у Менелая (брата Агамемнона). Вот почему Гектору в итоге пришлось взвалить на себя оборону Трои.
И все же по прошествии веков эта история, замешанная на похищении двух женщин, стала символом героизма и верности, жертвенности и поражения. Борьба Гектора безнадежна, но его несгибаемое мужество, пожалуй, не знает себе равных. Горе Ахиллеса, потерявшего любимого друга, буквально надрывает сердце. Главные поединки – Гектора с Аяксом, Диомеда с Парисом, Гектора с Патроклом и, наконец, Ахиллеса с Гектором – полны драматизма и напряжения, их исход влечет за собой великий триумф и великую скорбь. Неудивительно, что писатели до сих пор так охотно учатся у Гомера и так много черпают у него.
Когда это началось?
Да почти сразу. Вергилий – римский поэт, который умер в 19 году до нашей эры, – «лепил» своего Энея с гомеровских героев. Эней совершает практически те же подвиги, что и Ахиллес, и странствует в тех же местах, что Одиссей. Почему? Так положено героям. Эней сходит под землю, в царство мертвых. Зачем? Да затем, что туда спускался Одиссей. В последней решающей битве он убивает великана-циклопа из стана врагов. Почему великана? Потому что Ахиллес убивал великанов. И так далее, и тому подобное. На самом деле «Энеида» не совсем уж подражательна и не лишена юмора. Эней и его спутники уцелели при разгроме Трои, так что герой-троянец идет по стопам своих противников. В поэме даже есть сцена, где троянцы проплывают мимо острова Итака, осыпая Одиссея бранью и проклятиями за то, что придумал пресловутого коня. Но в целом судьба Энея предопределена: ведь Гомер уже всем объяснил, что значит быть героем.
А что же Уолкотт? Через две тысячи лет после Вергилия он заставляет своих героев совершать поступки, которые становятся символической реконструкцией гомеровского эпоса. Не всего целиком, конечно, – некоторые моменты приходится опускать. Сложно организовать масштабную батальную сцену в рыбачьей лодке, например. Да и про новую Елену странно было бы говорить, что ее красота двинула в поход «тысячу баркасов»: масштаб мелковат. И все же сходство есть: Уолкотт устраивает своим персонажам проверку на честь и мужество, а заодно подчеркивает – ими, как и героями Гомера, движут самые простые и понятные житейские мотивы. Гектору нужно защитить семью. Ахиллесу – сохранить достоинство. Одиссею – вернуться домой. Пенелопе – остаться верной женой и при этом не утратить надежду. У Гомера показаны четыре главные человеческие битвы: с природной стихией, божественной волей, другими людьми и самими собой. В конце концов, разве не они проверяют на прочность всех нас?
Конечно, в современной культуре такие параллели часто приобретают ироническую окраску. Один из распространенных приемов – так называемое комическое снижение. Например, трое арестантов бегут из тюрьмы, долго скитаются, переживают довольно забавные приключения. Можно ли усмотреть здесь аналогию со странствиями Одиссея? А вот Джоэл и Итан Коэны построили на ней свой фильм «О, где же ты, брат?» (2000). Ведь история троих беглецов – про долгий, как у героя Гомера, путь домой. Или вот, пожалуй, самый знаменитый пример. Один день из жизни дублинцев в 1904 году; молодой человек выбирает для себя будущее, мужчина средних лет бродит по городу и возвращается к жене только под утро. И лишь название – «Улисс» (1922) – намекает, что сюжет как-то связан с Гомером. Теперь мы знаем, что Джойс замышлял каждую главу романа как параллель к одному из эпизодов Одиссеи. Например, сцена в редакции газеты перекликается с визитом Одиссея к Эолу, богу ветров, хотя аналогия на первый взгляд кажется весьма зыбкой. Впрочем, журналисты – народ довольно ветреный; диалог в этой сцене можно назвать эпически цветистым, а под конец в окно редакторского кабинета врывается самый настоящий ветер и сметает со стола бумаги. И все же сходство с гомеровским оригиналом усмотрит лишь тот, кто понимает: это сходство условное, гротескное, комическое, словно в кривом зеркале. Джойса интереснее всего читать именно как пародию. В отличие от Уолкотта он не так уж стремится возвысить своих персонажей, наделить их классическим благородством – хотя в конце романа они обретают некий ореол доблести. Когда наблюдаешь, как бедняга Леопольд Блум весь день и полночи мечется по улицам Дублина, попадает в бесконечные передряги, вспоминает и будто заново переживает самое большое горе своей жизни, поневоле начинаешь видеть в нем трагического героя. Но эпического масштаба он, конечно, не достигает: Блум все же не Одиссей.
Однако античная мифология – это не только Гомер. Эхо «Метаморфоз» Овидия слышится во многих позднейших текстах. Пожалуй, самый показательный пример – «Превращение» Франца Кафки: герой просыпается однажды утром и обнаруживает, что стал гигантским насекомым. Индиана Джонс кажется чисто голливудским продуктом, но подобные персонажи – бесстрашные охотники за знаменитым сокровищем – ведут свой род от Ясона с аргонавтами. Хотите что-то более житейское? Пожалуйста: история царя Эдипа и его злополучного семейства, известная всем по пьесам Софокла и неоднократно переосмысленная уже в наши дни. Вообще, нет такой семейной распри или душевной драмы, для которой не нашлось бы античного образца. Не зря же Фрейд называл психические расстройства именами героев греческих трагедий. Оскорбленная женщина, безумная от горя и готовая жестоко мстить обидчику? Вспомним Энея и Дидону, Ясона и Медею. И, как во всех древних религиях, античный свод мифов объяснял многие природные явления: от смены времен года (Деметра, Персефона и Аид) до смысла соловьиного пения (Филомена и Терей). Нам очень повезло: большая часть этих историй записана в разных версиях и трактовках, так что можно пользоваться прекрасными образами и сюжетами. Мы впитываем их с детства, поэтому, когда писатель обращается к античному мифу, читатель, как правило, замечает аллюзию. Конечно, он не всегда распознает историю целиком, чаще припоминает отрывки в голливудской обработке. Но все равно соприкосновение с литературой от этого становится глубже, богаче, значительнее: мы понимаем, что и современный сюжет движет вечная сила мифа.
Для молодых читателей интереснее всего в этом отношении, возможно, станет серия из пяти романов Рика Риордана «Перси Джексон и олимпийские боги» (2005). В открывающем ее «Похитителе молнии» (2005) сорванец Перси узнает, что он – ни много ни мало – сын Посейдона и обвиняется в похищении молнии, излюбленного оружия Зевса Громовержца. Потом его ждет еще немало открытий: друг, оказавшийся сатиром, схватка с минотавром, приятельские отношения с дочерью Афины, все ужасы Аида. Перси, полубогу, не чужды черты нормального человека (такие как синдром дефицита внимания с гиперактивностью и дислексия), но он образцово-показательный, самый что ни на есть настоящий герой, и в романах ему не раз представляется возможность доказать это делом. Конечно, полубожественное происхождение и друзья-приятели из мифов ему очень помогают. Знаете ли, немаловажный факт, чей ты сын: бывшей «звезды» подготовительной школы магов или бога – повелителя морей…
Ах да, совсем забыл. Помните, как называется поэма Уолкотта? «Омерос». Так вот, на одном из карибских диалектов так звучит имя Гомер.
9
Не просто дождь
«Стояла темная ненастная ночь». Говорите, вы это уже где-то слышали? Ну да, так писал Снупи[45]. А Чарлз Шульц заставил Снупи написать так, потому что эта фраза была избитым клише в те времена, когда песик решил взяться за перо. А вот Эдуард Булвер-Литтон, знаменитый беллетрист Викторианской эпохи, и в самом деле как-то раз написал: «Стояла темная ненастная ночь». Этими словами он начал один из своих романов, причем далеко не лучший. Ну вот, теперь вы знаете все, что надо знать о темных ненастных ночах. Кроме одного.
Зачем они нужны?
Вы ведь задавали себе этот вопрос, правда? Зачем писателю нужно, чтобы ветер завывал, а дождь лил как из ведра, а старый замок, или лачуга, или усталый путник содрогались от ударов стихии?
Можно сказать, что каждой истории необходимы декорации, а погода тоже декорация. Верно; но это еще далеко не все. Есть и другие причины. Вот что я вам скажу: погода никогда не бывает просто погодой. Дождь – это не просто дождь. То же касается снега, солнца, тепла, холода и даже слякоти, хотя слякоть редко попадалась мне в книгах и тут судить сложнее.
Что такого особенного в дожде? С тех самых пор, как наши далекие предки выбрались из моря на сушу, вода как будто гонится за нами и хочет вернуть себе. Наводнения и цунами пытаются затащить нас обратно на глубину, круша все, чего мы достигли. Помните историю Ноя? Затяжные дожди, потоп, ковчег, всякой твари по паре, голубка, оливковая ветвь, радуга. Наверное, этот библейский сюжет очень утешал древних людей. Радугой Бог сообщал Ною, что, как бы сильно мы ни нагрешили, Он все же не станет совсем стирать нас с лица земли. Думаю, увидеть ее было большим счастьем.
В нашей иудео-христиано-исламской культуре дождь и радуга несут большую символическую нагрузку. Конечно, в других мифологиях им тоже есть место, но пока давайте ограничимся тем, что нам ближе. Страх утонуть сидит в любом из нас (в конце концов, мы жители суши); затопление всего и вся доводит его до предела. Дождь пробуждает глубоко запрятанную древнюю память. Нашествие воды тревожит нас на каком-то первобытном, генетическом уровне, а Ной – его символ. Когда Дэвид Герберт Лоуренс в новелле «Дева и цыган» (1930) описывает, как наводнение оставило семью без крова, он, безусловно, вспоминает Всемирный потоп: разрушение, за которым следует что-то новое.
Вообще, дождь – очень сильный образ. Та самая темная и ненастная ночь из начала главы (а я подозреваю, что до появления неоновых вывесок и электрических фонарей все ненастные ночи были чертовски темны) весьма успешно задает настроение текста. Томас Харди – куда более талантливый автор, чем его современник Булвер-Литтон, – написал прекрасный рассказ «Три незнакомца» (1883). Трое мужчин: приговоренный к смерти арестант (беглый), его брат и палач – случайно сходятся в доме пастуха, где празднуют крестины. Палач не знает свою несостоявшуюся жертву в лицо (как и остальные гости), а вот брат при виде бывшего узника пускается в бегство, отвлекая внимание на себя. Застолье сменяется погоней, которая происходит конечно же в темную и ненастную ночь. Сам Харди этого клише не употребляет, но увлеченно и с иронией описывает, как дождь колошматит по незадачливым путникам и вынуждает их искать приют – вот как все трое попадают на пирушку к пастуху. Библейские мотивы очень важны для Харди, но, работая над своим рассказом, он вряд ли думал про Ноя. Так зачем же ему понадобился этот ночной ливень?
Во-первых, для сюжета. Ливень сводит героев при очень неуютных (для беглеца и его брата) обстоятельствах. Иногда я скептически отзываюсь о сюжете, но не будем упускать из виду, насколько он важен для авторских решений. Во-вторых, нужно создать атмосферу. Дождь лучше всех погодных явлений ассоциируется с унынием, одиночеством, тайной. Правда, туман тоже неплох для этих целей. И потом, персонажи должны помучиться. Харди вообще любит мучить героев – чем сильнее, тем лучше. А какие погодные условия больше давят на психику и причиняют худшие физические страдания, чем затяжной дождь? При сырости и холодном ветре можно окоченеть и четвертого июля. Поэтому Харди обожает дожди. Наконец, дождь демократичен: он поливает и грешников, и праведных. Осужденный и палач связаны незримой нитью: оба вынуждены укрываться от ливня. Вот зачем Харди все это понадобилось. Впрочем, у дождя масса других достоинств.
Каких? Например, он чистый. Парадокс: такой чистый, когда падает с неба, – и развозит такую грязь на земле. Словом, если вам нужно, чтобы персонаж символически очистился, отправляйте его на прогулку под дождем, и к ее концу он у вас полностью преобразится. Еще, вероятно, простудится, но это уже другая история. Дождь может охладить гнев, пробудить совесть, отрезвить – смотря что вам требуется. Он может смыть пятно позора – метафорически, конечно. А вот если герой оступится, то упадет в лужу и станет еще грязнее, чем прежде. Выбирайте: либо очищать, либо пачкать. Впрочем, некоторые виртуозы это совмещают. Тут нужно быть очень осторожным, как с желаниями: загадаешь – а оно и сбудется. Вдруг захочешь очиститься – и очистишься, вопрос только, как и от чего именно. В романе «Песнь Соломона» Тони Моррисон гонит несчастную, отвергнутую Агарь под дождь. Давний любовник (он же кузен), Молочник, бросает ее ради более презентабельной пассии, чьи черты и волосы ближе к вожделенному «белому» идеалу. Агарь в отчаянии бросается в поход по магазинам, скупает одежду и украшения, заходит в салон красоты и всячески пытается превратить себя в подобие той женщины, которая, по ее мнению, нужна Молочнику. Потратив все деньги и душевные силы на воплощение его фантазии, она попадает под сильнейший ливень; новая одежда, свертки и прическа гибнут безвозвратно. Остаются ненавистные курчавые негритянские волосы да отвращение к себе. Дождь не омывает ее душевных ран, а избавляет от иллюзий, ложных представлений о красоте. Пережить это все Агарь не в состоянии и вскоре умирает не то от разбитого сердца, не то от простуды. Такое вот «очищение».
С другой стороны, дождь бывает целительным. Он ассоциируется с весной, но история Ноя с ковчегом здесь тоже важна. Дождь возвращает мир к жизни, росту, плодородию. Однако писатели народ коварный и эту его роль нередко обыгрывают иронически. Вот, например, Хемингуэй: в романе «Прощай, оружие!» (1929) он «убивает» при родах возлюбленную лейтенанта Генри, а затем отправляет страдающего героя… куда? Правильно, под дождь. Смерть при рождении новой жизни сама по себе полна горькой иронии; дождь – живительная вешняя влага – только усугубляет мрачный эффект. Впрочем, у Хемингуэя иронии много не бывает. То же самое у Джойса в «Мертвых». Ближе к концу Грета Конрой рассказывает мужу о своей первой любви – давно умершем Майкле Фюрее, чахоточном юноше, который в дождь пришел постоять под ее окном и неделю спустя скончался. Можно, конечно, списать все на правду жизни: ведь действие происходит в западной части Ирландии, а там всегда дождливо. Да; но дело не только в правдоподобии. Джойс сознательно играет с читательскими ожиданиями: в искусстве мы привыкли воспринимать дождь как символ очищения и возрождения, но в жизни-то у нас совсем другие ассоциации – сырость, холод, простуда, пневмония, смерть. Поэтические метафоры и суровая проза причудливо переплелись в образе мальчика, умершего ради любви. Юность, смерть, полнота чувств, отчаяние – вот сколько всего прочитывается в фигурке злосчастного Майкла Фюрея под дождем. Да, Джойс любил иронию не меньше, чем Хемингуэй.
Вода – главная стихия весны. Апрель с водою, май с травою. Весна – время не только цветения, а еще и надежд, пробуждения духа. Но, будь вы поэтом-модернистом (обратите внимание: где модернизм, там всегда ирония!), вы бы обязательно вывернули эту благостную картину наизнанку и начали бы свою поэму словами «Апрель, беспощадный месяц…». Прямо так Т. С. Элиот начал свою «Бесплодную землю». В ней он разносит в пух и прах все представления нашей культуры о весне, дожде, плодородии. Гадать, нарочно ли он переиначивает эти символы, не приходится: Элиот любезно снабжает свой текст комментариями и заметками, так что сразу ясно – да, нарочно. Он даже указывает, на какой труд опирался при изучении рыцарских легенд и романов: «От ритуала до легенды» Джесси Уэстон (1920). В нем Уэстон разбирает сказания о Короле-рыбаке, в которые входят и легенды о короле Артуре. В центре всех сюжетов – герой-спаситель, латающий прорехи в обществе, природе, мироздании. Что-то в жизни общины разрушено, испорчено, казалось бы, бесповоротно; однако появляется добрый, разумный властитель и все налаживает. Плодородие почвы и растений необходимо для благоденствия, поэтому немалая часть материала, с которым работает Уэстон, связана с темой возрождения пустоши, заброшенной земли. Удивительно ли, что мотив дождя возникает сплошь и рядом? Под влиянием Уэстон с самого начала своей поэмы Элиот делает ключевым образом засуху, отсутствие дождя. Но вода у него несет двойную смысловую нагрузку: река Темза загрязнена и отравлена; изображена эта грязь весьма натуралистично, вплоть до сидящей на берегу крысы с блестящим от слизи брюшком. В сущности, дождь в поэме так и не приходит. В конце автор говорит нам, что он собирается, но ведь это не то же самое, что услышать стук капель по земле. Итак, дождя нет, и мы не можем с уверенностью сказать, что он принесет с собой, если все-таки начнется. А вот его отсутствие очень значимо в поэме.
Когда дождь встречается с солнцем, получается радуга. Мы ее уже упоминали, но теперь пора поговорить о ней более обстоятельно. Да, она иногда ассоциируется с лепреконами и горшочками с золотом, но главный смысл радуги – божественное знамение, мирный договор между небом и землей. Бог обещал Ною не разрушать больше мир водами потопа и в знак этого устанавливает радугу. Ни один западный писатель или поэт не может использовать этот символ, минуя библейский подтекст. Один из лучших романов Д. Г. Лоуренса так и называется: «Радуга» (1916); как нетрудно догадаться, в нем возникает тема потопа и все связанные с ним ассоциации. Когда читаешь стихотворение Элизабет Бишоп «Рыба» (1947) и в последних строках видишь, что «все вокруг / только радуга, радуга, радуга», сразу ясно: речь идет о мирном пакте между людьми, Богом и природой. Конечно же пойманную рыбку нужно отпустить! Вообще, радуга – довольно очевидный символ и вызывает вполне предсказуемую реакцию у большинства читателей. Она встречается не так уж часто и потому бросается в глаза, ее сложно не заметить, а в нашей культуре за этим образом тянется длинный шлейф смыслов. Если вы научились обращать внимание на радугу, значит, осилите дождь и все остальное.
Взять, к примеру, туман. Он почти всегда обозначает неопределенность, зыбкость ситуации. В романе «Холодный дом» (1853) Чарльз Диккенс упоминает миазмы, то есть в прямом и переносном смысле напускает туману, когда изображает Верховный Канцлерский суд, разбирающий тяжбы о наследстве. Генри Грин окутывает весь Лондон густым туманом, чтобы молодые богатые путешественники надолго застряли в гостинице (рассказ «Вечеринка в пути» (Party Going, 1939). В обоих произведениях туман не просто погодное явление, но знак смуты в умах и душах героев. Как мне вспоминается, писатели используют туман, когда хотят показать слепоту, непонимание, неизвестность.
А снег? Он нагружен смыслами ничуть не меньше дождя, только смыслы эти другие. Снег может быть чистым, слепящим, убийственно холодным (но и теплым, когда окутывает, как одеяло), негостеприимным, уютным, праздничным, суровым, грязным (если лежит давно). Со снегом можно сделать что угодно. В рассказе Уильяма Гэсса «Мальчишка Педерсенов» (1968) смерть приходит следом за метелью. В стихотворении «Снежный человек» (1923) Уоллес Стивенс делает снег символом пустоты, небытия, уныния, неотвязных раздумий о тщетности жизни. «Ничто, которое есть, и то, которого нет»[46] – воистину леденящий образ. А у Джойса в «Мертвых» снегопад приносит с собой прозрение: Габриел считает себя на голову выше всех остальных, но за один-единственный вечер делает несколько неприятных, отрезвляющих открытий. Наконец, он смотрит из окна на снег, который «идет по всей Ирландии», и вдруг осознает: снег, как и смерть, великий уравнитель, он «ложится легко на живых и мертвых», не делая никаких исключений.
Мы еще вернемся ко всему этому, когда будем говорить о временах года. Конечно, спектр природных явлений богат настолько, что про них можно писать отдельную книгу. Ну а пока запомните золотое правило: читаешь стихи или роман – посмотри, что там с погодой.
10
Не приближайтесь к героям
Теперь вы уже знаете, что время от времени меня обуревает желание поучить вас жизни. А в этой главе я преподам вам самый главный урок, поэтому навострите уши. Если некто предлагает вам прокатиться на своей колеснице, поинтересуйтесь, как его зовут. Если ответит «Гектор», ни за что не соглашайтесь. Не стойте столбом. Не уходите вразвалочку. Убегайте – и побыстрее. Разбирая со студентами Илиаду, я люблю, забавы ради, обратить их внимание на то, что происходит с теми, кто оказывается в колеснице, управляемой Гектором. В среднем между тем, как человека называют по имени, и тем, как его чем-нибудь пронзают, проходит пять строк. Бывает, пронзают раньше, чем называют, но это совсем уж нечестно. Рано или поздно наступает момент, когда я говорю лишь что-то вроде: «А вот еще один…» – и приостанавливаюсь. Всем ясно, что будет дальше. Ну да, у Гмера в эпосе немало комического, но я почти уверен, что над пассажирами колесниц он не смеялся. Они скорее являют собой пример – или ряд примеров – различных вариантов участи, подстерегающей героев. И, увы, тех, кто оказался рядом.
Почти вся литература, за исключением лирической поэзии, зиждется на действующих лицах. Иначе говоря, она о людях. В истории литературоведения это наблюдение отнюдь не ново, однако время от времени о нем стоит вспоминать. А чтобы мы, читатели или зрители, не теряли интереса к людям, к действующим лицам, им важно время от времени что-нибудь делать. Большое и значительное: отправиться на поиски, заключить брак, развестись, кого-нибудь родить, умереть самому или лишить жизни, совершить полет, освоить новые земли, оставить свой след. Какие-нибудь мелочи: погулять, пообедать, сходить в кино, поиграть в парке, выпить, запустить воздушного змея, найти на земле мелкую монетку. Бывает, малое становится значительным. Бывает, большое оказывается меньше, чем кажется на первый взгляд. Собственно говоря, большое дело или маленькое, не так уж важно; самое главное, что могут делать действующие лица: меняться, расти, развиваться, взрослеть – назовите это как хотите. По собственному жизненному опыту мы знаем, что перемены могут быть трудными, болезненными, радикальными, потенциально опасными. А иногда даже и роковыми.
Но только не для главного действующего лица.
Один из наиболее неоднозначных примеров такой суррогатности одновременно один из старейших. Мало в литературе найдется героев с репутацией столь запятнанной, как у Ахиллеса. Илиада, вопреки распространенному представлению, никак не история Троянской войны. В ней описан сравнительно короткий период: примерно пятьдесят три дня из десятка лет. Видите ли, даже эпические поэмы удаются лучше всего, когда описывают не события «в общем и целом», а сосредоточиваются на отдельных действиях и на том, к чему они привели: герой возвращается домой, храбрец спасает город, изнемогающий под властью чудовища, два первых человека изгоняются из рая. А последний пример и вообще есть эпос в чистом виде: действие одного человека повлияло на судьбу тысяч. Когда же на занятиях я разбираю со студентами Илиаду, то выделяю воображаемым курсивом: это произведение о гневе Ахиллеса.
В первой же строке этот супергерой впадает в ярость, когда предводитель греков Агамемнон отбирает у него невесту, добытую в жестоком бою. Все, что происходит потом, вырастает из этой необузданной ярости по отношению к Агамемнону и всем, кем он руководит (по сути, ко всем, за исключением круга Ахиллеса). С того мига, когда ход сражения оборачивается против греков, и до выяснения отношений с Гектором в финале речь идет об одном только Ахиллесе даже в тех многочисленных песнях, где он вообще не появляется. Он выходит из себя, хочет вернуться в родную Фтию (я давно подозреваю, что не делал он этого только потому, что не в силах был выговорить ее название), и нам может показаться, что это поступок не мужа, но мальчика. Он не едет, но, пока сидит на берегу, у своих кораблей, все больше ожесточается против греков. Люди погибают сотнями; ему все равно. Агамемнон просит пощады и предлагает вернуть все, что отобрал, в том числе и девицу. Почти все главные герои – Одиссей, Агамемнон, Диомед, Эвриал – получают раны; ему это неинтересно. Очевидно, что Ахиллеса заставит действовать только одно. И это одно ему не очень-то по душе. Второй после него человек, Патрокл, умоляет Ахиллеса снова вступить в войну, а если сам он не хочет в ней участвовать, позволить части его войска, мирмидонцам, под предводительством Патрокла начать боевые действия.
Видите теперь, к чему все идет?
А пока все заваривается, угощу-ка я вас кусочком контекста. Патрокл не просто второй человек в войске после Ахиллеса; с детства они тесно связаны. Это длинная, наподобие мыльной оперы, история о том, как менее знатный человек поселился в доме у более знатного и как крепла их дружба. В поэме они всегда появляются парой: то сидят бок о бок, то склоняются друг к другу. Дальше – больше. Патрокл снова идет в битву, будет воевать, но… не как Патрокл. Он долго уговаривает Ахиллеса отдать ему волшебные доспехи, изготовленные лично для него богом Гефестом. В самый короткий срок они помогают Патроклу одолеть троянцев, которые какое-то время считают, что это самый страшный для них человек; а кроме того, у него появляется возможность стать почти таким же великим, как его друг. Но вот именно, что «почти». Патрокл наносит троянцам куда больше вреда, чем любой другой грек до него. Он трижды врубается в самую гущу троянцев, всякий раз убивая по девять воинов противника. И это не считая истребленных, убитых им воинов, чьи имена нам неизвестны. Он развивает такую бурную деятельность, что замахивается на взятие целого города. Это оказывается роковой ошибкой. Разница между Ахиллесом и почти Ахиллесом так же велика, как разница между жизнью и смертью.
Смерть Патрокла служит сразу нескольким целям рассказа Гомера, и все они имеют отношение не к нему, а к Ахиллесу. Самое главное: супергерой должен перестать гневаться на Агамемнона. Ему это сложно, так как он гневлив по натуре, а значит, может только перенаправить эту эмоцию, но не подавить ее. А тут Гектор убивает Патрокла и волей-неволей сам становится мишенью. Кроме того, Патрокл – единственный участник этой войны, по которому Ахиллес может искренне горевать (и действительно горюет). Они дружат с детских лет, они ближе, чем иные братья. Ахиллес может выходить из себя из-за того, что у него похитили сожительницу, но оплакивает ее вовсе не так сильно, как Патрокла. Его ритуальное горевание – он посыпает голову и тело песком и пеплом, горько рыдает, в отчаянии кидается на землю – это один из сильнейших эпизодов всего эпоса, ничуть не уступающий батальным сценам. И появляется он благодаря одному-единственному человеку. Вот только Патрокл не может ничего сказать по существу вопроса.
Нужда в новых доспехах достаточно тесно связана со смертью Патрокла, так как старые доспехи Гектор забирает как трофей. Предвижу ваши возражения: если Патрокл не погибает, то Ахиллесу не нужен новый доспех. Верно; да вот только старый доспех, пусть даже самый расчудесный, недостаточно крут, чтобы сделать его величайшим героем Греции, то есть величайшим героем всех времен и народов (этим, признаться, они разительно напоминают американцев). Чтобы «выстрелить» именно так, как задумал Гомер, Ахиллесу нужен не просто прекрасный, а божественный доспех, который может изготовить только бог. И он его получит благодаря Гефесту, кузнецу с Олимпа. Работа не из простых, но хорошо, что есть такой умелец.
В этом-то и проблема лучших друзей любого героя. У них есть потребности, или, может быть, у повествования есть потребности, озвученные ими, но они не могут ничего сделать самостоятельно, без посторонней помощи, разве что в тех случаях, когда в истории нужно поставить точку. Поняли, для чего нужны друзья? Когда Шекспиру понадобилось, чтобы между Монтекки и Капулетти пала непреодолимая преграда, он что – разделался с Ромео? Нет, конечно. Эта участь постигает беднягу Меркуцио, героя вообще-то куда более обаятельного. Если Джеймсу Фенимору Куперу в «Последнем из могикан» нужно выставить Магуа отпетым злодеем и дать главному герою мотив для мести (притом что не очень-то он был тому и нужен), он что – расправляется с Натаниэлем Бампо? А вот и нет! Он убивает молодого Ункаса, сына Чингачгука, лучшего друга Натаниэля, его неизменного спутника. Вообще же говоря, в рассказе и песне, в книге и фильме не существует более убедительной причины для мести, гнева или побуждения к действию, чем убийство лучшего друга (или его потомка). Правда же, не стоит слишком уж приближаться к героям.
Но это несправедливо.
Несправедливо, кто бы спорил. Но только знаете что? Никого это не волнует. У литературы своя логика, а у жизни – своя. Дело не только в этом, но (и здесь вся суть) действующие лица не люди. Конечно же они могут походить на людей, могут бушевать, гневаться, рыдать, смеяться и прочее, но это не настоящие люди, о чем мы беспечно забываем.
Постойте, как это – не люди? И если так, что нам до них за дело?
Что ж, правильно поставлен вопрос. Или вопросы. Отвечаю на первый: не люди потому, что никогда не существовали. Подумайте: вы когда-нибудь видели их на улице? Естественно, речь не об Ахиллесе, Геке Финне или герое какого-нибудь исторического романа; но вам не встретится ни один герой современного произведения. И это очень даже неплохо. Ни Гарри Поттер, ни Вольдеморт не носятся сломя голову за пределами своих книг (и это, честно говоря, совсем неплохо). Ну да, иногда встречаются похоже одетые ребята, но и только. Прототипами действующих лиц могут быть реальные люди. Специалисты по Хемингуэю не упустят случая напомнить нам, что такого-то героя он списал с такого-то своего друга, чаще всего бывшего, но позаимствовать черты этого друга совсем не значит быть им. Ничего путного не получится, если мы будем читать, сопоставляя действующее лицо с его прототипом, если он существует.
Да-да, я уже говорил и скажу еще не раз, но повторить нелишне: чего нет в тексте, того не существует. Мы можем прочесть лишь то, что есть в романе, пьесе или фильме. Если что-то подтолкнуло автора к созданию текста, но в самом тексте этому нет никаких подтверждений, разбираться в мотивах – дело специалистов, а не читателей: им не до того, они сражаются со смыслом. Ведь и правда: подавляющее большинство читателей не имеют никакого доступа к нетекстовым подтверждениям. Так как же определиться с курсом чтения? Действующие лица созданы только из текста, из слов. Мы знакомимся с ними через описания, через их собственные слова и дела, а также через слова и дела других действующих лиц, а вовсе не через слова (ничем не подтвержденные) зятя автора или его же, автора, заклятого врага, с которого, возможно, и «списано» действующее лицо. Мы долго обрабатываем в уме эти слова и действия и с небольшой помощью автора решаем, что нам думать.
Перейдем теперь ко второму вопросу: если они не настоящие люди, что нам до них за дело? Нет, ну правда? Зачем радоваться победам Гарри Поттера? Зачем рыдать из-за смерти крошки Нелл? Почему вообще мы должны что-то чувствовать к людям, которых никогда не существовало? Ответ прост, как дважды два. Потому, что не в силах удержаться. Вот что нам до них за дело: действующие лица суть продукт писательского и читательского воображения. Они есть создания двух эти мощных, действующих совместно сил. Писатель при этом пользуется необходимыми ему элементами памяти и наблюдений, а читатель – в этот раз не «читатель вообще», а каждый отдельный, конкретный читатель – заново создает образ, но уже из элементов своей памяти, своих наблюдений, своей фантазии.
Первая, писательская, фантазия обрисовывает всю фигуру, а вторая, читательская, получив набросок, заполняет пустые места. Случается, мы, не замечая сами, делаем так, как не предусмотрено в тексте; каждый опытный читатель не раз возвращался к любимому роману, самому-самому любимому в нем отрывку, к кристально, казалось бы, ясной черте характера героя, которой на самом деле нет в тексте. Мы создаем или, точнее, заново создаем действующих лиц, чтобы понять их. Чтение, как я сказал, везде, где только можно, – это полноконтактный вид спорта; лавину слов мы встречаем во всеоружии всех наших ресурсов: интеллекта, воображения и эмоций. Героев иногда в равной степени творим мы, романист или драматург. А бывает, и больше всего мы. Неудивительно, что нам не все равно, что с ними происходит?
В годы отрочества многие из нас усвоили, что опасно иметь в друзьях людей поверхностных, легкомысленных, импульсивных и безрассудных. Если бы мы были действующими лицами романа или фильма, то не узнали бы этого никогда, или узнали бы, но при последнем издыхании; а сторонним наблюдателям это часто кажется фатальным. В мире кино к самым убедительным примерам можно отнести «Бунтаря без причины» (1955), «Лихорадку субботнего вечера» (1977) и «Лучшего стрелка» (1986). В каждом из них обиженный молодой человек восстает против всего мира: и Джим Старк (Джеймс Дин) в «Бунтаре», и Тони Манеро (Джон Траволта) в «Лихорадке…», и Пит Митчелл по прозвищу Скиталец (Том Круз) в «Лучшем стрелке». Гнев, излишняя уверенность в себе и отчужденность делает этих героев трудными в общении и часто непредсказуемыми. А кроме того, каждый из них виновен в смерти близкого человека. Безрассудство Джима Старка губит его соперника, Базза Гандерсона: тот погибает в дурацкой автомобильной гонке, вместе с машиной упав со скалы. Преданный друг Джима, совсем юный Платон Кроуфорд (Сэл Минео), тоже умирает, слетая с катушек в самый разгар событий, когда угрожает полиции пистолетом, который Джим незаметно разрядил, чтобы никто не пострадал. Фиглярство Тони приводит к смерти Бобби Си, который падает с моста Верразано-Нэрроуз. Безрассудство Скитальца приводит к тому, что он теряет контроль над своим F-16, и в катастрофе погибает офицер радиолокационного перехвата, его лучший друг по прозвищу Гусь (Энтони Эдвардс). Смертей полно, включая падения с больших высот, – есть что расследовать.
Структурно эти три фильма очень похожи: молодой, незрелый человек должен выучить жизненные уроки, чтобы повзрослеть. Но природа этих уроков и драматизм, без которого кино не кино, требуют, чтобы они давались не впрямую, не «в лоб». Другими словами, произведение киноискусства никак нельзя назвать крупным, если главный герой умирает задолго до конца. Это должен взять на себя его подчиненный (или иногда соперник, а то и оба вместе). И потом, сюжет не сдвинешь с места без драмы, смерти и вины, этакой кинематографической «тройки». В соответствующих примерах нет недостатка. Так, в романе Джозефа Конрада «Лорд Джим» излишняя самоуверенность Джима губит Дэйна Уорриса, сына местного военного вождя, к которому он относится чуть ли не как к брату. Из-за этого Джим охотно подставляется под выстрел в самое сердце, сделанный вождем, Дорамином, и тут мы понимаем, что Конрад, в сущности, трагик. В шедевре Дэвида Лина, фильме «Лоуренс Аравийский», два молодых ученика Т. Э. Лоуренса (в исполнении Питера О’Тула, кстати сыгравшего и Лорда Джима) принимают жуткую смерть (один попадает в плывун, другой подрывается на динамите), пытаясь превзойти его; и все это для того, чтобы он убедился сам, лично: его война – вовсе не игра.
Неудачи «вторых лиц» могут принимать разные формы. Здесь я привел только трагические примеры, но бывают ведь и комические, и трагикомические положения. Геку Финну живется нелегко, но куда хуже жизнь беглого раба Джима, с которым они плывут на плоту. Всяческие невзгоды сыплются на героя Чарли Чаплина, маленького бродягу, во всех его немых фильмах; однако доской по лицу или кузнечным молотом по голове (конечно, я не думаю, что они настоящие) всегда получает оказавшийся рядом с ним незадачливый коллега или тот, кто за ним гонится. Летящий в лицо торт крайне редко достигает своей цели; гораздо чаще случается так, что герой, наклоняясь за какой-нибудь мелкой монеткой, попадает головой в живот состоятельной даме или президенту банка, которые оказываются в этот момент рядом с ним.
У этого приема существуют самые разные источники – злость астрономических масштабов, невезение, необходимость в «мальчике для битья», да что угодно, – но почти все их можно объединить под рубрикой «двигатель сюжета». Чтобы сюжет двигался дальше, в нем должно что-то происходить, а значит, кем-то нужно пожертвовать. И очень редко этот «кто-то» – главное действующее лицо. Да, это жутко несправедливо. А положа руку на сердце, даже больше, чем несправедливо.
Видите ли, литературные произведения недемократичны. Для нас самоочевидно, что все мужчины и женщины созданы равными. Для нас, может, и так, а для страны романов, пьес и так далее – отнюдь. В этом далеком краю о равенстве даже не заикаются. Везет одному-двум; все остальные лишь помогают им благополучно добраться до финишной прямой. Э. М. Форстер, фамилию которого вы то и дело встречаете на страницах этой книги, в своей работе «Аспекты романа» писал: в вымышленном мире (здесь я пользуюсь своими терминами) существуют объемные и плоские характеры. Объемные характеры м могли бы назвать трехмерными; в них множество самых разных черт, сильных и слабых сторон, противоречий, они способны меняться и развиваться. О плоских характерах этого не скажешь. В повествовании или драме им недостает полного раскрытия, поэтому они скорее двухмерные, похожие на картонные фигуры. Некоторые критики называют эти два типа литературных персонажей динамическими и статическими, но мы будем оперировать терминами «объемный» и «плоский». А из этих двух первенство безусловно принадлежит объемным характерам. Это надо понимать в том смысле, что обычно все внимание в произведении сосредоточено на одном-двух главных героях: до их последней точки, хорошей ли, плохой, мы наблюдаем, как они развиваются или меняются. Или нет. Все остальные существуют как средство для движения сюжета и подлежат уничтожению, когда сюжет требует жертв. Если, для того чтобы пересечь финишную черту, герою нужно перешагнуть через множество трупов, так тому и быть. Он может даже умереть на этой черте, но должен до нее добраться. Смотри хотя бы «Гамлета».
Я, пожалуй, не побоюсь сейчас рискнуть и благосклонно предположить, что в жизни каждый человек представляет собой совершенно объемный характер. Время от времени меня обуревают сомнения, но пока пусть будет так. Я имею в виду, что во всех нас много самых разных качеств, и далеко не всегда они складываются в идеальную мозаику. Гораздо важнее, что все мы можем расти, развиваться, меняться. Мы можем становиться лучше, хотя иногда и ленимся делать это. Иными словами, все мы, каждый из нас, от первого до последнего, главные герои своей собственной истории. Эти истории часто не стыкуются друг с другом, поэтому других людей мы можем видеть и не такими многосторонними, по крайней мере не столь же многосторонними, как мы сами, но это ничуть не отменяет того факта, что человек этот реален. Но эта очевидная истина не имеет никакого отношения к литературе. В вымышленном произведении некоторые характеры равнее других. Куда равнее.
Чтобы разобраться, что здесь к чему, нужно вернуться к исходной точке наших рассуждений: герои – это не люди. Они в большей или меньшей степени изображают человеческие существа. Из чего только не сделаны настоящие люди – плоти, костей, крови, нервов и всего такого прочего. А литературные образы сделаны из слов. Они не могут дышать, не могут истекать кровью (хотя удивительно, сколь многие из них, кажется, все-таки могут), не могут есть, не могут любить. Они могут быть сделаны на удивление правдоподобно, но ведь и на самом деле ничего из этого с ними не происходит. Если бы вы встретили такого человека на улице, то серьезно разочаровались бы. Если бы писатели создавали их точь-в-точь такими же, как мы сами, вам стало бы смертельно скучно. Даже объемные герои подчас недотягивают до полноценных человеческих существ. Они просто-напросто симулякры, иллюзии, назначение которых замещать людей. Степень нашей веры в них определяет степень нашего доверия к писателю. И к нам самим. Но здесь нас подстерегает проблема. Штука в том, чтобы, как читатель, поверить в них и, как критик, признать, что они нереальны. В этой книге мы делаем попытку создать читателей-экспертов, которых мы могли бы назвать читателями-критиками. Знаете, таких, которые могут и получать удовольствие от произведения, и анализировать его. Да-да, я помню стенания Вордсворта, как ужасно «разъять на части мир прекрасный»[47]. Полная ерунда. Не знаю никого, кто ценит и любит литературу больше, чем эксперты, которые, можно сказать, ее расчленяют. Как вы думаете, почему вообще-то мы стали экспертами? А потому, что горячо любили читать. Особо одаренные читатели могут делать два дела разом. Слово «анализ» только звучит грозно по сравнению со словом «удовольствие»; на самом же деле они легко совместимы.
Так почему же не все характеры объемные?
Весьма логичный вопрос. И хороший. Ответы лежат скорее в практической, чем в эстетической плоскости. Если можно так выразиться, характеры создаются на основе принципа служебной необходимости. Их целесообразность – это единственное, что важно. Писатели придают им лишь столько реальности, сколько нужно, чтобы сделать свою работу. Почему?
Во-первых, чтобы сосредоточить внимание. Если бы каждый герой был выписан одинаково тщательно, как бы мы поняли, на ком сосредоточиться? Запутались бы в два счета, а ведь мы точно знаем, что читатели не любят запутываться больше, чем нужно.
Во-вторых, из соображений интенсивности труда. Тщательное обдумывание всей предыстории каждого героя, пусть даже самого незначительного, а в придачу еще и всего комплекса качеств, интересов, недостатков, фобий и так далее, и тому подобного может порядком утомить. С ними, такими, каковы они есть, тяжело уже и без того.
В-третьих, из-за нечеткости цели. Если герой задуман отпетым злодеем, открытие, что он любит свою мать или держит собаку, может отвлечь от сути дела (пока он не пнет ту или другую). Намерения плоских героев и цель их присутствия в повествовании легче понять, и мы, читатели, можем воспользоваться всей помощью, какую только возможно получить.
В-четвертых, не забывайте о длине. Почти каждый короткий рассказ может разрастись в повесть, а то и в роман, чтобы вместить в себя все подробности. Каждый роман может стать «Войной и миром», а «Война и мир» может стать для вас неподъемной тяжестью. Это чревато полной потерей сознания, при которой накопления информации не происходит. Как мы отметили в первом пункте, накопление информации тоже не безгранично. И думаю, мы все согласимся, что произведения искусства настолько длинны, насколько мы этого желаем.
Я сделал это рассуждение о плоских и объемных характерах двучленным, но на деле перед нами последовательность. Без сомнения, совершенно плоские характеры существуют. Но есть ведь и такие, которые мы могли бы назвать скругленными. Например, Клавдий, дядя Гамлета и главный злодей в пьесе, способен раскаиваться в содеянном. Гамлет застает его за молитвой; нам известно, а ему – нет, что Клавдий черен и молитва ему не поможет. Лучший друг, Горацио, кажется воплощением верности, но даже он время от времени сомневается в принце. Так что, если бы мы составляли шкалу, на одном конце которой были бы, скажем, Розенкранц и Гильденстерн или могильщики, а на другом – Гамлет, мы не увидели бы ничего похожего на штангу с длинной тонкой перекладиной, соединяющую два больших «блина» по обеим ее концам. Где-то на этой перекладине появились бы (в порядке возрастания объемности) Полоний, Лаэрт, Горацио, Офелия, Гертруда, Клавдий, Гамлет. На случай, если вы задумались: призрак отца Гамлета довольно-таки плоский. Йорик не считается. Чтобы быть характером, мало быть просто черепом.
Романисты и драматурги уже давно ломают головы над всем этим; плоды их раздумий мы видим в их эссе, а иногда в произведениях. Многочисленные советы Форстера, Джона Гарднера, Генри Джеймса, Дэвида Лоджа и других касались второстепенных персонажей. Диккенс, в попытках компенсировать недостаток внимания к ним, старался делать их запоминающимися, наделить их заметным тиком или фразочкой, как миссис Микобер с ее «Я никогда не покину мистера Микобера!». Об этом ее никто не просит, но героиня, то и дело повторяющая свою реплику, волей-неволей запоминается. И действительно, из второстепенных героев Диккенса можно составить целую галерею: Мэгвич, мисс Хэвишем, Джеггерс, Билл Сайкс, мистер Микобер, Баркис и Пеготти, Урия Хип.
В эру постмодернизма вопросы о внутренней жизни второстепенных персонажей пробили себе дорогу на страницы книг и сцену. Я уже упоминал пьесу Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (1966). Ее движет вопрос: где находятся второстепенные персонажи, когда не находятся на сцене? Стоппард имеет в виду не актеров, играющих эти роли, а именно самих персонажей. Тем, кто не силен в гамлетологии, подскажу: Розенкранц и Гильденстерн – те два несчастных простофили, которые сопровождают Гамлета в Англию, где его, очевидно (но только не для них), убьют. Гамлет, однако, не такой уж дурень, и он замышляет не просто побег, а целую схему, так что эти двое вручают собственные смертные приговоры самому королю Англии. Им отводится… так, прикинем, сколько… от силы пять минут сценического времени из всей более чем трехчасовой трагедии. Стоппард задается вопросом: что они успевают сделать за этот рекордно короткий срок? Пьеса кажется абсурдистской чепухой, но в этой чепухе есть свой смысл. А вот вам более свежий пример: в романе «Финн» (2007) Джон Клинч подробно описывает жизнь одного из самых одиозных героев американской литературы – отца Гека Финна. Можно сказать даже, что, вырвавшись на простор, он становится только хуже. А потом, существует же еще и кустарное производство, одержимое идеей охватить все аспекты всего так или иначе связанного с Остин, в том числе и дать второстепенным героям побольше пространства, чтобы им было где носиться сломя голову. Этот тренд, возможно, станет одним из первых, за которые двадцать первому веку придется извиняться.
Вся эта дискуссия о главных и второстепенных героях тянется из далекого-предалекого прошлого. Еще Аристотель предполагал, что существует незримая связь между формой сюжета и природой его участников. Его рассуждения подчас сводятся к короткой формуле: «Сюжет – это герой, раскрытый в действии». Миновало уже несколько тысячелетий, но до сих пор радикально ее никто не усовершенствовал. Смысл в том, что сюжет (не сами действия, а способ, которым они структурированы) вырастает из природы героев, которых мы открываем для себя через их действия. В современной формулировке это образчик кругового мышления: сюжет есть герой в действии; герой раскрывается через сюжет и формируется им. Мы должны признать, что без героя не может быть художественной литературы и драматургии, причем это правило не знает исключений. Нам нужны и плоские, и объемные, и статические, и динамические герои. В конечном счете все они работают на одно и то же: помогают рассказу, роману или пьесе добраться до развязки – именно такой, которая кажется неизбежной. Случившееся с Гэтсби должно ощущаться как единственный возможный исход, ведь мы видим, что представляет собой Гэтсби, что представляет собой Ник и что представляет собой Дэзи. И Том, и Джордж Уилсон, и Миртл Уилсон. Перефразируя известную африканскую поговорку, скажу так: чтобы прикончить героя, нужен целый город.
Что-что? Вы, кажется, против того, чтобы героя устраняли силой?
А вы уверены? Продолжаем разговор!
Интерлюдия
Что он хочет этим сказать?
Наверное, дорогие читатели, вы уже не раз мысленно задавали мне один вопрос: «Вот вы говорите: автор использует такой-то текст, автор берет оттуда-то символы или сюжеты… неужели он это делает сознательно? Как вообще можно постоянно держать в голове какие-то замшелые древности?»
Глубокий вопрос. Нарочно ли они это делают? Как бы мне хотелось дать такой же глубокий ответ: звучный, весомый, может быть, даже поэтический. Но я могу сказать лишь одно.
Да.
Ответ весьма прозаический, к тому же не совсем правильный. Точнее, чересчур категоричный. Правильнее было бы сказать, что никто ничего не знает наверняка. Конечно, есть писатели, с которыми все понятно, потому что они сами раскрывают свои секреты. Но гораздо чаще приходится гадать.
Начнем с легких случаев – Джеймса Джойса, Т. С. Элиота и прочих авторов, которых условно можно назвать «сознательными». Они стараются контролировать любую фазу творческого процесса, намеренно используют любой прием и тщательно просчитывают любой художественный эффект. В основном это модернисты, особенно те, кто писал в промежутке между двумя мировыми войнами. В статье под названием «“Улисс”, порядок и миф» (1923) Элиот превозносит свеженаписанный шедевр Джойса. Ранее, говорит он, писатели полагались на «повествовательный» метод; теперь же авторы, следуя примеру Джойса, могут практиковать «мифологический» подход. «Улисс», как мы помним, очень длинное и подробное описание одного дня из жизни дублинцев (16 июня 1904 года), созданное по образцу гомеровской Одиссеи (Улисс – это латинский вариант его имени). В романе пародийно обыгрываются многие эпизоды древнего эпоса. Нисхождение Одиссея в царство мертвых становится походом на кладбище; вместо встречи с Цирцеей (волшебницей, превращавшей мужчин в свиней) главные герои отправляются в знаменитый дублинский бордель. Статьей о Джойсе Элиот подспудно защищает собственную поэму «Бесплодная земля», тоже сотканную из мифологических тем, сюжетов и образов. Основой для его произведения стали древние мифы о плодородии, связанные с фигурой Короля-рыбака. Эзра Паунд в поэме «Кантос» синтезирует элементы греческой, латинской, китайской, английской, итальянской и французской поэтических традиций. Д. Г. Лоуренс пишет эссе о мифах Египта и Мексики, психоанализе Фрейда, толковании Апокалипсиса и эволюции европейского и американского романа. Как вы думаете, творчество этих авторов или их современников Вирджинии Вулф, Кэтрин Мэнсфилд, Эрнеста Хемингуэя и Уильяма Фолкнера может быть наивным? Вряд ли, правда?
Тот же самый Фолкнер для романа «Авессалом, Авессалом!» (1936) берет заголовок из Библии (Авессалом – непокорный сын царя Давида, погибший совсем молодым), а сюжет и часть персонажей заимствует у греков. Этот роман – вариация на тему Эсхиловой «Орестеи» (458 г. до н. э.), трагедии о воинах, выживших после Трои, о мести, о бойне чисто эпического масштаба. Понятно, что здесь вместо троянской – Гражданская война Севера и Юга, и убийство «организовано» несколько иначе: незаконно прижитого сына убивает его брат, тогда как в оригинале вернувшегося мужа (Агамемнона) убивает неверная жена (Клитемнестра). Впрочем, о последней все же напоминает имя рабыни-мулатки: Клити. Орест, сын-мститель, преследуемый фуриями и гибнущий в огне на руинах семейного гнезда, – это Генри Сатпен. Электра, убитая горем дочь, – его сестра Джудит. Видите: повествование прекрасно продумано и выверено до мельчайших деталей; вряд ли в нем найдется место наивному, бессознательному самовыражению.
Ну хорошо, с модернистами все ясно. Но что было раньше? Примерно до 1900 года почти любой автор получал хотя бы зачатки классического образования: латынь, немного древнегреческого, классическая поэзия, Данте, Шекспир – в общем, уж точно больше, чем среднестатистический читатель знает сегодня. Более того, писатели могли рассчитывать на эрудированность своей публики. В девятнадцатом веке театральные импресарио имели немалые сборы, устраивая гастроли шекспировских трупп на американском Западе. Уж если жители прерий свободно цитировали Барда, можно ли поверить, будто писатели «случайно» воспроизводили его сюжеты?
Доказать что-либо здесь практически невозможно, поэтому рассуждения о том, что хотел сказать автор, – занятие неблагодарное. Давайте лучше сосредоточимся на том, что он на самом деле сказал, а главное, что мы, читатели, можем подметить в его произведениях. Часто приходится иметь дело с намеками и предположениями, на ощупь искать нечто, лежащее за пределами текста. Не нужно забывать, что почти любой начинающий писатель бывает еще и ненасытным читателем, поглощающим литературу и искусство огромными дозами. К тому времени, как он берется за перо, обычно усвоено уже так много, что и не различишь, где чье влияние. Сознательно или нет, но автор накопил некий культурный багаж и может им пользоваться. Важен еще и такой фактор, как скорость работы. Вы читаете эту главу несколько минут; я же, увы, писал ее много дней. Нет, я не сидел все это время за компьютером. Сначала долго вынашивал идею и решал, как лучше к ней подступиться. Затем набросал несколько пунктов и начал подбирать к ним аргументы и примеры. Временами «зависал» и шел готовить обед, или пек хлеб, или помогал сыну возиться с машиной, но тема и материал все время крутились в голове. Потом я опять садился за клавиатуру и начинал все сызнова, но отвлекался и переключался на что-то другое. И вот наконец добрался до места, которое вы сейчас читаете. Даже если предположить, что мы одинаково хорошо знаем предмет обсуждения, кто больше о нем передумал: вы за пять минут чтения или я за пять дней работы? Мы, читатели, порой забываем, как мучительно и долго пишется художественный текст и как много всего происходит в подсознании автора за это время.
А сейчас мы говорим именно о подсознательном: о том, как автор, держа в уме конечную цель – например сюжет пьесы, или развязку романа, или главную мысль стихотворения, – в то же время перерабатывает массу материала, лишь косвенно с ней связанного. Раньше я думал, что такая «многозадачность» – прерогатива гениев, но теперь уже не так в этом уверен. Иногда я веду курсы творческого письма, и мои начинающие литераторы частенько пускают в ход библейские мотивы, классические или шекспировские аллюзии, песни группы R. E. M., обрывки сказок – словом, всякую всячину. А ведь ни я, ни они сами не назвали бы себя гениями. Видимо, это происходит всякий раз, когда писатель (он же читатель) оказывается наедине с клочком бумаги. Тем интереснее читать опусы моих студентов и выпускников литературной мастерской штата Айова, а также Китса, Шелли, Джойса и многих других.
11
О насилии в литературе
Задумайтесь: Сети – беглая рабыня; все ее дети родились в рабовладельческом штате Кентукки, их бегство в штат Огайо подобно исходу еврейского народа из Египта. Только на этот раз фараон догоняет их и ломится в двери, грозя силком увести обратно на берега Красного моря. И Сети решает спасти детей от рабства, убив их; правда, у нее получается лишить жизни только маленькую дочь.
Когда призрак убитой девочки (заглавной героини романа Т. Моррисон «Возлюбленная») вернется к семье, она будет не просто погибшим ребенком, жертвой ненависти беглой невольницы к ее цепям. Нет, она станет, как гласит эпиграф, одной из «шестидесяти с лишним миллионов» африканских рабов и их потомков, умерших в колодках во время перегона через континент, или на невольничьих судах посреди Атлантики, или на плантациях, живших за счет бесплатного труда, или при попытке вырваться и бежать от системы, которая сама по себе такая же немыслимая дикость, как поступок матери, убившей дитя ради его избавления. «Возлюбленная» – символ мучений и ужасов, пережитых целой расой.
Насилие – очень личный, даже интимный аспект человеческих отношений, но его корни уходят и в общественную жизнь, и в культурную среду. Оно может быть символическим, тематическим, библейским, шекспировским, романтическим, аллегорическим, трансцендентным. В повседневной жизни насилие просто есть. Если вам дадут в нос на парковке у супермаркета – это всего лишь драка, в ней нет никакого скрытого смысла. Но в литературе насилие, даже самое буквальное и натуралистичное, всегда обозначает что-то еще. Удар кулаком в лицо может стать метафорой.
У Роберта Фроста есть стихотворение «Out, out…» (1916) – о неосторожности и кровавой расплате за нее. Деревенский мальчик пилит ствол циркулярной пилой, отвлекается, когда его зовут обедать, и пила, которая с самого начала кажется живым и опасным зверем, не упускает возможности и отхватывает ему кисть руки. Первое, что нужно сказать об этом сильнейшем тексте, – он абсолютно реалистичен. Только человек, живший в деревне и знакомый со всеми опасностями фермерского труда, мог так глубоко прочувствовать, что смерть кроется в самых обыденных делах и заботах. Если это все, что мы вычитаем у Фроста, – уже неплохо, стихотворение выполнит одну из своих задач. Но поэт не только предостерегает насчет детского труда и опасных инструментов. За физиологичной картиной встает образ Вселенной – враждебной или по крайней мере равнодушной к человеку. Наши жизнь и смерть (а мальчик от шока и кровопотери умирает) ничто для мира; он в лучшем случае безразличен к нам, а в худшем – радуется нашей гибели. Название стихотворения взято из монолога Макбета «Конец, конец, огарок догорел»[48]. Оно намекает не только на краткую жизнь мальчика, но и на бренность человеческого бытия вообще – особенно в космическом масштабе. На хрупкость и скоротечность жизни отрешенно взирают не только звезды и планеты (вечные по сравнению с нами), но и «ближний» мирок фермы с его бездушными машинами, которым все равно, кого убивать. Это вам не «Люсидас» Джона Мильтона (1637): классическая элегия, где над умершим рыдала вся природа. Тут даже рябь по воде не пойдет. Своей кровавой зарисовкой Фрост подчеркивает наше сиротство: все мы одиноки, бесприютны и беззащитны перед лицом смерти в молчаливой, холодной Галактике.
Кровь, смерть, жестокость часто встречаются в литературе. Анна Каренина бросается под поезд, Эмма Бовари разрешает свои проблемы с помощью яда, персонажи Д. Г. Лоуренса сплошь и рядом применяют физическое насилие, Стивена Дедала у Джойса избивают солдаты, полковник Сарторис у Фолкнера становится легендой своего городка, застрелив парочку янки-«саквояжников» прямо на улице. А Хитрый Койот показывает табличку «Прощай, жизнь!» и бросается в пропасть за Дорожным Бегуном. Даже авторы, у которых почти никогда ничего не происходит, вроде Вирджинии Вулф и Антона Чехова, регулярно убивают персонажей. Чем же все эти смерти и увечья отличаются от мордобоя в мультиках про Койота? А тем, что проявления жестокости могут иметь символический смысл, а не просто утолять жажду зрелищ.
Обратите внимание: насилие в литературе бывает двух видов. Первый можно назвать узкоспецифическим – это когда автор заставляет героев убивать и калечить друг друга или самих себя. Второй – повествовательное, сюжетное насилие, когда автор сам губит персонажей. В первую категорию попадает обычный криминальный ассортимент: стрельба, поножовщина, удушение, утопление, отравление, побои, взрывы и поджоги, ДТП со смертельным исходом и прочее в том же духе. К разряду писательского насилия я отношу случаи, когда смерть или страдания героя – составная часть сюжета и морали всего произведения. Сюда как раз попадает гибель мальчика в стихотворении Фроста, болезнь и смерть малютки Нелл в «Лавке древностей» Диккенса, кончина миссис Рэмзи в романе Вирджинии Вулф «На маяк» (1927).
А можно ли вообще это сравнивать? Смерть от чахотки или инфаркта и удар кинжалом – очень разные вещи!
В чем-то разные, а в чем-то похожие. С одной стороны, когда персонаж умирает сам, в повествовании вроде бы не фигурирует виновник (если не считать автора, который одновременно везде и нигде). А с другой стороны, какая покойнику разница? К тому же писатели убивают героев разными способами, но по одним и тем же причинам: нужны события, нужно запутать сюжет, нужно распутать сюжет, нужно помучить других персонажей.
И что, это еще не все? Вон сколько поводов для насилия!
Иногда этого хватает, особенно в детективных романах. Представьте: у вас на 200 страниц – три трупа, а может, и больше. Что значат для нас эти смерти? Да почти ничего. Они важны только для сюжета; чаще всего автор даже старается сделать жертву неприятной и несимпатичной, чтобы мы за нее не переживали, а может, и вздохнули с облегчением. Конечно, до известной степени смерть важна – ведь остаток романа будет посвящен ее разгадке. Но чувства потери у нас не возникает, да и высшего смысла тут явно нет. Детективные истории, как правило, лишены весомости. Они предлагают простейшее моральное удовлетворение: загадка разгадана, ответы на вопросы получены, убийца наказан, жертва отомщена. И заметьте, я это говорю как большой любитель жанра, проглотивший на своем веку немало детективов.
Так, значит, бывают более «весомые» смерти? И откуда же берется их весомость?
Она не берется, а чувствуется. Мы ощущаем нечто веское и серьезное, когда в тексте что-то происходит на глубинном, незримом уровне. В детективах, как бы сложно ни был выстроен их сюжет, убийство, скажем так, одномерно. Это специфика жанра: вокруг преступления нагромождено столько загадок, подсказок, ложных улик, что само оно не может быть чересчур многоплановым. А вот «серьезная» литература как раз вся построена на тонкой и сложной игре смыслов. В художественном мире любое преступление – знаковое деяние. Если понимать все поверхностно и буквально, Сети омерзительна: она детоубийца. Как можно ей сочувствовать? Живи она по соседству – кому-то из нас пришлось бы переехать. Но ее поступок обретает символический смысл; мы воспринимаем его не просто как дикую выходку помешавшейся женщины, но как отражение горькой истории целой расы, написанной шрамами от кнута на спине Сети; как результат чудовищного выбора, знакомого разве что античным героиням – Иокасте, Дидоне, Медее. Сети не просто женщина, она мифическое существо, персонаж великой трагедии.
Я уже упоминал, что в романах Д. Г. Лоуренса нередки насилие и жестокость. Вот вам пара примеров. В романе «Влюбленные женщины» Гудрун Брангвен и Джеральд Крич знакомятся после того, как каждый из них по отдельности проявил свой нрав. На глазах у сестер Брангвен Джеральд осаживает перепуганную кобылу около переезда, в кровь растерзав ей бока шпорами. Урсула негодует, но Гудрун так потрясена этим зрелищем мужской удали (а Лоуренс использует метафоры сексуального насилия), что падает в обморок. Потом Джеральд видит, как Гудрун танцует на поле перед стадом довольно агрессивных коров. Когда он пытается остановить ее и объяснить, что это очень опасно, Гудрун дает ему пощечину. Тогда он говорит нечто вроде: «Ну что ж, вы нанесли первый удар» – и слышит в ответ: «И я же нанесу последний». Нежнее некуда, верно? Их отношения так и продолжаются на этой ноте: битва эгоизма с эгоизмом, бурный секс, жалкие и унизительные встречи наспех, а в итоге – отвращение и ненависть. В чем-то Гудрун права: заключительный удар в самом деле наносит она. Однако в последней сцене с их участием Джеральд душит ее, пока глаза не вылезают из орбит, но вдруг с отвращением останавливается, разворачивается и уходит навстречу собственной смерти на альпийской лыжне. Сложные отношения, говорите? Погодите, то ли еще будет. В новелле «Лис» Лоуренс вычерчивает один из самых странных любовных треугольников в мировой литературе. Бэнфорд и Марч – две женщины, совладелицы фермы. Их сожительство откровенно лесбийским не показано, видимо, только из-за цензуры: несколько романов Лоуренса к тому времени уже были запрещены. И вот в эту специфическую компанию попадает молодой солдат Генри Грэнфел. Он остается работать на ферме, и у них с Марч начинается роман. Когда напряжение между тремя «полюсами» становится невыносимым, Генри рубит на участке дерево: ствол выворачивается, падает и убивает бедную ревнивую Бэнфорд. Проблема решена. Конечно, ее смерть отравит освобожденную любовь, но кого волнуют такие мелочи?
Сцены насилия у Лоуренса необыкновенно символичны – на то он и Лоуренс. Стычки Джеральда с Гудрун, к примеру, вызваны не только тяжелыми характерами героя и героини, но и пороками капитализма, и нехваткой духовных ценностей. С одной стороны, Джеральд – личность, индивидуальность, но с другой стороны, он крупный фабрикант, испорченный миром наживы (Лоуренс называет его промышленным тузом, «Наполеоном от промышленности»[49]). Гудрун же теряет свою человечность, подпав под влияние «развращенной» богемы. А убийство Бэнфорд в «Лисе» – не итог личной вражды, хотя персонажи отнюдь не благоволят друг к другу. Скорее за ним кроется подавление сексуальности и смешение гендерных ролей, которое Лоуренс замечал за своими современниками. Мужская и женская сущность, по его мнению, пали жертвой технического прогресса и вознесения разума над инстинктами. Этот подтекст угадывается, например, в именах персонажей. Бэнфорд (Джилл) и Марч (Эллен, Нелли) иногда обращаются друг к другу по имени, но все остальные, включая повествователя, называют их по фамилии, причем не добавляя «мисс». Тем самым автор подчеркивает их мужеподобность; а вот Генри везде в рассказе либо просто «Генри», либо «молодой человек». По Лоуренсу, чтобы вернуть хотя бы видимость порядка, нужно переломить наметившиеся тенденции в отношениях полов. В мире Лоуренса у насилия есть и мифический аспект. Джеральд Крич постоянно описывается этаким молодым богом: высоким, светловолосым, прекрасным. Гудрун же названа в честь одной из скандинавских богинь. Таким образом, их противостояние с самого начала обретает эпический масштаб. Молодой солдат Генри тоже является на «женскую» ферму как божество плодородия, буквально излучая мужскую силу. Лоуренса, как и многих его современников, завораживали древние мифы и культы, особенно те, что связаны с оживлением бесплодных земель. Чтобы пустошь (то есть убыточная ферма) вновь стала плодородной, нужны сильный самец и плодовитая самка, а все лишнее – например самок-соперниц – надо принести в жертву.
Насилие у Фолкнера имеет несколько иные корни, но плоды у него примерно такие же. Я знаю преподавателей, считающих, что Фолкнер – весьма опасное чтение для начинающих авторов. Его мрачность так притягательна, что иные подражатели умудряются впихнуть в один маленький рассказ изнасилование, три кровосмесительные связи, поножовщину, перестрелку и самоубийство. Уровень преступности в его вымышленном округе Йокнапатофа и правда зашкаливает. В рассказе «Поджигатель» (1939) юный Сарти Сноупс наблюдает, как его отец нанимается на плантацию к богатому майору де Спейну и вскоре пытается подпалить там сарай в знак протеста против хозяйской несправедливости. Майор пускается в погоню за отцом и старшим братом Сарти, и последнее, что мы слышим, – несколько пистолетных выстрелов, после которых мальчик рыдает в дорожной пыли. Поджог и выстрелы, конечно, вполне буквальные, и, прежде чем искать дальнейший смысл, надо принять их как факт. Но у Фолкнера за любым преступлением всегда стоят исторические силы. Классовая борьба, расизм, отголоски рабства (в какой-то момент Эйб, отец Сарти, горько подмечает, что негритянский пот, видимо, не сделал особняк де Спейна достаточно белоснежным и теперь понадобился пот белого работника, то есть самого Эйба); бессильный гнев из-за поражения в Гражданской войне – вот что стоит за вспышкой насилия в «Поджигателе». В романе «Сойди, Моисей» (1942) Айк Маккаслин изучает семейные архивы и выясняет: его дед-плантатор в молодости прижил дочь с одной из рабынь, Евникой, а затем, не дрогнув перед кровосмешением или же просто не считая рабов людьми и не рассматривая такую связь как инцест, взял в наложницы ту самую дочь, Томасину. Узнав, что Томасина беременна, ее мать наложила на себя руки. Самоубийство – конкретный факт и личный выбор Евники, но кроме того – символ ужасов рабства и полной безысходности человека, у которого отняли малейшую власть над судьбой. Рабыня ничего не может поделать с тем, как распорядились телом ее дочери, у нее даже нет иного способа выразить горе и ярость, кроме самоубийства. Рабство не оставляет своим жертвам никакой возможности выбора. Они не решают, как им жить; могут только принять решение умереть, что и делает Евника. Но даже после этого старый Карозерс Маккаслин всего-навсего удивляется, что негритянка утопилась: он явно не ждал от рабыни столь «утонченного» поступка. Конечно, это самоубийство не случайно происходит в романе с названием, взятым из негритянского церковного гимна. Моисей должен «сойти на землю Египетскую» и «освободить народ Божий». Если же этого не произойдет, плененному народу нужно самому разорвать свои цепи. Насилие в прозе Фолкнера часто объединяет историческую правду с античным или библейским мифом. Роман, в котором непокорный сын отрекается от семьи и губит себя, получает название «Авессалом, Авессалом!». Джо Кристмас, персонаж романа «Свет в августе» (1932), подвергается оскоплению; в его деяниях да и в характере увечья трудно усмотреть прямую параллель с жизнью и смертью Христа, но в судьбе героя все же большую роль играет возможность искупления. Конечно, ирония многое меняет, но это уже другая тема.
До сих пор мы с вами говорили о насилии человека над человеком, то есть персонажа над персонажем. А как же писательское насилие, когда автор попросту избавляется от героя? Что ж, оно бывает разным. Конечно, в нашей жизни происходят несчастные случаи, люди болеют и умирают. Но в литературе случайностей нет. Любое происшествие – неожиданность только для персонажей. А за пределами текста это все тщательно задумано, спланировано и кем-то исполнено. И мы прекрасно знаем кем. Навскидку могу вспомнить два романа 1980-х, где персонажи гибнут в авиакатастрофе: «Сердца и судьбы» Фэй Уэлдон и «Сатанинские стихи» Салмана Рушди. У обоих авторов есть свой резон устроить натуральную бойню и при этом оставить пару героев в живых. Мы можем быть уверены: плавный спуск на землю, выпадающий на долю персонажей, что-то означает. И не просто что-то, а очень даже многое. Маленькая девочка из романа Уэлдон – ангел в грязном мире взрослых, она как будто слетает с небес на грешную землю. Для героев Рушди путь вниз – переход не от невинности к опыту, а от уже порочной жизни к существованию в облике демонов. То же самое с болезнями. Чуть позже мы обсудим, что означает разрыв сердца, чахотка или СПИД у литературного героя. Вопрос всегда один: о чем говорят нам эти несчастья?
Трудно обобщать, когда речь идет о смысловой нагрузке насилия. Можно лишь сказать, что смыслов у него бывает много и спектр возможностей здесь гораздо шире, чем у погодных явлений. Писатель редко показывает жестокость ради самой жестокости, поэтому у нас возникают вопросы. Например: какие темы поднимает этот вид насилия? Какой исторический персонаж или мифический герой умер подобной смертью? Почему именно такой способ убийства? Подоплека может оказаться психологической, духовной, исторической, политической, социальной. Ответы редко лежат на поверхности, но их всегда можно и нужно найти, главное – постараться. Насилия и жестокости в литературе хватает. Невозможно представить себе «бескровного» Шекспира, Гомера, Овидия, Марло (хоть Кристофера, хоть Филипа), равно как Мильтона, Лоуренса, Твена, Диккенса, Фроста, Толкина, Фицджеральда, Хемингуэя, Беллоу и многих, многих других. Джейн Остин, пожалуй, ничего бы не потеряла от полного запрета на насилие – но нельзя же читать только ее. Остается одно: принять насилие в литературе как факт и хорошенько поразмыслить, что оно означает.
12
Это символ?
А что же еще?
Постоянно слышу этот вопрос от студентов и постоянно отвечаю на него вопросом: «Это символ?» – «Конечно. Почему бы и нет?» И пошло-поехало: «Символ чего? Что он означает?» Когда спрашивают про смысл, я обычно выкручиваюсь. Например, адресую вопрос обратно: «А вы как думаете?» Студенты думают, что я либо умничаю, либо избегаю ответственности. Но я абсолютно серьезен. Как вы думаете? Ведь символ означает ровно то, что вы в нем видите. По крайней мере, лично для вас.
Вот в чем загвоздка: люди всегда думают, что символ обязан значить. Причем не что-то вообще, а нечто абсолютно конкретное. Четкое. Абсолютное. Только знаете что? Такого не бывает. Безусловно, есть вполне однозначные символы. Например, белый флаг означает «Не стреляйте, я сдаюсь». Или «Мы идем с миром». Заметили? Вроде бы все предельно ясно, однако и здесь возможны две трактовки, хотя и очень близкие. Да, у некоторых символов относительно узкий спектр значений, но вообще символ крайне редко сводится к одному-единственному смыслу.
А если все же он один? Тогда перед нами не символ, а аллегория. Она устроена так: X всегда обозначает Y. Давным-давно, в 1678 году, Джон Беньян написал аллегорию «Путешествие пилигрима». Ее главный герой Христианин хочет попасть в Небесную страну, но порой сбивается с пути и забредает то в Топь уныния, то в Долину смертной тени, то на Ярмарку тщеславия. Прочих героев зовут, например, Евангелист, Верный, Великан Отчаяние. Имена указывают на свойства персонажей, а последнее – еще и на размер. У аллегории есть лишь одно предназначение: передать некую идею; в данном случае – стремление доброго христианина попасть в рай. Если возникает двусмысленность или неясность при соотнесении явленной нам картины с тем, что она изображает, значит, аллегория не удалась, вышла чересчур туманной. Роман Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (1945) пользуется читательской любовью в том числе и потому, что его несложно истолковать. Оруэллу нужно было донести предельно конкретную мысль: всякая революция обречена на провал, потому что власть развращает. Тот, кто приходит к власти, неизбежно предает идеалы, за которые боролся, и принципы, которые исповедовал в начале пути.
Символы редко бывают столь прозрачны. Их содержание трудно свести к чему-то одному: слишком широк спектр идей и образов, слишком много трактовок они допускают.
Вот, например, пещера. Ключевым событием замечательного романа Э. М. Форстера «Поездка в Индию» (1924) является попытка изнасилования, якобы совершенная в пещерах. С самого начала книги Марабарские пещеры, кажется, маячат на горизонте: все про них говорят, до них будто рукой подать – вон они, загадочные, явно чем-то важные, но пока непонятно, чем именно. Наша прогрессивная, независимая героиня Адела Квестед хочет их увидеть, и доктор Азиз, медик-индиец, организует ей экскурсию. Пещеры оказываются не совсем такими, как в рекламном буклете: затерянные в глухой пустоши, неуютные, зловещие. Миссис Мур – будущая свекровь Аделы – переживает весьма неприятный момент в первой же пещере. Ей вдруг чудится, что прочие туристы окружили ее слишком плотным кольцом, что от них исходит угроза. Адела замечает, что все звуки в пещерах странно искажаются: голоса, шаги, чирканье спички слышатся одинаково – гулко и коротко. Миссис Мур по понятным причинам уходит почти сразу, но Адела решается исследовать каменный лабиринт самостоятельно. В одной из пещер она вдруг пугается, у нее возникает тревожное предчувствие. Когда мы видим ее в следующий раз, она опрометью бежит прочь, скользя и оступаясь на склоне горы, и буквально падает в объятия тех самых расистов-англичан, которых так горячо осуждала прежде. Вся в синяках и ссадинах, исцарапанная колючками, перепуганная девушка твердо убеждена: в пещере на нее напали и несостоявшийся насильник, видимо, доктор Азиз.
Как вы думаете, пещера – символ? Ну еще бы!
А что она символизирует?
Вот это уже интересный вопрос. Нам хочется, чтобы она что-то означала, правда? Более того, хорошо бы она означала что-то определенное, такое, что мы могли бы уяснить себе раз и навсегда. Это было бы просто, удобно, доходчиво. Но тогда сильно проиграл бы сам роман, лишившись сложного переплетения знаков и смыслов, которые порождают бесчисленное множество трактовок. Конечно, тайна пещеры не может лежать на поверхности. Она поджидает в глубине, и нам надо самим пойти к ней навстречу. Чтобы понять возможное значение символа, нужно подступиться к нему с целым набором инструментов. Здесь понадобятся и умение задать нужный вопрос, и жизненный опыт, и все ранее полученные знания. Что еще сказано о пещерах у Форстера? Что мы знаем о пещерах в принципе? Что можно сказать вот об этой конкретной пещере? Давайте думать.
Пещеры как таковые. Наше прошлое. Наши далекие предки – по крайней мере те, кому не повезло с климатом, – жили в пещерах. Кто-то оставил нам в наследство искусные наскальные рисунки, а кто-то – груды костей, обугленных на костре. Да, огонь – великое открытие человечества. Но главный вывод (хотя и не бесспорный) – образ пещеры у нас связан с первобытным, животным началом в человеке. С другой стороны, можно вспомнить и Платона. В разделе «Символ пещеры» его диалога «Государство» (IV в. до н. э.) пещера становится метафорой человеческого сознания и восприятия. Все эти отголоски прошлого могут помочь с трактовкой нашего символа. Древняя память об уютном, безопасном мирке, который можно обустроить в пещере, здесь, пожалуй, не подойдет. А вот нечто в платоновском духе может пригодиться. Например, Адела неожиданно заглядывает в потаенные глубины собственного сознания и пугается того, что видит.
Теперь про Марабарские пещеры у Форстера. Местные жители ничего толком не могут рассказать про них. Доктор Азиз, большой энтузиаст, в конце концов сознается, что никогда там не был. Профессор Годболи был, но сказать может только, на что они не похожи. На любой вопрос – живописны ли они? интересны ли с исторической точки зрения? – он отвечает туманным «нет». Европейским гостям, да и Азизу, эти сведения практически не помогают. Вероятно, Годболи имеет в виду, что пещеры нужно увидеть собственными глазами и что каждый найдет в них что-то свое. Это подтверждает болезненный опыт миссис Мур. С самого начала событий ей не нравится компания, в которой она оказалась, неприятны спутники, их воззрения, разговоры, необходимость терпеть их рядом. В бескрайней Индии эта женщина чувствует себя будто в тесной клетушке; она проделала очень дальний путь, но не смогла убежать от жизни, Англии, людей, смерти. Когда миссис Мур входит в пещеру, ее охватывает боязнь толпы; в темноте и толчее прикосновения кажутся враждебными. Что-то невидимое и неприятное, но явно живое – рука ребенка? лапка летучей мыши? – чуть ли не лезет ей в рот. У нее начинает колотиться сердце и перехватывает дыхание, так что она при первой возможности бежит из пещеры и долго не может успокоиться. Похоже, в этом случае посетительнице предъявлены ее собственные болевые точки и фобии: толпа, неуправляемые чувства, дети и все, что связано с их появлением на свет. А может быть, ей угрожает сама Индия – ведь в пещере кроме них с Аделой только индийцы. Миссис Мур честно старается быть «ближе к местным», вникать в индийскую жизнь и обычаи глубже, чем большинство британцев, однако стать своей у нее не получается. Возможно, в подземной тьме ее придавила тщетность собственных попыток «быть индианкой».
С другой стороны, вообще не факт, что ее подкараулило Нечто. Возможно, вдруг она встретила абсолютное Ничто – причем задолго до того, как Жан-Поль Сартр, Альбер Камю и экзистенциалисты 50-х и 60-х поделили мир на Бытие и Ничто. Может ли быть, что миссис Мур заглянула в лицо… нет, не совсем смерти, но – Пустоте? Не исключено.
А что же означает пещера для Аделы? Ощущения ее столь же остры, как у миссис Мур, только окрашены по-другому. Она девственница, причем засиделась в невестах; ее отправили на край света, чтобы выдать за нелюбимого. При мысли о супружеских отношениях ее одолевает вполне понятная и естественная тревога. Не зря по дороге к пещерам она беседует с доктором Азизом о его семейной жизни, задавая довольно неудобные, даже нескромные вопросы. Возможно, этот разговор и навеял ей галлюцинации (если они были), а может, спровоцировал Азиза или кого-то еще (например, проводника) на непристойные посягательства (если они были).
Пережитый ужас еще долго терзает Аделу; она говорит, что в ее душе будто бы отдается странное глухое эхо из пещеры. Когда Азиза судят, она неожиданно отказывается свидетельствовать против него. Наконец скандал затихает, Адела уезжает подальше и от индийцев, которые ненавидели ее еще до суда, и от англичан, которые возненавидели ее после, и только тогда замечает, что жуткое эхо смолкло. На какие мысли это наводит? Вероятно, в пещере ей открылась иллюзорность собственного бытия (тоже очень в духе экзистенциалистов). Проще говоря, Адела вынуждена признать, что ее жизнь – сплошная ложь: сама от себя она скрывала истинные причины, по которым решилась поехать в Индию и выйти замуж за Ронни. А это был просто страх ответственности за собственную судьбу, за будущее. Или же в пещере случился момент истины в более традиционном, философском понимании этого выражения: Адела оказалась лицом к лицу со своими тайными страхами. Доктору Азизу пещеры тоже немало поведали о вероломстве англичан, его собственной, весьма опрометчивой угодливости, необходимости отвечать за свои поступки. Вполне возможно, что Адела запаниковала перед лицом Пустоты, но пришла в себя, когда приняла самостоятельное решение и отказалась свидетельствовать против невиновного. Может быть, дело всего лишь в ее комплексах, сомнениях, эмоциональной незрелости. А может быть, здесь есть и расовая подоплека.
Единственное, что можно с уверенностью сказать о пещере как символе, – она хранит свои секреты. Нет-нет, я не умываю руки. Символика пещеры во многом зависит от каждого отдельного читателя. Любое прочтение уникально, потому что все по-разному расставляют акценты и приоритеты, обращают внимание на разные детали, выделяют для себя разные моменты. Новую книгу мы начинаем читать, уже имея определенный «багаж»; конечно же у нас есть читательский опыт, но есть и чисто житейский. Возраст, пол, образование, социальный статус, вероисповедание, профессия, философские и политические взгляды – все это и многое другое влияет на восприятие текста. А при осмыслении символов индивидуальность проявляется больше всего.
Еще сложнее становится, когда понимаешь, что разные авторы тоже могут по-своему интерпретировать один и тот же символ. Вот, например, река – точнее, три реки. Миссисипи у Марка Твена; Ист-Ривер – Миссисипи у Харта Крейна; Темза у Т. С. Элиота. Все три автора – американцы со Среднего Запада (двое даже родом с берегов Миссури). Как вы думаете, все три реки символизируют одно и то же? В «Приключениях Гекльберри Финна» (1885) Твен отправляет Гека вместе с беглым рабом Джимом на плоту вниз по Миссисипи. Река в романе олицетворяет все понемногу. Сначала она разливается и несет смерть, губя домашний скот и людей; жертвой половодья становится и папаша Гека. По ней Джим бежит из рабства, но побег выходит странным: его заносит в самое сердце рабовладельческого Юга. Река – и опасность, и спасение, ведь Гек и Джим на плоту укрыты от посторонних глаз, но сам плот хрупкий, а течение сильное и непредсказуемое. Однако их плот – это еще и затерянный мирок, в котором белый мальчик Гек узнает черного невольника Джима как человека, личность. Понятно, что река здесь – это дорога, а плавание – рыцарское странствие Гека, его путь к зрелости и мудрости. В конце путешествия он уже знает себя достаточно хорошо, чтобы не возвращаться в город детства под женскую опеку, а идти дальше, открывая для себя новые горизонты.
Теперь возьмем Харта Крейна и его стихотворный цикл «Мост» (1930), на все лады обыгрывающий символику рек и мостов. Поэт начинает с Ист-Ривер и переброшенного через нее Бруклинского моста. Далее река разливается и постепенно переходит в Миссисипи, из которой Крейн делает собирательный образ всех американских рек. И вот тут начинается самое интересное. Мост соединяет две части суши, отрезанные друг от друга рекой; но рассекает надвое саму реку. Река же разделяет земли по горизонтали, но объединяет их по вертикали: ведь она позволяет проплыть от верховий к устью и наоборот. Миссисипи у Крейна становится символом из-за своей огромной протяженности: она роднит север и юг страны, но путь с востока на запад невозможен, если не найти способа пересечь Великую реку. То есть смысл получается совсем иной, чем у Твена. Вместе же река и мост символизируют полное единение.
Что мы находим у Элиота? Река Темза – один из ключевых образов его поэмы «Бесплодная земля», написанной сразу по завершении Первой мировой войны и после личной трагедии в жизни поэта. По реке плывут обломки умирающей цивилизации; вдоль берега бродит крыса; вода грязная, тинистая; знаменитый Лондонский мост обрушился, как в английской детской считалке. Темза лишилась величия и благообразия, Бог оставил эти места. Когда-то давным-давно в лодке посреди реки предавались любовным утехам королева Елизавета с графом Лестером; нынче в лодках развратничает чернь. Несомненно, река у Элиота – символ; столь же очевидно, что смысл этого символа связан с распадом западной цивилизации и пороками эпохи. Ничего подобного не подразумевалось у Твена или Крейна. При этом текст Элиота пропитан иронией, и позже мы увидим, до какой степени она все меняет.
Наверное, вы заметили, как уверенно и даже категорично я рассуждаю о смысле всех этих пещер и рек. Что ж, я действительно неплохо представляю (по крайней мере, для себя), что они могут обозначать. Эта уверенность проистекает из немалого читательского опыта. Например, я склоняюсь к такому прочтению «Бесплодной земли», которое неотделимо от исторического контекста: недавней войны и ее последствий. Если хотите, назовем мой метод «историзмом». А кто-то решит сосредоточиться на форме стиха или автобиографичности и услышит в поэме отголоски семейной драмы, постигшей Элиота. И такие, и другие подходы не просто оправданны, но бывают весьма плодотворны; благодаря им я многое понял не только в поэме Элиота, но и в «слепых местах» моей интерпретации. Одна из главных радостей литературоведа – встречать не просто разные, а даже противоположные мнения, ведь по-настоящему великое произведение допускает целый спектр истолкований. Иными словами, ни в коем случае не нужно принимать мою интерпретацию как правильную или единственно возможную.
Вот еще проблема: многие читатели полагают, что символ – это предмет или образ, а не поступок или событие. Но и действие часто выступает символом. Роберт Фрост, например, большой любитель символических поступков, хотя игра смыслов у него настолько тонкая, что читатель-буквалист может совершенно упустить из виду метафорический уровень текстов. Например, в стихотворении «Покос» (1913) выкашивание сена вручную (чего ни вам, ни мне, к счастью, делать не доводилось) – работа вполне определенная: косарь срезает траву, вычищает поле взмах за взмахом. Но мы замечаем, что у нее есть и другой, небуквальный, смысл: она может обозначать тяжелую работу вообще, или символизировать изнурительный, одинокий труд проживания собственной жизни, или что-то еще. Рассказчик в стихотворении «После сбора яблок» (1914) тоже описывает не просто время года, но и определенную пору нашей жизни. Телесная память о сборе урожая: шаткая лестница; ступенька, намозолившая ноги; яблоки, которые до сих пор маячат перед глазами, – все намекает на усталость души, груз прожитых лет. Буквалист может прочесть этот текст как живописную зарисовку, впечатление от прекрасного осеннего дня. Да, пейзаж там очень хорош, спору нет, но есть и нечто большее. Момент выбора на распутье из стихотворения «Неизбранная дорога»[50] (1916), пожалуй, проще опознать как символ; не случайно это произведение декламируют на всех выпускных вечерах. Но у Фроста почти любое событие наделено скрытым смыслом, от жуткого несчастного случая в стихотворении «Out, out…» до мальчишеского лазанья по деревьям в «Березах» (1916).
Так что же нам делать? Нельзя ведь раз и навсегда установить: река означает Х, а сбор яблок – Y. Но можно сказать так: иногда вот это означает Х, а может значить Y или даже Z. Давайте посмотрим, что больше подходит в данном конкретном случае (и подходит ли что-то вообще). Если в других произведениях в качестве символа нам уже попадалась река или тяжелый труд, опыт может пригодиться. Попробуйте мысленно разбить текст на удобные кусочки, выделить в нем значимые элементы. Дайте волю воображению, набросайте ассоциации – пускай даже на бумаге. Потом можно упорядочить идеи, сгруппировать, разобрать по рубрикам, отбросить лишнее, оставить подходящее по смыслу. Не бойтесь задавать вопросы к тексту: как автор обращается с этим образом, с этим предметом; зачем здесь это действие; какие возможности дает такой сюжетный ход; о чем нам все это говорит, а самое главное, как воздействует на нас? Безусловно, чтение – высокоинтеллектуальное занятие, но в нем участвуют и эмоции, и даже инстинкты. Мы не просто думаем о литературе, мы ее чувствуем. Это, однако, не значит, что если у нас есть инстинкт, то он сам собой заработает в полную силу. Собаки, например, от природы наделены умением плавать; но, когда щенок впервые прыгает в воду, он далеко не всегда представляет себе, что именно и как надо делать. С чтением все почти так же: чем больше тренируешь символическое мышление, тем лучше и быстрее оно работает. Мы склонны приписывать все заслуги сочинителю, но ведь понимание тоже творческий процесс: наше воображение, вдохновение встречаются с авторскими, и мы начинаем разгадывать смыслы, пропускаем их через себя, выбираем ценные и важные именно для нас. Однако не нужно путать воображение с разгулом фантазии: без автора мы не можем взять и выдумать смысл. По крайней мере, помните: автор не несет ответственности за то, что мы произвольно «вычитываем» в тексте. Читательское воображение должно быть всего лишь местом встречи одного творческого начала с другим.
Пробудите в себе это творческое начало. Слушайте голос инстинктов. Прочувствуйте собственный отклик на текст. Наверняка ведь он что-то означает.
13
Сплошная политика!
Сегодня «Рождественская песнь в прозе» воспринимается как добрая сказка с простой и очевидной моралью. Однако Диккенс в 1843 году критиковал вполне определенные политические взгляды, а историю про скупердяя, чью душу спасают гости из иного мира, использовал в качестве ширмы. В те времена была популярна теория, унаследованная еще от пуритан семнадцатого века и сильно обновленная Томасом Мальтусом. Она сводилась к тому, что благотворительность вредна: помогать бедным или увеличивать производство продуктов питания и кормить иждивенцев означает плодить нищету. Бедняки не пойдут работать, а станут рожать как можно больше детей, чтобы воспользоваться положенными им льготами. Обличая эти воззрения, Диккенс вкладывает в уста Скруджа жестокую сентенцию: мол, если беднота не хочет идти в работный дом или долговую тюрьму, а предпочитает дохнуть с голоду – пусть поторопится и спасет мир от перенаселения. Доходчиво, что там говорить!
Можно ничего не знать ни про какого Мальтуса; и все же, когда читаешь «Рождественскую песнь» или смотришь одну из бесчисленных ее экранизаций, всегда чувствуешь, что у сюжета есть какая-то другая подоплека. Будь мерзкий старикашка Скрудж просто злобным эгоистом, будь он единственным скрягой в Англии, которому надо преподать урок, – разве его история волновала бы нас так сильно? Притчи (а «Рождественская песнь» конечно же притча) редко повествуют о единичных случаях. Нет, для Диккенса Скрудж важен как типаж. В каждом из нас, да и в человеческом обществе в целом, есть нечто от Скруджа. Мы прекрасно понимаем, что цель этой притчи – изменить нас, а через нас – общественный уклад. Идеи, которые Скрудж выражает в начале повести, почти дословно взяты из трудов Мальтуса или его викторианских последователей. Диккенс критикует общество, но до того хитро и тонко, что можно и не заметить, как он бичует пороки общества. И все же надо быть слепым или специально развить у себя избирательное зрение, чтобы увидеть в повести лишь призрак Марли, трех духов да малютку Тима и совсем пропустить, как Диккенс отвергает одну концепцию гражданской ответственности и превозносит другую.
Вот что я думаю о политике в художественном тексте.
На дух не переношу «гражданственную» литературу – ни прозу, ни драму, ни лирику. У таких текстов малый срок годности и радиус действия; иными словами, они актуальны лишь в своем месте и в свое время. На самом деле они и там не слишком полезны, даже если написаны вполне искренне. Я имею в виду произведения «на злобу дня», привязанные к строго определенной политической ситуации, – например советскую литературу соцреализма (на редкость обманчивый термин). До тошноты положительный герой поднимает производство или налаживает жизнь в колхозе, чтобы выполнить пятилетний план. Прекрасный мексиканский прозаик Карлос Фуэнтес говорил про такие опусы: «Любовь девушки, парня и трактора». Пропаганда делает текст узким, плоским, блеклым, примитивным и тенденциозным.
Особенно сильно я не люблю «актуальную» литературу: когда в произведении отображена единственная идея, теория или партийная линия, когда оно к чему-то приурочено и совершенно непонятно вне контекста. Скажем, политическая платформа Эзры Паунда – смесь антисемитизма и авторитаризма, сближавшая его с Муссолини, – отвратительна любому мыслящему человеку. Она, как яд, пропитывает его поэзию и этим убивает ее. Но даже если отбросить моральную оценку, «политические» стихи Паунда откровенно плохи: тяжелы, натужны, одномерны. Когда читаешь разглагольствования про «Узуру» и вселенское зло в «Кантос», глаза стекленеют и мозг отключается. В наш век свободного кредитования проблемы ростовщичества в межвоенный период малоинтересны. То же самое можно сказать о «левом» театре 1930-х годов; в свое время эти пьесы были остры, актуальны и даже скандальны, но сегодня они хороши разве что как исторический источник.
Однако есть и другой вид «политической» литературы, и его я очень люблю. Бывают книги, отражающие реалии нашей с вами жизни, исследующие общечеловеческие проблемы, в том числе и в социально-политической сфере. Произведения, где говорится о правах человека и преступлениях власти, могут быть не только интересны, но и очень сильны. Достояние этой литературы – мрачный и грязный Лондон позднего Диккенса; прекрасные постмодернистские романы Гарсии Маркеса и Тони Моррисон, драмы Генрика Ибсена и Джорджа Бернарда Шоу, североирландский конфликт в поэзии Шеймаса Хини[51], переворот в поэтической традиции, совершенный феминистками Адриенной Рич и Одре Лорд[52].
Почти все художественные тексты так или иначе связаны с общественной жизнью. Романы Д. Г. Лоуренса, например, всегда имеют политический подтекст. Он бывает очень тонким, едва уловимым, но местами прямо-таки бросается в глаза; так, одна из героинь в романе «Влюбленные женщины» видит малиновку и заявляет, что эта птичка – «прямо Ллойд Джордж, только с крыльями». Уж не знаю, что общего у малиновки с тогдашним премьер-министром Британии, но Лоуренс его явно не одобрял, и героиня разделяет мнение автора. Впрочем, это не главное; основная политическая «соль» романа в том, что радикальный индивидуализм в нем противопоставлен общественному порядку. Герои Лоуренса отказываются вести себя «как принято», подчиняться условностям, оправдывать чьи-то ожидания – даже других таких же нонконформистов. В этом романе он довольно неприглядно изображает богемные круги: и художников Блумсбери, и компанию авангардистов, которую собирает вокруг себя леди Оттолина Моррел. Их бунтарство для Лоуренса всего лишь новый свод правил и условностей, которые надо знать и соблюдать, если хочешь «быть продвинутым», «быть в теме». Подлинный же герой – гордый одиночка, который идет своим путем, не боясь осуждения и не оглядываясь ни на друзей, ни на врагов. Этот предельный индивидуализм и есть кредо Лоуренса, Уолта Уитмена (которым Лоуренс восхищался) и Ральфа Уолдо Эмерсона. В сущности, роль и место личности – вопрос вполне политический; независимость, свободная воля и самоопределение всегда связаны с общественной жизнью, хотя бы и косвенно. Даже авторы вроде Томаса Пинчона (правда, трудно найти кого-то вроде Пинчона, кроме самого Пинчона), которые, с одной стороны, казалось бы, избегают политики, затрагивают очень важную политическую проблему: отношения частного субъекта и «всей Америки».
Или вот еще писатель, в чьих текстах сложно заподозрить гражданскую направленность: Эдгар Аллан По. В новеллах «Маска Красной смерти» (1842) и «Падение дома Ашеров» (1839) изображена жизнь класса, про который большинству из нас доводилось только читать: высшей аристократии. Сюжет первой новеллы таков: в разгар чумного поветрия князь зовет на пир друзей и вместе с ними запирается у себя во дворце, отгородившись от зараженных (и нищих) подданных. Однако чума проникает и туда; к утру все они мертвы. Герои второй новеллы – Родерик Ашер и его сестра Мэдилейн – последние отпрыски родовитого семейства. Они живут в полуразрушенном замке среди мрачных лесов и болот и сами буквально разваливаются на части. Сестра чахнет от неведомой болезни; брат выглядит много старше своих лет, немощен, страдает нервным расстройством. К тому же он ведет себя как безумец, и есть все основания заподозрить их с Мэдилейн в кровосмесительной близости. В обеих новеллах По обличает европейское классовое общество с его недостойными, нездоровыми правителями, с его тлетворной атмосферой, ведущей к распаду и гибели. Местность вокруг дома Ашеров не похожа на американские пейзажи, знакомые По. Название новеллы навевает ассоциации скорее с европейскими монархиями – династиями Бурбонов или Ганноверов, – а не с американской семьей. Родерик хоронит сестру заживо, скорее всего зная, что она не умерла, – или, по крайней мере, понимает это немного спустя. Зачем он так поступает? Когда Мэдилейн, выломав дверь, выбирается из склепа, она падает брату на грудь, и оба тут же умирают. Рассказчик тоже едва не гибнет: дом на его глазах проседает и рушится в «глубокие воды зловещего озера». Если все это не намек на нездоровые, запретные и явно непривычные американцам отношения между братом и сестрой, значит, кто-то из нас что-то недопонял.
Что же выходит: Эдгар Аллан По – пламенный патриот?!
Ладно, согласен – это, пожалуй, перебор. И все же в его новеллах (и не только в этих) легко прочитывается: Европа олицетворяет собой распад и тлен. Более того, По явно видит в этом неизбежную и даже вполне заслуженную расплату за порочный общественный уклад. А вот это, друзья мои, уже политика.
Еще пример? «Рип ван Винкль» хотя бы. Что-то смутно знакомое, да? Ну, давайте вспоминать.
Та-ак… Рип ван Винкль, лентяй и не самый лучший хозяин, идет на охоту. Вообще-то он просто ищет предлог сбежать от сварливой жены. Рип встречает каких-то странных парней, которые играют в кости; он выпивает в их компании и засыпает. Проснувшись, обнаруживает, что его собака исчезла, а ружье проржавело и почти рассыпалось. Теперь у него седые волосы и борода до земли, а руки и ноги почти не гнутся. Рип бредет обратно в свой городок и выясняет: он проспал целых двадцать лет. За это время его жена умерла, а вокруг все изменилось, вплоть до вывески на трактире. Вот и вся история.
В общем, да. Вроде бы ничего откровенно политического, верно? Но давайте поразмыслим над двумя вопросами.
Что означает смерть супруги Рипа?
Как она связана с переменой портрета на вывеске?
За те двадцать лет, что Рип спал в пещере, Америка стала независимой страной. Поэтому портрет английского короля Георга переделали в портрет Джорджа Вашингтона (оставили прежнее лицо, подправив кое-какие детали). Над дверью теперь висит другой флаг, а тиран (дражайшая супруга) покоится с миром. Рип едва не нарывается на неприятности, заявив, что он – подданный старины Георга; но, когда ему объясняют ситуацию, он осознает, что свободен, и ликует.
Значит, жить стало лучше?
Не совсем. Ирвинг пишет «Рипа ван Винкля» в 1819 году и прекрасно понимает, что у независимости есть свои издержки. Родной городок Рипа как будто поизносился: трактир не мешало бы подновить и подкрасить, люди одеваются беднее, чем до войны. Но теперь в них бурлит энергия: они чувствуют себя хозяевами собственной жизни и никто им больше не указ. Они смело говорят что думают и делают что хотят. Тирания и абсолютная власть низвергнуты. Иными словами, эта пестрая, слегка потрепанная компания начинает осознавать себя американцами, свободными людьми. Не все изменилось в лучшую сторону, зато появилось самое важное – свобода, чувство собственного достоинства.
Почему я так уверен, что Ирвинг подразумевает все это? Да, он маскируется: притворяется наивным деревенским простачком, который рассказывает незатейливые истории, – но это именно маска. Вашингтон Ирвинг был всесторонне образованным человеком, изучал право и выступал в суде, служил по дипломатической части в Испании, писал не только беллетристику, но и трактаты по истории, много путешествовал. Мог ли он не понимать, о чем пишет? Его вымышленный повествователь Дитрих Никербокер – простодушный малый, который «травит байки» о своих голландских предках, и только. Но сам Ирвинг прекрасно знал, что делает. В повести о Рипе ван Винкле и в «Легенде о Сонной лощине» (1819) он – ни много ни мало – пытался создать особый американский дух и характер, которого ранее не было в литературе. Подобно Эдгару По, он отмежевался от европейской литературной традиции и в пику ей писал сугубо «американские» тексты, воспевая свободу от бывшей метрополии.
Получается, вся литература – про политику?
Я не спешил бы так обобщать. Некоторые мои политически активные коллеги сказали бы: да, любой текст либо отражает пороки общества, либо пытается их побороть (они бы это сформулировали гораздо тоньше, но суть примерно такова). Сам я думаю, что литературное произведение так или иначе затрагивает реалии своего времени – в том числе связанные с политикой. Писатели – живые люди, которым интересно, что происходит в мире. А в нем происходит много всякого. В общественной жизни, например, не обойтись без политических реалий: властных структур, классовых противоречий, борьбы за права и свободы, отношений полов, положения расовых и этнических сообществ. Вот почему социальные проблемы часто просачиваются на страницы художественных книг, даже если у автора получается нечто весьма далекое от политики.
Еще пример. На склоне лет Софокл наконец дописал среднюю часть своей фиванской трилогии – «Эдип в Колоне» (406 г. до н. э.). В этой трагедии старый, немощный Эдип приходит в город Колон и принимает покровительство царя Тезея. Тезей изображен идеальным правителем: сильный, мудрый, заботливый, но при необходимости строгий, решительный, хладнокровный, отзывчивый, преданный и честный. Он оберегает Эдипа от возможных опасностей и приводит в святилище, где старцу предначертано умереть. Есть ли здесь политический подтекст? Думаю, да. Софокл писал эту трагедию не только в конце собственной жизни, но еще и в конце пятого века до нашей эры, то есть на закате славы Афин. Снаружи полис были готовы атаковать спартанцы; изнутри его разрушали правители, явно уступавшие Тезею в мудрости и прочих достоинствах. В сущности, Софокл говорил: вот бы нам сейчас кого-то вроде Тезея! Может, настоящий вождь спас бы Афины от полной разрухи, отвел от края пропасти. Тогда чужаки (войско Креона в пьесе, спартанцы в реальной жизни) не пытались бы нас захватить. Тогда мы снова стали бы сильными, мудрыми, справедливыми. Конечно, прямым текстом он ничего подобного не писал: был уже стар, но еще не в маразме. Скажешь такое вслух – чего доброго, угостят цикутой. Но ему и не надо было говорить открыто: любой, кто видел «Эдипа в Колоне», сам делал выводы. Смотрим на Тезея; теперь на любого из наших правителей; снова на Тезея. М-да (или как там по-древнегречески)… Вот вам и политика.
Все это не лишено пользы. Зная кое-что про общественно-политическую среду, в которой жил и творил писатель, можно лучше понять его произведения. Не потому, что бытие определяет сознание, но потому, что именно этот мир он осмысляет, когда пишет. Если Вирджиния Вулф рисует портреты своих современниц и дает понять, что в ее время женщина могла действовать лишь в строго отведенных рамках, близоруко не замечать в этом социальной критики. Скажем, в романе «Миссис Дэллоуэй» (1925) леди Брутон приглашает к обеду члена парламента Ричарда Дэллоуэя и высокопоставленного юриста Хью Уитбреда. Ее цель – подсказать мужчинам несколько идей, которые неплохо бы внести в новый законопроект и опубликовать в газете Times. При этом леди Брутон без конца повторяет, что она «всего лишь женщина» и ничего не понимает «в сложных мужских делах». Вулф показывает нам, как умная и талантливая (хотя и не слишком щепетильная) героиня ловко вертит недалеким Ричардом и туповатым Хью. И ей удается-таки вынести в публичное пространство инициативу, которую никто не воспринял бы всерьез, предложи ее сама леди Брутон. После Первой мировой, напоминает Вулф, ценность любой идеи еще определялась полом и социальным статусом того, кто ее озвучил. В романе все это показано так тонко, что мы можем и не заметить политической подоплеки. Но она там есть.
И нигде – ну, или почти нигде – без нее не обойдешься.
14
Каждому свой крест
Возможно, вы удивитесь, но Америка тоже христианская страна в том смысле, что сильнее всего на ее культуру повлияли переселенцы из Европы. Если вспомнить, как рьяно они насаждали свои ценности (считая, что обязаны просветить «дикое туземное население»), стоит ли удивляться, что ценности привились на новой почве? Нет, это не значит, что все граждане нашей великой Республики – христиане; мы ведь даже не все республиканцы. Одна женщина-иудейка, весьма известный преподаватель литературы, рассказывала, как пришла сдавать экзамены на первом курсе и ей достался вопрос: «Христианские мотивы в рассказе “Билли Бадд”». Тогда, в 1950-х годах, ее профессорам и в голову не приходило, что для некоторых студентов христианские мотивы – темный лес.
В наши дни преподаватель, конечно, не может по умолчанию предполагать, что все его ученики – христиане. Это обязательно выйдет ему боком. И все же, вне зависимости от вероисповедания читателя, европейская и американская литература требуют хотя бы краткого знакомства с Ветхим и Новым Заветом. Точно так же, если вы захотите прочесть книги, порожденные исламской, буддийской или индуистской культурой, не обойтись без информации об этих конфессиях. Мощная религиозная традиция всегда влияет на культуру; даже если сам писатель – человек неверующий, основные ценности и убеждения поневоле просачиваются в его тексты. Они не всегда относятся к области духа, а могут определять, например, место личности в социуме, или отношение человека к природе, или роль женщины в общественной жизни. Впрочем, как мы видели, сакральное в литературе часто проявляется в виде аллюзий, параллелей, аллегорий. Читая индийских авторов, я всегда смутно чувствую, как много упускаю из-за того, что мало знаком с религиозными течениями Индостана. Конечно, я мечтаю лучше понимать эти тексты и по мере сил расширяю эрудицию, но мне еще работать и работать.
Итак, в Америке не все христиане; и даже те, кто себя таковыми считает, совсем не обязательно знатоки Нового Завета. Но уж как минимум они в курсе, почему христианство называется христианством. Не бог весть какая загадка, но вообще это важно. И даже очень. Нортроп Фрай[53], один из величайших американских литературоведов, еще в 1950-х говорил, что библеистика – сравнительное изучение персонажей Ветхого и Нового Завета и навеянных ими художественных образов – мертвая дисциплина. С тех пор лучше не стало: среднестатистический читатель по-прежнему слабовато ориентируется в библейских мотивах и типажах. Но о Христе мы все более-менее знаем.
На всякий случай напомню в общих чертах. Итак, Иисус Христос:
– был распят, имел раны на кистях рук и ступнях ног, в правом боку и на голове;
– испытывал страшные муки;
– принес себя в жертву;
– легко находил общий язык с детьми;
– ловко управлялся с хлебом, рыбой, водой и вином;
– погиб, или ушел из этого мира, в возрасте тридцати трех лет;
– работал плотником;
– использовал весьма скромные средства передвижения, чаще всего ослика или собственные ноги;
– вроде бы умел ходить по воде;
– часто изображается с распростертыми руками;
– провел какое-то время один в пустыне;
– по слухам, боролся с дьяволом; возможно, подвергался искушению;
– в последний раз был замечен в компании воров;
– изъяснялся притчами и афоризмами;
– был погребен, но воскрес на третий день;
– поначалу имел двенадцать учеников, но не все оказались ему одинаково преданы;