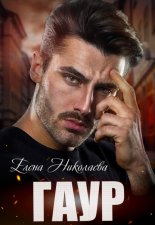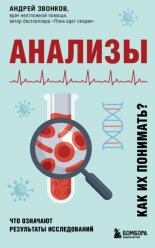Как читать художественную литературу как профессор. Проницательное руководство по чтению между строк Фостер Томас

Бинг Дейв
Битти Энн
Бичер-Стоу Гарриет
Бишоп Элизабет
Блум Харольд
Богарт Хамфри
Бойл Том Корагессан
Боланд Эван
Болдуин Джеймс
Боулз Пол
Браун Маргарет
Брейгель Питер
Бронте Шарлотта, Эмили и Энн
Брукнер Анита
Брэдбери Рэй
Брэдстрит Энн
Булвер-Литтон Эдуард
Вагнер Рихард
Верлен Поль
Визенор Джеральд
Воннегут Курт
Вордсворт Уильям
Вулф Вирджиния
Вулф Томас
Гайдн Франц Йозеф
Гамильтон Джейн
Гарднер Джон
Гарнер Джеймс
Гарсия Маркес Габриель
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
Гераклит
Гест Джудит
Гёте Иоганн Вольфганг фон
Гинзберг Аллен
Гоголь Николай Васильевич
Гомер
Готорн Натаниэль
Грант Кэри
Гревилль Фулк
Гримм Якоб и Вильгельм
Грин Генри
Грэм Кеннетт
Гэлбрейт Роберт
Гэсс Уильям
Гюго Виктор
Данте Алигьери
Даррелл Лоуренс
Декстер Колин
Джеймс Генри
Джексон Сэмюэл Л.
Джефферс Робинсон
Джойс Джеймс
Джонсон Роберт
Диккенс Чарльз
Дин Джеймс
Дисней Уолт
Донн Джон
Драйден Джон
Зонтаг Сьюзен
Ибсен Генрик
Ионеско Эжен
Ирвинг Вашингтон
Иствуд Клинт
Йейтс Уильям Батлер
Камю Альбер
Каннингем Майкл
Карвер Раймонд
Картер Анджела
Касден Лоуренс
Кафка Франц
Керуак Джек
Кинг Стивен
Кингсолвер Барбара
Китс Джон
Клиз Джон
Клинч Джон
Колтрейн Джон
Конрад Джозеф
Коэн Джоэл и Итан
Крейн Харт
Кристи Агата
Круз Том
Кувер Роберт
Куин Анн
Купер Гэри
Купер Джеймс Фенимор
Кэрролл Льюис
Ландау Мартин
Лессинг Дорис
Ле Фаню Джозеф Шеридан
Ли Бо
Лин Дэвид
Ли Харпер
Лодж Дэвид
Лой Мина
Лорд Одре
Лоуренс Д. Г.
Лоуренс Фрида
Льюис К. С.
Мазурски Пол
Майер Стефани
Майлз Дэвис
Маккэнн Колум
Макнис Луис
Мальтус Томас
Манн Томас
Марвелл Эндрю
Маркс Карл
Марло Кристофер
Марло Филип
Марри Джон Миддлтон
Мелвилл Герман
Мёрдок Айрис
Миллер Генри
Мильтон Джон
Минео Сэл
Моррисон Тони
Моцарт Вольфганг Амадей
Мэлори Томас
Мэнсфилд Кэтрин
Набоков Владимир Владимирович
Нельсон Уилли
Нин Анаис
О’Брайен Тим
О’Брайен Эдна
Овидий
Оден Уистен Хью
О’Коннор Фланнери
Олби Эдвард
Оруэлл Джордж
Остин Джейн
Оутс Джойс Кэрол
Паркс Тим
Пастер Луи
Паунд Эзра
Пети Филипп
Пиль Джордж
Пинчон Томас
Платон
Плат Сильвия
По Эдгар Аллан
Покахонтас
Портер Коул
Пропп Владимир Яковлевич
Пуччини Джакомо
Райс Энн
Рассел Кен
Рассел Леон
Рейган Рональд
Рейнс Клод
Рётке Теодор
Рид Ишмаэль
Риордан Рик
Рич Адриенна
Ричардсон Дороти
Роббинс Том
Россетти Данте Габриел
Роулинг Дж. К.
Рушди Салман
Сакагавея
Сапфо
Сартр Жан-Поль
Свифт Джонатан
Святой Павел
Сигер Боб
Силверс Фил
Силко Лесли Мармон
Ситвелл Эдит
Смайли Джейн
Смит Стиви
Солк Джонас
Софокл
Спенсер Эдмунд
Спилберг Стивен
Стейнбек Джон
Стивенсон Роберт Льюис
Стивенс Уоллес
Стокер Брэм
Стоппард Том
Стюарт Род
Сэйнт Ева Мари
Тайлер Энн
Тарантино Квентин
Твен Марк
Тейлор Эдвард
Теннисон Альфред
Толкин Дж. Р.
Толстой Лев Николаевич
Томас Дилан
Торо Генри Дэвид
Торогуд Джордж
Траволта Джон
Тревор Уильям
Уайльд Оскар
Уайтлоу Билли
Уилкинс Ленни
Уилсон Огаст
Уильямс Уильям Карлос
Уильямс Хэнк
Уитмен Уолт