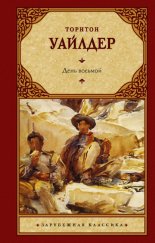С ключом на шее Шаинян Карина

Ольга морщит нос.
– Лучше вынеси, – говорит она.
Жека подозрительно оглядывает пустые качели, дорогу, дальний подъезд, у которого припаркована яично-желтая «Нива».
– Не могу, вдруг засекут.
Ольга переступает с ноги на ногу, чешет подъем стопы о лодыжку. С сомнением посматривает на Фильку и Яну.
– А им можно? – спрашивает она. Жека машет рукой. Яна вдруг понимает, что ей светит нечто пострашнее «пешеходов», и упирается:
– Я не пойду, у него родаки дома.
– Да не бойся, мама ничего не скажет, а бати нет, – отвечает Жека.
…Изредка Яна встречает Жекиного отца на улице, всегда в распахнутом тулупе и шапке-ушанке. Иногда он злобно разговаривает с кем-то невидимым. Прохожие стараются не обращать на него внимания и поспешно отводят взгляд от страшного, будто надутого изнутри лица, сплошь состоящего из лиловых бугров и рытвин. Говорят, это сделал медведь, когда Жекин отец по пьяни заснул на рыбалке. Он всегда носит черные шерстяные перчатки – даже летом, – потому что руки у него тоже изорваны. Яне хочется подслушать, что он говорит, но откуда-то понятно, что это неприлично, это само по себе сделает ее такой же, – и она отворачивается и ускоряет шаг. Почти убегает, изнывая от жгучего любопытства, от желания подсмотреть. От сладкого и противного привкуса страха во рту…
Заходя в подъезд, она ловит взгляд Фильки. Его уши пылают, физиономия вытянулась, как будто он с ума сходит от любопытства – и в то же время мучается от зубной боли. Яна понимает, что это – отражение ее собственного лица. Они гуськом поднимаются на первый этаж. Жека поворачивает ручку двери; та немного приоткрывается и застревает, перекошенная, уперевшись углом в пол. Изнутри накатывает запах прелых тряпок, сивухи и кипяченого молока. Филька широко – слишком широко – ухмыляется.
– Я здесь не пролезу, – громко говорит он. Ольга сердито толкает его локтем.
– Тсс, – шипит она и косится куда-то в потолок. – Если баба Нина услышит, она маме скажет. Она мне голову оторвет.
Жека яростно дергает дверь, и та наконец открывается.
Больше всего Яну поражает, что весь пол в квартире завален вещами, которые никогда не убирали, даже не подбирали. Им приходится идти по толстому слою одежды, тетрадей, пеленок и набитых чем-то неведомым авосек. Ноги утопают в толстом слое хлама. Это ужасающе, но в этом есть и неизъяснимая, болезненно притягательная лихость. Яна не сразу замечает Жекину маму – она сливается с окружающим ее тряпьем, сидя на почти невидимом под завалами диване с копошащимся свертком на руках. Яна застывает, и Жека подталкивает ее вперед. «Здрасьте», – шепчет за спиной Филька. Жекина мама поднимает глаза, смотрит сквозь него и отворачивается. Тычет бутылочкой в шевелящийся куль.
Жека ныряет в гору хлама в углу. Ольга складывает руки на груди. Яна озирается, стараясь не смотреть на женщину на диване. Она нагоняет ледяную жуть, ту самую, что прячется иногда за словами «вырастешь – поймешь». Яна думает, что, может, не так уж и хочет расти, если ей придется понять то, что кроется за этим мертвым взглядом.
Чтобы отвлечься, Яна рассматривает подоконник, погребенный под Жекиными учебниками и тетрадями. Зажатый между стопкой книг и приваленным к стеклу ранцем, там цветет декабрист в литровой банке, кое-как обернутой листом зеленой, в потеках бумаги. Ярко-красный цветок – единственное, что есть в этой квартире ладного, гладкого, свежего, и Яна цепляется за него глазами, как за соломинку.
Жека наконец выныривает из угла. На ладонях у него лежит нож. Он протягивает его Ольге, как рыцарь – меч. Нож – настоящий, взрослый, с гладкой ложбинкой на лезвии, чуть приподнятым, будто курносым кончиком и пористой рукояткой из оленьего рога. Похожий есть у Яниного папы: он берет его на охоту.
– Ух ты ж, – говорит Ольга и склоняется над ножом.
Яна заглядывает ей через плечо; Филька дышит в ухо. Жека расправляет плечи и поворачивает нож к окну, к свету. Прерывистые блики пробегают по лезвию, покрытому темными матовыми пятнами. Такие же пятна, только бледные, будто застиранные, видны на рукоятке. Филька перестает сопеть. Ольга с присвистом втягивает в себя воздух, замирает, вытянувшись и сжав кулаки.
– Нравится? – радуется Жека. Снова поворачивает нож, любуясь, вздыхает и протягивает Ольге. – Это тебе.
(Нож словно сам выпрыгивает ему в руку из вороха мятых, в мокрых пятнах газет, – тяжелый, ладный, настоящий. Жека тут же принимается ковырять им черенок лопаты. Лезвие входит в дерево, как в масло. Жека успевает вырезать букву «Ж», когда мусорщик говорит: «Подарил бы Ольге». Жека испуганно бросает лопату и пытается приладить нож за пояс. «Нафиг ей нож, она же девчонка», – бурчит он. «Ей бы понравился», – отвечает мусорщик, и Жека задумывается. От усилий его лоб собирается в складки. «Я ей рогатку вырежу», – наконец говорит он. «Подумаешь, рогатку, – усмехается мусорщик. – Рогатку она сама себе вырежет. А это – настоящий нож, охотничий. Вещь». Жека качает головой и все пытается пристроить нож понезаметнее, но мысль о том, что сказала бы Ольга, уже засела в его голове.)
– На, – Жека тычет нож рукояткой вперед, как учил батя, но Ольга так и стоит с выпрямленными, вытянутыми вниз руками и даже не разжимает кулаки. – Ты чего?
Ольга закрывает глаза и медленно качает головой, напряженная, как струна. Жека цыкает зубом.
– Ну, не хочешь – не надо, самому пригодится, – подрагивая губой, он стягивает с подоконника ранец. – В школе покажу.
– Подожди, – вмешивается Яна и забирает у него нож. Почти насильно впихивает в руку Ольге. Та вздрагивает, будто проснувшись, беззвучно шепчет: «Спасибо». – Где ты его взял? – спрашивает Яна.
– А в «Романтике» купил. Накопил и… – Жека спотыкается об их недоверчивые взгляды. – Ну ладно: нашел, – он отводит глаза и обтирает ладони об штаны. Они ждут. – Ну чего вы на меня уставились? В мусорке нашел.
Филька довольно кивает, будто учитель, услышавший правильный ответ. Втроем они смотрят на нож, думая об одном и том же.
– Да чо вы! Хороший же ножик! Я ж его вымыл! – возмущается Жека. Яна хмыкает, и он торопливо объясняет: – Ну кончик не стал, как-то ссыкотно его руками трогать, а рукоять вымыл! С мылом!
Несколько секунд они осознают сказанное. Филька понимает первым – и взрывается.
– Придурок! – выпаливает он, едва не подскакивая, и притопывает ногой. Его рот кривится, нос стремительно опухает и становится малиновым. – Дебил!
– Сам такой! Щас как дам…
Ольга загораживает Фильку плечом, упирается Жеке ладонью в грудь.
– Отпечатки же, – стонет за ее спиной Филька. – Отпечатки! Доказательства! Дурак… – всхлипнув, он разворачивается и, путаясь ногами, выбегает. Слышно, как скрежещет дверь.
– Сам дебил… – ворчит Жека.
Ольга стучит пальцем по лбу.
– Это ЕГО нож, – шепотом говорит она. – Его, понимаешь?
Они останавливаются под козырьком подъезда. На дорожке Филька, все еще всхлипывая, сматывает резинку в аккуратный клубок. Ольга держит нож двумя пальцами, кусает губу.
– Он его из-за нас выкинул, – говорит она. – Испугался! Я же говорила, что получится!
Яна с сомнением пожимает плечами.
– Может, не все стерлось, осталось что-то? – с надеждой спрашивает Филька.
– Жекины отпечатки там остались, – снова пожимает плечами Яна. – Твои. Мои. Бесполезно его отдавать.
Они молча рассматривают нож. Почти любуются им.
– Я не могу у себя оставить, мама увидит, – говорит наконец Ольга.
– Давай мне. Я знаю, куда спрятать.
Почему-то Яне очень важно заполучить этот нож. Можно спрятать его на верхней полке в темнушке, за папиными геологическими журналами. Их пыльные, чуть покоробившиеся стопки похожи на обнажения осадочных пород. На бесплодные склоны сопок, в которых никто не станет искать.
Яна пытается примостить нож за пояс, за пазуху и в конце концов просто засовывает в карман кофты. Ее пола тут же перекашивается и обвисает. Рукоятка торчит наружу, и Яна прикрывает ее рукой. Кончик ножа уже проткнул ткань. Он почти незаметен – темно-бурый на темно-синем, – но Яна чувствует его, как притаившееся опасное животное, которое вот-вот вывернется и вопьется грязными клыками прямо в живот.
– Получается, он правда больше не будет? – тихо спрашивает Филька, и Ольга раздраженно фыркает.
– Он просто возьмет другой, – отвечает Яна.
Яна еще раз посмотрела на дыру, тряхнула головой, отгоняя видение Жеки, пробивающего фанеру белобрысой макушкой, и отвернулась. Крайнюю слева дверь, ведущую в квартиру, где жила Ольга, тоже так и не поменяли. Рыжая краска внизу превратилась в темно-серую; на слое грязи виднелся небольшой отпечаток рифленой подошвы – кто-то маленький и ленивый закрывал дверь, надавливая на нее носком. Яна привычно потянулась на цыпочках; нервно усмехнулась, сообразив, что теперь достаточно поднять руку; нажала на кнопку звонка. В глубине квартиры задребезжало. Звук тоже не изменился.
Послышались быстрые, размашистые, легкие шаги, и дверь уверенно распахнулась.
– Полина, я тебе велела одной не… – высокая светловолосая женщина застыла, чуть близоруко щурясь в сумрак подъезда.
Яна тихо ахнула.
Ольга была ошеломительно красива. В затрапезных трениках и футболке, со свисающей паклей челкой, с темными кругами под глазами и усталой складкой у губ, – ее красота пробивалась из-под наносного, как искры на подернутом пылью снегу. Ольга всегда была другая. Не хорошенькая, даже не симпатичная, но – другая. Раньше Яна это только чуяла; теперь – понимала почему.
– Привет, – негромко сказала она.
Оливковая кожа Ольги сделалась голубоватой. Она отступила на шаг, нервно оглянулась, повела плечами, будто пыталась надежней загородить вход. Губы беззвучно шевельнулись.
– Привет, – повторила Яна громче. – Это я.
– Отче наш… – прошептала Ольга и, не сводя с нее глаз, зашарила под горловиной футболки.
– Что?! – тонким голосом переспросила Яна.
– Отче наш, – отчетливо повторила Ольга. – Иже еси… Сгинь-пропади, нечистая сила… – и она сунула Яне под нос костлявый кукиш.
– Охренела?! – рявкнула Яна и легонько оттолкнула кукиш.
Рука у Ольги была ледяная. От прикосновения она тихо вскрикнула. Фига, которой она тыкала Яне в лицо, расплелась, рука тяжело упала вдоль тела. Безумный блеск в глазах угас, превратился в едва тлеющий уголек.
– Извините, обозналась, – холодно сказала Ольга. – Вам кого?
– Ольга, ты чего? Это же я… Нигдеева, ну?
Лицо Ольги прояснилось, как будто она решила наконец сложную задачу, занимавшую ее уже не первый день. Яна заулыбалась, готовая войти, уже приглашенная в своем воображении в дом.
– Да идите вы, – прохрипела Ольга и попыталась захлопнуть дверь. Створка ударилась в плечо Яны, уже наполовину просунувшейся в коридор, и вырвалась из рук. – Вам кажется, это смешно?! С-ссуки…
– Ольга…
– Гады… – Ольга с размаху провела ладонью под глазами, полосой размазав тушь. – Суки… Мало вам было, еще и ее приплели… Вы взрослая женщина, вам не стыдно покойников тревожить?
– Каких покойников?! – Яна отшатнулась. – Кто? Филька? Я думала, он… Послание же… Ольга!
– Сука! – взвизгнула Ольга, и дверь с грохотом захлопнулась. Гукая и завывая, по подъезду прокатилось эхо, и стало тихо. Так тихо, что слышны были тонкий ручеек осыпающейся штукатурки и комариное зудение лампочки.
– Ничего себе, – звонко сказал кто-то за спиной.
Яна обернулась, и у нее закружилась голова. На секунду ее охватило сумасшедшее ликование: ну конечно, это недоразумение, она приняла за Ольгу незнакомую, чужую, безнадежно взрослую женщину, а Ольга – вот она, стоит, привычно подшмыгивая носом, и смотрит с любопытством и легким неодобрением. Яна шевельнула губами: «Ольга?» Девочка закатила глаза.
– Опять, что ли? Пустите, мне домой надо.
Спохватившись, Яна отодвинулась от двери. Девочка, подозрительно косясь, поднялась на цыпочки, потянулась к звонку.
– Подожди, – попросила Яна. Девочка обернулась через плечо, но руку не опустила. – Будь добра, скажи маме… скажи… нет. Лучше передай…
Яна сдернула с плеча рюкзак. Она ездила с ним на конференцию, они должны, должны остаться, все давно пишется в телефон, но Клочков сказал, что ей положено, и спасибо ему, эта сердитая девочка не станет записывать телефон или искать ручку, стоя в полутемном подъезде, и будет права, и молодец, надо быть осторожной, но в ней ни капли страха, это у нее в крови – ни капли страха, даже когда бояться уже пора, когда бояться просто необходимо, проклятие, сколько ж в этом рюкзаке карманов…
– Вот! – торжествующе выкрикнула Яна и взмахнула визиткой. – Вот, передай это маме. Здесь телефон…
– Вижу, – хмуро сказала девочка. Взяла визитку и выжидающе уставилась на Яну. Та переминалась, ерошила волосы обеими руками, рассеянно поглядывая по сторонам. – Ну? – подхлестнула девочка. – Вы уйдете или так и будете стоять?
Яна вздрогнула и, неловко кивнув, бросилась вон. В спину полетел приглушенный скрежет звонка. Яна ударила по двери плечом, выскочила на улицу – глубоко втянула горько-соленый, с песчаным привкусом воздух – и, не оглядываясь, зашагала прочь.
Спящий у подъезда пес поднял голову, посмотрел ей вслед и снова, блаженно жмурясь, вытянулся на боку.
…Если идти из музыкалки не по Ленина, как положено, а по Блюхера, обрезая углы и изгибы через дворы деревянных двухэтажек, – получается чуть быстрее. Яна сокращает путь не потому, что торопится домой, а потому, что ей запрещено так делать. Здесь нет тротуаров, почти нет прохожих, а почерневшие от старости дома через один назначены под снос. Яна идет по Блюхера, потому что уже все. Терять нечего. Спасать нечего. Куртка распахнута, и под белую блузку пробирается холод. Карманы, набитые халцедонами, бьют по ногам. Где-то среди камней трется, пачкаясь и покрываясь дырами, белая капроновая лента. Яна не глядя шагает по обочине, разбрызгивая жидкую глину. Цвет сапог не разобрать под грязью. Ненавистная юбка до середины икры, как у взрослых, купленная на вырост, черная, плиссированная, неуклюжая, заляпана грязью. Телесные капроновые колготки теть Светы – настоящие взрослые, необъяснимо, до дрожи отвратительные, которые Яну заставили надеть, чтобы она выглядела прилично, – покрыты сзади коркой глины. Такая же корка налипла на мягкий клетчатый чехол скрипки. Пакет с ковбоем и надписью «Мальборо», подарок тети, присланный с материка, волшебно, восхитительно нездешний, – испачкан так, что не разобрать, где глина, а где конь.
Мысль о том, что его придется отмывать, кажется далекой и бессмысленной. Это будет в другой жизни, которая никогда не наступит. Разум даже не пытается пробиться сквозь предстоящий вечер – он в бессильном ужасе отступает перед подсвеченной багровой яростью тьмой.
…Ирина Николаевна проводит Яну лабиринтом лесенок и переходов, и они оказываются в коридоре, по одну сторону которого идут обычные кабинеты, а по другую дверь только одна – огромная, высокая, двустворчатая. Сейчас она распахнута, и сквозь нее широким потоком льется таинственный сливочно-желтый свет, пропущенный сквозь занавес над сценой. Там кто-то играет «Разбойников» – и здорово играет, наверное, из четвертого класса, а то и из пятого, – с того места, где они остановились, видно только аккомпаниатора. Яна крепче сжимает скрипичный гриф, и он становится скользким от пота.
– Ради бога, хоть в этот раз меня не опозорь, – говорит Ирина Николаевна. – Я уже всем рассказала, как ты хорошо сыграла на прогоне. Соберись хорошенько.
Ирина Николаевна сегодня – в своем самом красивом платье, темно-синем, как вечернее небо. Она бледная, тонкогубая и горбоносая, с шапкой пепельных кудрей, высокая и угловато-тощая, будто собранная из длинных дырчатых планок детского конструктора. Но стоит ей взять в руки скрипку, и она становится плавной и струящейся. Становится красивой. Доброй.
Ирина Николаевна протягивает руку, поправляет пышный белый бант на Яниной голове. Волосы слишком короткие, бант держится на собранном на макушке крысином хвостике; Яна чувствует, как волосы прядка за прядкой выскальзывают из узла, и бант неудержимо сползает к уху. Из зала доносятся аплодисменты. Пятиклассник с мокрым ошалелым лицом сбегает с дальнего конца сцены.
– Ну, пошла, – Ирина Николаевна легонько пихает Яну в плечо.
Пять высоких деревянных ступеней непреодолимы на вид. Но, как Яна ни тянет налитые свинцом ноги, – лестница кончается быстро, очень быстро.
– Руку не зажимай! – шипит снизу Ирина Николаевна.
Гриф скользит; Яна стискивает его в кулаке с такой силой, что струны врезаются в пальцы. Округло выставленные на смычке пальцы дрожат и костенеют, норовя превратиться в неуклюжую птичью лапу. Яна останавливается в центре сцены.
Краем глаза она видит, как Ирина Николаевна прокрадывается в зал и садится на угловое кресло – прямая и сухая, как доска. Остальные места в первом ряду заняты комиссией. За ними – зрители. В левой части зала – тесная кучка принаряженных родителей, тех, кто захотел и смог отпроситься с работы. В правой – младшеклассники из четвертой школы, которых пригнали культурно развиваться. Некоторые уже хихикают и тычут в Яну пальцем. Она стоит слишком долго. Взрослые склоняются друг к другу, обмениваясь негромкими фразами. В комиссии переглядываются.
Спина у Яны из холодного как лед бетона, ноги – мягкие болтающиеся колбаски тряпичной куклы, а от сердца остался лишь трясущийся мелкой дрожью комок в солнечном сплетении. Окаменелое лицо сползает вниз под собственной тяжестью. Серая муть постепенно заливает зал, и сквозь нее едва видно, как Ирина Николаевна вытягивается в кресле; ее губы становятся еще уже, спина – еще прямее, а брови медленно сползаются к переносице.
Это движение бровей – как толчок под дых, заставляющий согнуться. Яна коротко кланяется в заполнивший зал туман. Вскидывает скрипку, придавливает подбородком, зажимает лакированным деревом пыльный сухой ком, тысячей иголок растопырившийся в горле. Аккомпаниатор ударяет по клавишам, и Яна поднимает тяжелый, как кусок арматуры, смычок.
Правый локоть тут же взлетает к уху, за ним лезет плечо – чужое, окостенелое. Пальцы левой руки цепляются друг за друга, за струны, не попадают на место. Яна пилит этюд, отчужденно слушая фальшивый скрежет. Лицо покрывает корка застывшего цемента. Яна пилит второй прямо в серую муть, покрытую белыми пятнами лиц. Пятна медленно плывут к потолку, и вот уже не Яна стоит над залом, а зал нависает над ней; белые пятна лишены черт – у них есть только выражение, которое не воспринимается глазами, а ощущается напрямую, – равнодушная готовность припечатать оценкой. Этюд кончается мертвенным, безликим скрипом. Она должна играть дальше. Она должна сыграть «Гавот» Баха, порхающий, как трясогузка над водой. Яна поднимает смычок, ожидая, когда заиграет аккомпаниатор, но тут с середины первого ряда говорят:
– Спасибо, достаточно.
Яна опускает скрипку, мертво глядя поверх голов. В тишине раздается пара неуверенных хлопков – и замирает, будто растаяв от смущения. Яна снова кланяется и на прямых, как шпалы, ногах спускается со сцены.
…В просторном кабинете, где обычно идет сольфеджио, пахнет канифолью и влажными куртками, – почему-то раздевалка сегодня закрыта. Ученики толпятся у банкетки, собирая портфели, учителя из комиссии сгрудились вокруг стола. Ирина Николаевна швыряет дневник Яне, и исписанные ее крупным неразборчивым почерком листы вспархивают чаячьими крыльями. Мелькает багровая загогулина тройки. Длинный минус похож на след от удара ремнем.
– В году я поставила тебе четверку, – говорит Ирина Николаевна и бросает быстрый сердитый взгляд на комиссию. – Считай это авансом.
Яна подбирает дневник, кладет его в пакет и начинает укладывать в чехол скрипку. Кто-то протягивает ей бант (на белой капроновой петле темнеет бурый отпечаток ребристой подошвы), и она не глядя сует его в карман куртки. Кажется, лицо парализовало, и теперь она никогда в жизни не сможет пошевелить ни единой мышцей.
Ирина Николаевна сидит на подоконнике, высунувшись в окно, курит короткими нервными затяжками, и линия ее тела изломана, как тонкая сухая ветка.
…Яна выходит к перекрестку, перебегает дорогу и оказывается на углу школьного двора. Здесь она обычно переходит на другую сторону или держится рядом со взрослыми прохожими, но сегодня ей все равно. Она просто идет мимо, даже не посмотрев на тропинку, ведущую от дыры в заборе в глубину зарослей ольхи, где старшеклассники устроили курилку.
– Ого, как Нигдеева вырядилась! – слышит она.
Второгодник Егоров медленно движется навстречу, ухмыляясь во весь рот. Яна быстро оглядывается – но за спиной дорогу уже перегородили трое его дружков из пятого «В». Одного из них, лучшего корефана Егорова, высокого, с длинной щекастой головой, все зовут Груша. Двух других Яна знает только в лицо. Все четверо одеты в форму, хотя уроки в средних классах закончились еще три дня назад, – наверное, ходили на дополнительные занятия для двоечников. Все четверо – без галстуков: пятиклассники сняли их, едва выйдя из школы, чтобы не выглядеть как ботаники, а у Егорова галстука просто нет: за хулиганство его исключили из пионеров еще в прошлом году. Яна отступает к забору, машинально приподнимает скрипку и уводит ее за спину. Егоров замечает движение и ухмыляется еще шире.
– А, ты ж у нас скрипачка, Нигдеева, – он мягко надвигается на нее, и Яна вжимается лопатками в прутья ограды. – А сыграй нам на скрипке! Давай, доставай!
– Давай лучше я сыграю, – ржет Груша и тянет руки к чехлу. Яна пытается лягнуть его ногой, но не достает, и пацаны закатываются от гогота.
– Зырьте, у нее колготки настоящие! – замечает вдруг Егоров. – Ну-ка!
Он делает неуловимое обманное движение к скрипке и, когда Яна отвлекается, рывком задирает ей юбку.
– Смотри, у нее трусы просвечивают! – в восторге вопит один из пятиклассников. – Трусы в горошек!
Яне хочется умереть. Она думает, что сейчас умрет, но не умирает. Она пытается прижать юбку ладонями, но в одной руке у нее скрипка, в другой – пакет, и Егоров легко, почти лениво отводит подол в сторону.
– Трусы-ы! – закатываются его дружки.
Глаза Егорова загораются новой идеей, и Яна не ждет, чтобы выяснить, какой именно. Коротко размахнувшись, она обрушивает скрипку на картофельную морду Егорова. Кажется, что чехол стал прозрачным, и она почти видит, как твердая, в спираль завитая головка грифа сворачивает егоровский нос набок, а задняя дека смачно впечатывается в щеку. В чехле тихо хрупает, и в ответ что-то так же тихо хрупает под ребрами, отрывается, падает, падает. Тоненько гудит струна (ми, думает Яна. Ми. Самая тонкая. Писклявая).
(– Мы со Светланой собирались достать тебе хороший жесткий футляр, – говорит папа. Яна стоит в углу, лицом к стене, и слушает, как шуршит по дереву наждачная бумага: папа подгоняет новый скрипичный порожек взамен сломанного. – Хорошо, что не стали. С вещами ты обращаться не умеешь.)
Егоров хватается за побагровевший нос. Яна тут же прижимает юбку к бедрам – обеими руками, скрипкой, пакетом с нотами. Ей приходится согнуться. Она исподлобья смотрит, как нефтяные пятна зрачков затапливают глаза Егорова.
– Ты, рыжая, совсем обнаглела?! – вопит он и толкает ее в грудь.
Яна впечатывается в ограду, отталкивается от нее спиной, целясь поднырнуть сбоку, но Груша пихает ее обратно. Яна отмахивается пакетом, чувствует отдачу, – твердый уголок нотного сборника влепился кому-то в живот, – и снова вжимается в забор. На мгновение ей кажется, что сейчас все закончится: обзовут напоследок, может, толкнут лишний раз и уйдут, заливаясь гоготом, руки в карманах. Если бы Егоров был один, если бы пацанов было двое, даже трое, – наверное, так бы и вышло. Но их четверо. Дружки подпирают Егорова со спины. Подталкивают. Раскачивают его и друг друга, в разных фазах и с разными скоростями, и никак не могут совпасть в той точке, где могли бы остановиться.
Зрачки Егорова превращаются в игольные дырки на серой радужке – стремительно и завораживающе жутко. Теперь Яна пугается по-настоящему. Мысли о том, что будет дома, улетучиваются из головы: страшное происходит здесь и сейчас.
– Тащи в курилку, – командует Егоров и хватает Яну за плечо. – Щас мы там с ней разберемся.
Яна проваливается в ослепительно сверкающую черноту. Глухая боль в локте, пятке, костяшках пальцев, которые врезаются в чьи-то лица, ребра, животы, – слабо, бессильно. Это бесит, это приводит в ярость. Оглушительная боль, когда чья-то пятерня вцепляется в волосы. Ноги скользят по асфальту; Яна упирается, пытается воткнуть пятки в землю, как крюки, но лишь беспомощно скребет ступнями. Она выворачивает шею. Грязные пальцы с обкусанными ногтями, сомкнутые на ее плече, оказываются так близко, что расплываются в песочно-серое пятно. Отвратительное ощущение чужой кожи под зубами. Теплое, соленое, железное на губах. Пальцы тут же разжимаются, и сквозь черную вату до Яны доносится дикий крик.
– Ты больная, Нигдеева! – вопит Егоров, размахивая окровавленной ладонью. – Тебе в психушке место!
Он замахивается; Яна втягивает голову в плечи, но вместо удара чувствует лишь резкое движение воздуха.
Ольга отбрасывает руку Егорова, как мокрую, осклизлую тряпку. Говорит:
– А ну быра отвяли от нее, придурки.
Хватка ослабевает, и Яна винтом выкручивается из рук. Ныряет вперед, почти врезается в Фильку, подпирающего Ольгу сзади. Перекладывает пакет в другую руку, к скрипке. Сжимает наконец-то ничем не стесненный кулак, вытирает со рта чужую кровь.
– Правда, отстаньте от нее, – говорит Филька.
– А ты чего лезешь, жирный? – ухмыляется один из пятиклассников. – Невесту, что ли, защищаешь?
– Да пошел ты на…
– Ты чо сказал?
Они сцепляются так быстро, что Яна едва успевает отодвинуть скрипку. Второй пятиклассник наваливается на Фильку сбоку, и Ольга с диким визгом вцепляется ему в вихры. Яна видит, как замахивается Егоров, хватает его сзади за куртку и изо всех сил бьет ногой в зад. Егоров отмахивается почти не глядя; на мгновение Яна теряет способность видеть, слышать и дышать, а потом боль выплескивается из-под ребер и затапливает весь мир.
– Ноги! – пробивается сквозь багровые сполохи; кто-то сжимает ее ладонь. Горячая, мягкая, дружеская рука тянет ее в сторону, и Яна, все еще оглушенная, подчиняется.
– Свихнулся! – вопит Ольга.
Яна приходит в себя. Она понимает: втроем против четверых старших не выстоять, надо бежать – и бежать вдоль школьного забора ко дворам, в прямоугольный лабиринт хрущевок, где можно затеряться, заскочить в подъезд, а если повезет, то успеть спрятаться у Ольги. Путь перекрыт, но можно попробовать пробиться, наброситься втроем, прорваться. Но Филька тянет их к перекрестку, обратно на улицу Блюхера, где негде спрятаться, где почти не бывает взрослых прохожих, к которым можно пристроиться, чтобы отстали. «Да бежим же!» – ноющим голосом твердит Филька и тянет ее к дороге. Ольга пятится за ними, лицом к преследователям, готовая снова вступить в драку. Слева доносится басовое гудение; Яна бросает быстрый взгляд на дорогу и видит, что к перекрестку приближается колонна «Уралов» цвета хаки, с эмблемами Института на борту. Крокодилья морда первой машины уже так близко, что, кажется, ее можно коснуться.
– Давай! – орет Филька, дергает ее за руку и бросается наперерез машине. Рядом несется Ольга; в два шага она обгоняет их, как стоячих, и оказывается на противоположной обочине. Оборачивается – глаза на побелевшем лице кажутся огромными и черными, как заполненные болотной водой ямы. Водитель сигналит, и отчаянный вопль клаксона багровой воронкой закручивается в мозгу.
Они успевают. В спину летит отчаянный мат водителя, далекий и нестрашный. Филька дергает вправо, ныряет за угол, и они оказываются во внутреннем дворике г-образной деревянной двухэтажки. Дом такой старый, что кажется частью пейзажа, никак не связанной с людьми. Крошечный двор пуст – ни деревца, ни качелей, лишь наполовину вкопанные в землю шины по краю да железный турник, на котором висит облезлый ковер, – будто кто-то вынес его выбивать, да так и бросил, отвлекся на важные дела.
Филька с усилием открывает дверь, и они оказываются в подъезде. Лестница и почтовые ящики почти разочаровывают, – Яне казалось, что в таких домах все должно быть по-другому. Но здесь все почти так же, как в обычных домах, только меньше, и вместо бетона – дерево. Стены – темно-синие, а ступеньки выкрашены в рыжий. Филька с топотом несется впереди, и доски скрипят и прогибаются под его ногами. Лестница такая узкая, что приходится подниматься гуськом. Густо пахнет прелым деревом. Свет едва пробивается в маленькое, разделенное на клеточки окошко на площадке между этажами.
Они вбегают на второй этаж. Сюда выходят всего две квартиры. Филька бросается к левой, на ходу шаря за пазухой. Вытаскивает из-под рубашки ключ на коричневом ботиночном шнурке, но, вместо того чтобы вставить его в замок, наклоняется, прикладывает ухо к скважине и замирает, сосредоточенно прикрыв глаза.
– Ты чего? – возмущается Ольга.
– Тихо ты! – шипит Филька. – Вдруг они…
Внизу хлопает дверь, и Филька выпрямляется так резко, что едва не теряет равновесие. «Говорю тебе, сюда забежали!» – доносится снизу. Руки Фильки ходят ходуном, и он никак не может попасть в замок. Никак. Не может. Яна озирается. Лестница, перегороженная старыми санками и коляской, ведет дальше, но даже в полутьме видно, что пролет упирается в запертую на висячий замок решетку. Слышны неторопливые шаги; если чуть наклониться и заглянуть сквозь перила, можно увидеть макушку Егорова. В горле Яны мелко трясется что-то горячее и скользкое, как сгусток крови. Она отступает к последнему пролету – положить скрипку, взять санки, бить сверху вниз. Егоров начинает медленно поднимать голову.
– Есть, – хрипло выдыхает Филька. Ольга дергает Яну за руку; они проскакивают в квартиру, пока Филька, кривя мокрое лицо, отчаянно дергает ключ, пытаясь вытащить его из заевшего замка.
Он захлопывает дверь ровно в тот момент, когда торжествующая физиономия Егорова появляется над краем лестничной площадки. Яна толчется в темной полутьме, пропахшей едой, тычется скрипичным грифом в какую-то мебель, наступает Ольге на ногу, получает тычок под ребра; слушает успокоительное железное бряканье, догадывается по звуку: Филька задвигает засов, накидывает цепочку, проворачивает ключ.
– Пронесло… – выдыхает Ольга.
Длинно дребезжит дверной звонок, и от этого звука что-то обрывается внутри. Филька, как сомнамбула, с пустым лицом тянет руки к засову. Ольга хватает его за куртку, тянет к себе, вертит пальцем у виска. На Филькиной физиономии проступает испуг, но глаза становятся осмысленными.
В дверь начинают грохотать кулаками, бьют ладонями. Филька стоит с другой стороны, ссутулившись, вяло, чуть по-обезьяньи свесив руки, и ждет. По нему видно, что дело для него привычное: терпеливо ждать, когда отстанут.
– Жирный, выходи! – орет за дверью Егоров, и Филька втягивает голову в плечи. Ольга трогает его за рукав, мотает головой в глубь квартиры:
– Не обращай внимания.
– Ага, тебе хорошо так говорить, – огрызается Филька, и его голос едва различим за грохотом. – А у меня бабушка скоро придет.
– Выходи давай! – орут на лестничной площадке.
Хлопает дверь соседней квартиры, и вопли заглушает младенческий рев. Филька поднимает голову, слабо улыбается – победно и испуганно.
– А ну пошли вон отсюда! – Визгливый женский голос заходится от ярости. – Милицию вызову! Я кому сказала!
Ей отвечает взрыв хохота; Яна с облегчением слышит удаляющийся топот – компашка бежит вниз по лестнице. Филька переводит дух и смотрит на часы. Собирается что-то сказать, но Ольга успевает первой:
– Мы у тебя посидим полчаса, подождем, пока уйдут.
Филька открывает рот, заливается краской, захлопывает челюсть. Выдавливает механически, как попугай:
– Проходите, пожалуйста.
Толкаясь в темном коридорчике, они стаскивают сапоги, с любопытством оглядываются. Филька, поколебавшись, тычет пальцем вперед:
– Давайте на кухню. Чаю попьем…
Оля вдруг хихикает, и, глядя на нее, Яна тоже начинает смеяться, сама не зная чему. Филька неуверенно улыбается в ответ.
Первым делом он подходит к окну, отодвигает занавеску. Яна подсовывается сбоку. Двор пугающе близок. Компания Егорова расположилась рядом с турником; один из пятиклассников сдернул с перекладины ковер и теперь сидит на нем по-турецки, очень довольный собой. Остальные играют в ножички. Филька вздыхает, смотрит на часы, и до Яны вдруг доходит: он боится, что бабушка застанет их с Ольгой в гостях. За это Фильке влетит – из-за той истории с нитками ему даже на улице не разрешают с ними разговаривать, а он их домой привел. Точно влетит… Яна снова выглядывает в окно, прикидывая, сможет ли незаметно пробраться мимо пацанов.
Получается – не сможет. Яна бочком садится на табуретку у стола. Неподалеку слышны размеренные шаги: наверное, кто-то в раздумьях ходит за стеной, в соседней квартире. Воображение рисует чуть сутулого мужчину с узким твердым лицом и бородкой, как у профессора в кино. Громко щелкают настенные часы, отсчитывая время. Яне надо быть дома к шести, когда теть Света приходит с работы. Но она велит показать дневник музыкалки, и… Яна упирается ладонью в лоб, пряча наливающиеся горячим глаза.
Закопавшаяся в коридоре Ольга входит на кухню. Вид у нее озадаченный.
– А зачем у вас в комнате три кровати? – спрашивает она.
Филька перестает пялиться на Егорова.
– А как? – удивляется он. – Моя, бабушкина и мамина.
– А во второй комнате кто живет? Той, запертой?
Филька бледнеет и отступает, вжимаясь в подоконник.
– Это папин кабинет, там закрыто, – говорит он шепотом. – Туда нельзя.
– У тебя же нет папы.
– Нет, есть! – сердито выкрикивает Филька и съеживается, испугавшись собственного голоса.
– Да ладно тебе, – фыркает Ольга. – Спите втроем в одной комнате, а вторая стоит запертая. Глупо как-то.
Она сует руки в карманы и приваливается к дверному косяку, небрежно скрестив ноги. Смотрит поверх Филькиной головы – на окно, за окно, терпеливым, тяжелым, взрослым взглядом. Филька краснеет.
– Сама ты глупая, – огрызается он. Мнется, тихо добавляет: – Он иногда там бывает. Я слышу, как он ходит.
Яна вскидывается, прислушивается: нет, ничего. В старом доме стоит теплая, перепрелая тишина, как стежками пронизанная едва различимым хныканьем соседского младенца. Яна вдруг понимает, что шаги доносились с другой стороны. С той, где находится запертый кабинет Филькиного отца.
– У него там всякие нужные книжки, – шепотом говорит Филька. – И блокноты. Я иногда захожу, беру почитать, когда дома никого. Ну, совсем никого, и его тоже, понимаешь? У него там всякое… про обычаи и про индейцев… про то, как они узелками писали. Целая книжка…
– Так ты это из книжки взял? Тогда зачем мы мучились, список слов делали и все такое? – возмущается Ольга. Филька сердито дергает плечом:
– Так у них там все больше про убитых врагов, золото и кукурузу с курицами.
– Скукотища.
– И ничего не скукотища! Ну, про куриц – да, но у него там куча всякого еще, про всякие народы, и сказки, и мифы…
– Древней Греции которые? – спрашивает Яна. Ольга стучит пальцем по лбу:
– Конечно, а какие еще?
Но Филька качает головой:
– Нет. То есть и они тоже, но это фигня, это я еще в первом классе в библиотеке взял. А у него всякие… со всего мира. И еще… про колдунов всяких… ритуалы…
Яна чувствует, как ее нос вытягивается от любопытства. (… любопытной Варваре на базаре нос оторвали, говорит папа. Я тебе разрешал здесь рыться? у тебя свои книги есть, а эти – для взрослых.)
– Расскажешь потом про колдунов, – требует Ольга. – А зачем твоему папе такое?
– Ему для работы нужно, – объясняет Филька. – Он ученый. Этнограф. Он даже в Африку в экспедиции ездит.
Внезапно Яна понимает, что геолог – вовсе не самая лучшая профессия в мире, где есть люди, которые занимаются на работе сказками и колдунами и ездят для этого в Африку.
– А мама сказала, что твой папа в тюрьме сидит, – подозрительно хмурится Ольга. – Он с ума сошел, убил на площади собаку и голый вокруг танцевал, вот его в милицию и забрали.
Яна кивает. Папа рассказывал теть Свете эту историю, когда думал, что Яна с Лизкой уже спят, – только он говорил, что Филькин папа в тюрьме не остался. Он то ли умер там, то ли просто исчез, – Яна так и не сумела расслышать. Ей нравится думать, что он исчез. Растворился в воздухе прямо за решеткой…
– Может, он убежал, – говорит она, и Ольга упирается:
– Нет, сидит, мне мама сказала!
– А кто тогда в кабинете ходит? – насмешливо спрашивает Филька, и Ольга, сраженная, замолкает.
– Может, привидение? – осторожно предполагает Яна. – Ну… типа духа?
– Привидения только от мертвецов бывают, – неуверенно возражает Ольга, а Филька со знанием дела объясняет:
– Привидений не бывает. Бывают духи, про них в папиных книжках тоже есть. Но они в квартирах не водятся, только в сакральных местах.
– Каких-каких? – переспрашивает со смешком Ольга, и Яна тоже невольно ухмыляется.
– С-сак-ральных, – терпеливо повторяет Филька, и девчонки снова хихикают. – Дуры вы. Это значит такое особое место. Ну вроде кладбища. Там можно вызвать духов предков. Спросить у них что-нибудь, например. Или попросить защиты.
Все трое невольно поворачиваются к окну, из которого доносится гогот егоровской компашки.
– И что, дух прилетит к Егорову и скажет, чтобы он от нас отстал? – с сомнением спрашивает Яна. – Как-то по-дурацки. А если он не послушает?
– Да плюнь ты на Егорова, – перебивает Ольга, возбужденно подается вперед. – Это же дух! Он же всемогущий. Его на Люськарповну можно натравить, чтобы не орала и пары за контроши не лепила. Или вообще на твою теть Свету наслать! – Ее глаза вспыхивают: – Мы вообще можем твою маму вызвать, чтоб она ей сказала!
– Ты чего… – слабо шепчет Яна. Нос вдруг становится горячим и как будто вырастает – предвестник накатывающих слез. – Так только хуже будет…
– Почему хуже-то?
Яна опускает голову ниже.
(Слеза щекотно натекает в уголок глаза, и Яна быстро стирает ее кулаком, чтобы не накапать на домашку по математике. Нос забит, очень хочется прошмыгаться, но это будет слишком громко, – ее услышат, или она пропустит что-то важное. Лизка колупается за спиной со своими пупсами и пискляво, фальшиво тянет на одной ноте: «Ля-ля-ля, ля-ля-ля». Живые люди так дебильно не поют, Лизка просто притворяется, изображает маленькую девочку из мультика, которая изображает живую девочку: «Ля-ля-ля». Изображения изображений окружают Лизку, как надвинутые друг на друга половинки разбитых яиц. Яне хочется дать ей подзатыльник, чтоб заткнулась.