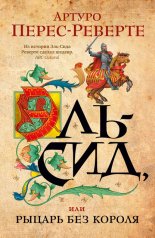Цезарь, или По воле судьбы Маккалоу Колин
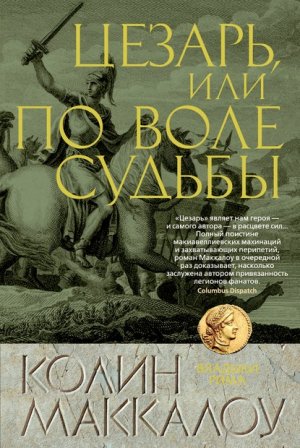
Colleen McCullough
CAESAR
Copyright © 1997 by Colleen McCullough
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers
All rights reserved
© А. П. Кострова, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®
* * *
Провинции Цезаря
Британия
Ноябрь 54 г. до Р. Х.
Гай Юлий Цезарь
Имелся приказ: пока Цезарь в Британии, никакой корреспонденции ему не пересылать, разве что в самых экстренных случаях. Даже директивам сената следовало дожидаться в галльском порту Итий, когда командующий вернется из второго похода на самый западный в мире остров, столь же загадочный, как и находящаяся на востоке Серика.
Но это было письмо от Помпея Великого, зятя Цезаря и Первого Человека в Риме, поэтому Гай Требатий не стал класть маленький цилиндр из красной кожи с печатью Помпея в долгий ящик, а, вздохнув, тяжело поднялся на ноги. Двигаться резвее ему мешала полнота, свойственная тем, кто проводит все время за столом – письменным или обеденным. Открыв дверь, он вышел на улицу лагеря, наспех сооруженного на месте прошлогоднего, не столь большого. Место не из приятных! Те же прямые, хорошо утрамбованные улицы, те же бесконечные ряды деревянных строений. Есть даже пара лавчонок, а вот деревьев нет вовсе.
«В Риме, – подумал он, ковыляя по via principalis, – я бы кликнул носильщиков». Но в лагерях Цезаря никаких паланкинов нет, и потому он, Гай Требатий, многообещающий молодой юрист, вынужден тащиться пешком, отдуваясь и проклиная систему, почему-то решившую, что для его будущей карьеры много полезней солдатская жизнь, чем прогулки по Римскому форуму. Ему даже нельзя послать в порт кого-нибудь вместо себя. Цезарь считает, что человек должен сам выполнять свою работу, даже самую неблагодарную. Не дай бог, если тот, кому перепоручено задание, выражаясь грубым армейским языком, облажается.
О проклятье! Требатий уже хотел было повернуть назад, но потом сунул левую руку в складки тоги, принял важный вид и засеменил дальше. Впереди стоял Тит Лабиен. Прислонившись к стене своего дома и намотав на кулак конский повод, он разговаривал с каким-то крупным, увешанным золотом галлом. Это, похоже, был Литавик, новый командир эдуйских конников, назначенный на этот пост после попытки его предшественника сбежать в Британию. Кстати, предшественника убил именно Лабиен. Как там его звали? Думнориг. Думнориг? Кажется, это странное имя имеет отношение к скандалу, связанному с Цезарем и с некой женщиной? Требатий еще недостаточно долго пробыл в Галлии, чтобы во всем разбираться, вот в чем беда.
Это типично для Лабиена. Он любит якшаться с галлами. Ведь он и сам настоящий варвар! Не римлянин, нет! Густые курчавые черные волосы. Темная пористая кожа. Жесткий холодный взгляд черных глаз. А нос, как у семита, крючком, с ноздрями, словно специально расширенными ножом. Орел. Да, Лабиен, несомненно, орел. Но… не очень-то отвечающий римским стандартам.
– Решил скинуть жирок, а, Требатий? – спросил этот римлянин-варвар и улыбнулся, обнажая длинные зубы, точь-в-точь как у его кобылы.
– Иду в порт, – с достоинством ответил Требатий.
– Зачем?
«Не твое дело», – хотелось ответить, но губы Требатия сложились в вымученную улыбку. В конце концов, в отсутствие главнокомандующего Лабиен его заменяет.
– Надеюсь еще застать баркас. И отправить письмо. Для Цезаря.
– От кого?
Галл Литавик внимательно слушал. Он знал латынь, как и многие эдуи. Уже на протяжении нескольких поколений они были под властью Рима.
– От Гнея Помпея Магна.
– А-а-а!
Лабиен харкнул и сплюнул. Привычка, перенятая у варваров. Отвратительная привычка.
Услышав имя Помпея, Лабиен сразу потерял интерес к разговору и повернулся к юристу спиной. Ну да, еще бы! Ведь у этого Лабиена была интрижка с Муцией Терцией, прежней супругой Помпея. Во всяком случае, так, хихикая, утверждал Цицерон. Но Муция после развода не вышла замуж за Лабиена: недостаточно хорош. Она вышла за молодого Скавра. По крайней мере, в то время он был еще молодым.
Тяжело дыша, Требатий продолжил путь, пока не вышел из ворот лагеря на другом конце via principalis и не оказался в порту, именуемом Итий. Претенциозное название для небольшого рыбацкого поселения. Кто знает, как его называют морины – галлы, на чьей территории он находится. Цезарь просто пришел сюда в солдатских сапогах, словно это конечный пункт путешествия – или исходный. Как хочешь, так и понимай.
Пот градом тек по спине, впитываясь в тонкую шерсть туники. Говорили, что в Галлии климат прохладный и мягкий. Но только не в этом году! Сейчас здесь очень жарко и очень влажно. Порт Итий пропах рыбой. И эти галлы. Требатий их ненавидел. Он ненавидел свою работу. И даже… нет, только не Цезаря. Цезаря ненавидеть нельзя. Но Цицерона возненавидеть он уже был готов. Ведь именно Цицерон, использовав все свое влияние, вытребовал эту должность для своего близкого друга, многообещающего молодого юриста Гая Требатия Тесты.
Этот порт ничуть не походил ни на одну из очаровательных маленьких деревушек, разбросанных по берегам Тусканского моря, с их тенистыми виноградниками, множеством винных лавчонок и укладом жизни, который не менялся со времен царя Энея, тысячу лет назад сошедшего там со своего троянского корабля. Песни, смех, любовь. А здесь только ветер с песком, колючие травы на дюнах да пронзительные вопли тысяч и тысяч чаек.
Баркас, хвала всем богам, еще не ушел. Его команда, состоящая сплошь из римлян, грузила на борт последние из дюжины бочонков с гвоздями – единственный груз, который эта посудина должна была доставить, а точнее, единственный, который позволяли вместить ее размеры.
Ибо в Британии знаменитое везение Цезаря почему-то сошло на нет. Второй год подряд его суда терпели крушение в штормах, с какими бури Нашего моря не могли и сравниться. Правда, на этот раз Цезарь был уверен, что завел свои восемьсот кораблей в безопасное место. Но ветра и приливы – что можно было поделать с таким незнакомым явлением, как прилив, – подхватывали их и разбрасывали, как игрушки, круша и ломая. Однако Цезарь есть Цезарь. Он не разражался тирадами, не бесновался, не проклинал злокозненную стихию. Вместо этого он вновь и вновь собирал из обломков свой флот. Отсюда и гвозди. Миллионы гвоздей. Нет ни времени, ни опытных кораблестроителей, а армия до зимы должна вернуться в Галлию.
«Скрепляйте, что можно, гвоздями! – сказал Цезарь. – Все, что требуется от этих посудин, – проплыть тридцать с небольшим миль по Атлантическому океану. А потом пускай тонут. Мне наплевать!»
Потому-то баркас и курсировал между Итием и Британией, увозя гвозди и привозя корреспонденцию.
«Я тоже мог бы быть там», – сказал себе Требатий и вздрогнул, несмотря на одурманивающую духоту. Нуждаясь в опытном человеке, который мог бы делать бумажную работу, Цезарь внес его в списки своей экспедиции. Но в последний момент вдруг вызвался поехать Авл Гирций, да хранят его боги! Пусть лучше порт Итий станет для Гая Требатия конечным пунктом путешествия, нежели исходным.
Сегодня баркас увозил вдобавок и пассажира. Требатий знал, кто таков этот галл (или, скорее, бритт), поскольку сам вместе с Трогом организовал его отправку на остров – в безумной спешке, как и всегда. На носу утлого с виду весельного суденышка восседал Мандубракий, вождь триновантов, которого Цезарь возвращал этому племени в обмен на содействие. Синий варвар жуткого вида. Весь в чем-то мутно-голубом и болотно-зеленом, под стать разрисованной причудливыми узорами коже. Цезарь говорил, что таким образом бритты сливаются со своими лесами. Чтобы в чаще оставаться незримыми, а на поле сражения внушать врагам страх.
Требатий передал маленький красный футляр с печатью старшему среди римлян (капитану, или как его там?) и двинулся в обратный путь. Рот его тут же наполнился сладкой слюной. На обед сегодня жареный гусь. Мало что можно сказать хорошего о моринах, но гуси у них отменные. Наверное, лучшие в мире. Они не только кормят этих красавцев улитками с хлебом и поят вином, но также знают, когда резать птицу, чтобы мясо ее было нежнейшим и таяло во рту.
Гребцы баркаса, по восемь человек с каждого борта, работали без устали, слаженно, хотя на борту не было гортатора, чтобы задавать ритм. Через каждый час они отдыхали, пили воду, потом опять сгибали спину, упираясь ногами в выступы на дне лодки. Их капитан сидел на корме при рулевом весле и ведре для вычерпывания воды, сноровисто уделяя внимание то тому, то другому.
По мере приближения высоких, поразительно белых утесов Британии царь Мандубракий, чопорно и гордо восседавший на носу судна, на глазах делался все спесивей. Он возвращался домой, отдаляясь от белгской крепости Самаробривы, главного города амбианов, где его держали с другими заложниками, пока Цезарь решал, как с ними быть.
Римская экспедиционная армия, посланная в Британию, занимала длинную прибрежную полосу, которая дальше переходила в болота Кантия. Поломанные корабли – как же их много! – стояли на границе песка и воды, подпертые стойками и окруженные римским полевым лагерем для надежной охраны. Рвы, стены, частоколы, брустверы, башни, редуты протянулись, казалось, на много миль.
Начальник лагеря Квинт Атрий поджидал царя Мандубракия, груз гвоздей и маленький красный цилиндр от Помпея. До захода солнца оставалось еще несколько часов. В этой части света солнечная колесница двигалась намного медленнее, чем в Италии. На берегу стояли тринованты, бурно радуясь, что вскоре увидят своего повелителя. Когда тот сошел на песок, они принялись хлопать его по спине и, как это у них принято, целовать в губы. Квинт Атрий решил не мешкая отправить письмо Помпея адресату, ибо до Цезаря было дня три пути. Привели коней. Тринованты и римский начальник кавалерии поскакали к северным воротам, где их ждали пятьсот конных эдуев. Они поместили царя и его свиту в центр колонны, а префект пришпорил коня, чтобы возглавить колонну и заодно дать триновантам поговорить без помех.
– У меня нет уверенности, что они не знают языков, близких нашему, – сказал Мандубракий, с наслаждением вдыхая горячий и влажный воздух, пахнущий родным домом. – Они могут понимать, о чем мы говорим.
– Цезарь и Трог понимают, другие – нет, – ответил его двоюродный брат Тринобеллун.
– Я не уверен, – повторил царь. – Они обретаются в Галлии около пяти лет, и в основном среди белгов. Пользуются их женщинами.
– Шлюхами!
– Женщины есть женщины. Они без умолку болтают, а слова оседают в памяти.
Они въехали в большой лес, дубовый и буковый. Кроны деревьев сошлись над дорогой. Конники напряглись, вскинули копья, проверили сабли и передвинули на грудь круглые маленькие щиты. Через какое-то время колонна вышла на открытое место, расчищенное под пашню и щетинившееся пшеничной стерней. Обуглившиеся остовы двух-трех домов резко выделялись на рыжевато-коричневом фоне.
– Зерно собрали римляне? – спросил Мандубракий.
– На землях кантиев – да.
– А у Кассивелауна?
– Он сжег все, что не смог собрать. К северу от Тамезиса римляне голодали.
– А мы как питались?
– Нам всего хватало. Римляне платили за все, что брали.
– Тогда надо узнать, какие запасы у Кассивелауна, есть ли у них еще пища.
Тринобеллун повернул голову. Голубые спирали на лице его и на торсе словно бы загорелись в закатных лучах.
– Мы обещали помочь Цезарю ради твоего возвращения, но он – наш враг, и чести в том нет. Мы согласились между собой, что решать должен ты, Мандубракий.
Царь триновантов засмеялся:
– Конечно, мы поможем Цезарю! У кассов много земли и скота. Все это будет нашим, когда Кассивелаун падет. Римляне думают, что используют нас, но это мы используем римлян.
Тут вернулся начальник. Конь под ним нервно плясал и прядал ушами.
– Недалеко отсюда находится оставленный Цезарем лагерь, – сообщил он, старательно выговаривая слова на белгском наречии атребатов.
Мандубракий, вскинув брови, посмотрел на сородича:
– Что я тебе говорил?
Он обратился к римлянину:
– Лагерь цел?
– Абсолютно цел, до самого Тамезиса.
Тамезис – большая река, глубокая и широкая, с сильным течением. Однако имелось одно место, где ее можно было перейти вброд. На северном берегу начинались земли кассов, но никто не защищал сейчас ни переправу, ни выжженные поля. Перейдя Тамезис на рассвете, колонна продолжила путь по неровной местности, где холмы поросли деревьями, а низины были распаханы или использовались как пастбища. Потом конники свернули на северо-восток и миль через сорок вступили во владения триновантов, где на межевой возвышенности стоял лагерь Цезаря, последний бастион Рима на чужой стороне.
Мандубракий никогда прежде не видел великого человека, хотя был взят в заложники по его повелению. Когда его привезли в амбианскую Самаробриву, Цезарь уже убыл в Заальпийскую Галлию, а потом перебрался в порт Итий с намерением тут же отплыть. Лето обещало быть необычайно жарким – хороший знак для перехода через предательский пролив. Но все пошло наперекор плану. Треверы, племя в кельтской Галлии, делали попытки к примирению с германцами, жившими по ту сторону Рейна, и два их властителя, два вергобрета, пребывали в раздоре. Один, Цингеториг, считал, что выгоднее подчиниться диктату Рима, а другой, Индутиомар, полагал, что надо поднять мятеж при поддержке германцев. Тут появился Цезарь с четырьмя легионами, двигаясь, как всегда, быстрее, чем могли поверить галлы. О мятеже пришлось забыть. Вергобретов заставили пожать руки друг другу. Цезарь взял еще заложников, включая сына Индутиомара, потом вернулся в порт Итий, подгоняемый шквалистым северо-западным ветром, дувшим без перерыва уже двадцать пять дней. Думнориг, предводитель эдуев, попытался сбежать, но поплатился жизнью. Так что в результате великий человек отбыл в Британию на два месяца позже намеченного срока, чем был весьма раздражен.
Хорошо знавшие его легаты понимали, что он еще не успокоился, но, когда Цезарь пришел, чтобы приветствовать Мандубракия, никто, кроме тех, кто ежедневно общался с командующим, не заподозрил бы этого. Очень высокий для римлянина, Цезарь был одного роста с царем, но отличался от него сухощавостью и рельефностью мускулатуры, особенно на ногах (сильные ноги вообще были характерны для римлян, привычных к длительным переходам). Дополняла образ искусно изготовленная кожаная кираса и юбка из свисающих кожаных ремней. Опоясан великий человек был не мечом или кинжалом, а алой лентой, завязанной ритуальными узлами, – знак его высокого положения. А еще он был светловолосым, как галл! Его редкие бледно-золотистые волосы, зачесанные с затылка на лоб, чуть вились. Брови, тоже бледные, контрастировали с обветренной, цвета старого пергамента, кожей. Губы чувственные, капризные. Нос длинный, с горбинкой. Но больше всего говорили о нем глаза, бледно-голубые, с тонкими черными ободками. Взгляд их был проницательным, холодным, всеведущим. Мандубракий подумал, что Цезарь отлично знает, почему выбрал именно триновантов.
– Я не скажу тебе: добро пожаловать на твою собственную землю, Мандубракий, – произнес Цезарь на хорошем языке атребатов, – но надеюсь, что это скажешь мне ты.
– С радостью, Гай Юлий.
Великий человек засмеялся, демонстрируя прекрасные зубы.
– Нет, просто Цезарь, – поправил он. – Все знают меня как Цезаря.
Вдруг возле него возник Коммий. Он широко улыбнулся Мандубракию, подошел к нему, обнял, похлопал. Но когда полез с поцелуями, Мандубракий слегка отстранился. Червь! Римская кукла! Собачка Цезаря. Царь атребатов, предавший Галлию! Рыщет всюду, выполняя приказы врага. Сдал, кстати, и его, Мандубракия. И неустанно хлопочет, сея разногласия среди вождей бриттов и обеспечивая Цезарю необходимую поддержку.
Начальник кавалерии, воспользовавшись заминкой, протянул Цезарю небольшой красный футляр, который капитан баркаса передал ему с таким почтением, словно это был подарок римских богов.
– От Гая Требатия, – сказал он, отсалютовал и отступил, не сводя преданных глаз с лица командующего.
«Клянусь Дагдой, они и впрямь любят его», – с удивлением подумал Мандубракий. Значит, правда все то, что болтали в Самаробриве. Они, как один, умрут за него. И он этим пользуется. Потому он и улыбнулся начальнику конницы и назвал, как друга, по имени. Тот теперь никогда этого не забудет. И будет рассказывать своим внукам, если, конечно, доживет до их появления. Но Коммий не любит Цезаря. И не только потому, что ни один длинноволосый галл не может его любить. Единственный человек, которого любит Коммий, – это он сам. Чего же тогда добивается Коммий? Стать верховным вождем в Галлии, как только Цезарь вернется в Рим?
– Позднее мы поговорим за обедом, Мандубракий, – сказал Цезарь, вскинув в прощальном жесте руку с письмом, после чего повернулся и направился к шатру, стоявшему на искусственном возвышении и увенчанному алым флагом.
Обстановка внутри шатра мало чем отличалась от обстановки в жилище самого младшего из военных трибунов: складные стулья, складные столы, разборный стеллаж с отделениями для свитков. За одним столом сидел личный секретарь командующего Гай Фаберий, склонившись над кодексом. Кодексы были нововведением Цезаря, которому надоело, что свитки постоянно сворачиваются и приходится держать их обеими руками или ставить на них грузы. Он стал пользоваться листами фанниевой бумаги, которые велел сшивать по левому краю, чтобы законченную работу можно было перелистать. Получавшиеся прошитые стопки он называл кодексами, уверяя, что они гораздо удобней, чем свитки. Для легкости чтения он разбил каждый лист на три столбца, вместо того чтобы тянуть строку чуть ли не до обреза бумаги. Он задумал это для донесений сенату, всегда казавшемуся ему сборищем полуграмотных недоумков. Мало-помалу кодексы стали преобладать в канцелярии Цезаря. Однако у кодексов был серьезный недостаток, который сводил на нет их преимущество перед свитками: при многократном использовании листы отрывались и легко терялись.
За другим столом работал самый преданный клиент Цезаря, Авл Гирций. Человек простого происхождения, но очень способный, Гирций накрепко связал свою судьбу со звездой Цезаря. Невысокий, подвижный, он сочетал в себе любовь к бумажной работе с такой же любовью к сражениям и превратностям военной жизни. Гирций ведал перепиской Цезаря с Римом, стараясь, чтобы тот знал обо всем, что там происходит, даже находясь в сорока милях к северу от реки Тамезис, в самой западной точке мира.
Когда вошел командующий, мужчины подняли голову, но не позволили себе улыбнуться. Командующий пребывал в дурном настроении. Однако сейчас он улыбнулся сам, указывая на красный футляр.
– Письмо от Помпея, – пояснил Цезарь, направляясь к единственному по-настоящему красивому предмету мебели в командирской палатке – курульному креслу из слоновой кости, свидетельствующему о высоком положении его владельца.
– Ты и без того уже знаешь все последние новости, – заметил Гирций с ответной улыбкой.
– Верно, – откликнулся Цезарь, ломая печать, – но у Помпея особый стиль, мне нравятся его письма. Он теперь не такой нахальный и необузданный, каким был до женитьбы на моей дочери, однако свой стиль сохранил.
Он сунул два пальца в футляр и вытащил свиток.
– О боги, да оно длинное! – воскликнул он и наклонился, чтобы поднять с деревянного пола упавшую бумажную трубочку. – Нет, оказывается, здесь два письма. – Цезарь заглянул в конец каждого и усмехнулся. – Одно написано в секстилии, другое в сентябре.
Сентябрьское письмо легло на стол, но и более раннее Цезарь не спешил читать. Полог шатра был откинут, и Цезарь застыл, глядя в залитый дневным светом проем.
«Что я делаю здесь, оспаривая право на владение несколькими полями пшеницы и стадом косматых быков у раскрашенного синей краской реликта из стихов Гомера? У того, кто все еще катит на битву в колеснице, окруженный лающими мастифами, с арфистом, восхваляющим его в своих песнях?
Да, собственно, я это знаю. Мое dignitas возвратило меня сюда, ибо в прошлом году невежественные обитатели этой глухомани решили, что навсегда изгнали Гая Юлия Цезаря со своих берегов. И ликовали, думая, что одержали победу над Цезарем. Я вернулся только затем, чтобы показать им, что Цезарь непобедим. Я покину этот остров, лишь полностью подчинив Кассивелауна, и никогда сюда более не вернусь. Но они запомнят меня. Я дам их арфисту новые темы для песнопений: приход Рима, исчезновение колесниц на легендарном западе друидов. И я останусь в Галлии до тех пор, пока каждый косматый ее обитатель не признает меня, а значит, и Рим своим повелителем. Ибо я – это Рим. А моему зятю, хотя он и старше меня на шесть лет, никогда этого не достичь. Зорче сторожи свои ворота, дорогой Помпей Магн. Недолго тебе осталось быть Первым Человеком в Риме. Цезарь идет».
Он выпрямился, чуть выдвинул правую ногу вперед, а левую завел за ножку курульного кресла и развернул письмо Помпея, помеченное секстилием.
Мне жаль, Цезарь, но я должен сказать тебе, что никаких признаков курульных выборов у нас нет и в помине. О, Рим, конечно, будет существовать и даже иметь какое-то правительство, поскольку нам удалось-таки ввести в должность несколько плебейских трибунов. Но это был цирк! Катон, как всегда, в него влез. Сначала он использовал свое положение претора, чтобы заблокировать плебейские выборы, потом строго предупредил своим истошным голосом, что лично проверит каждую табличку выборщика, брошенную в корзину, и, обнаружив малейшую подтасовку, тут же предаст виновного суду. До смерти запугал всех кандидатов!
Конечно, все это произошло из-за договора, который мой идиот Меммий заключил с Агенобарбом. За всю историю наших продажных консульских выборов никогда еще не было так много взяток и так много людей, участвующих в подкупе! Цицерон шутит, что суммы, переходившие из рук в руки, были так велики, что если брать с них проценты – от четырех до восьми, то можно было бы набить казну доверху. Он не так уж не прав, наш шутник. Я думаю, Агенобарб, наблюдавший за выборами как консул (Аппий Клавдий, будучи патрицием, не может этого делать), теперь полагает, что он стал всесильным. А у него есть идея – сделать моего Меммия и Домиция Кальвина консулами в следующем году. И вообще вся эта шайка – Агенобарб, Катон и Бибул – спит и видит, как бы лишить тебя воинских полномочий, а заодно и провинций. Рыщут повсюду, вынюхивают, как собаки дерьмо. А имея своих консулов и нескольких активных плебейских трибунов, им будет проще тебя доставать.
Ладно, сначала все-таки о Катоне. Время шло, и уже начало казаться, что у нас не будет ни консулов, ни преторов, и тут все вдруг вспомнили, что нам нужны хотя бы плебейские трибуны. Ведь Рим может обойтись без старших магистратов. Пока существует сенат, чтобы контролировать казну, и плебейские трибуны, чтобы проводить необходимые законы, кому нужны консулы и преторы? Разве что когда консул ты или я. Это другое дело.
Короче, кандидаты в плебейские трибуны всей толпой пошли к Катону и умоляли, чтобы он отступился. И в самом деле, Цезарь, как ему выйти из этого положения? Однако они не ограничились просьбами. Катону было сделано предложение принять от каждого кандидата по полмиллиона сестерциев на хранение и лично проследить за ходом выборов. Если обнаружится, что какой-то кандидат сплутовал, то его залог останется у Катона как штраф. Очень довольный собой, Катон согласился. Но он слишком умен, чтобы взять деньги. Он заставил каждого дать ему расписку, чтобы они не могли обвинить его в присвоении чужих денег. Хитро обстряпано, да?
Наконец настал день голосования. На три нундины позднее. Катон вился над Римом, как ястреб. Ты должен признать, что нос его точь-в-точь клюв! Он таки клюнул им одного кандидата, сняв бедолагу с дистанции и заграбастав оговоренный штраф. Вероятно, он думал, что все римляне упадут в обморок от его неподкупности, но… просчитался. Ничего подобного не случилось. Наоборот, вожди плебса теперь злы на него. Они говорят, что это незаконно и недопустимо, когда претор председательствует не в своем суде, а превышает полномочия и ведет себя как никем не назначенный надзиратель за ходом избирательного процесса.
Всадников, этих столпов делового мира, приводит в ярость даже упоминание о Катоне, а народ Рима считает его бесноватым за полуголый вид и постоянное похмелье. А ведь он как-никак претор суда по делам о вымогательстве! И судит людей, занимающих положение, достаточно высокое, чтобы управлять провинцией. Например, таких как Скавр, нынешний муж моей бывшей жены, патриций древнейшего рода! Но как поступает Катон? Тянет и тянет с разбирательством, всегда слишком пьяный, чтобы председательствовать на заседании, а когда трезвеет, то появляется на людях босой, в тоге на голое тело и с выпученными глазами. Я понимаю, что на заре Республики мужчины не носили ни обуви, ни туник, но не думаю, что эти образцы добродетели делали карьеру на Форуме с похмелья.
Я просил Публия Клодия испортить Катону жизнь, и Клодий действительно пытался. Но в конце концов он сдался и, придя ко мне, сказал, что, если я и правда хочу досадить Катону, мне нужно вернуть Цезаря из Галлии.
Кстати, Публий Клодий, вернувшись в апреле из поездки в Галатию, где он занимался сбором долгов, купил у Скавра дом за пятнадцать с половиной миллионов! Нынешние цены на недвижимость для меня такая же тайна, как для весталки совокупление. Сегодня можно выложить полмиллиона за захудалую будку с ночным горшком. Но Скавру эти денежки пригодятся. Он обеднел, после того как, будучи эдилом, устроил игры, а когда попытался пополнить свой кошелек в провинции, то угодил под суд. И под судом и пребудет, пока срок Катона не кончится, поскольку дела в суде Катона идут очень медленно.
А Публий Клодий просто сорит деньгами. Конечно, ему необходим новый дом, ведь Цицерон, перестроив свое обиталище, сделал его таким высоким, что закрыл вид из окон дома Публия Клодия. Так сказать, отомстил. Кстати, дворец Цицерона – памятник плохому вкусу. И при этом, подумать только, он имел наглость сравнить небольшой чудный особнячок, построенный мной возле моего же театрального комплекса, с лодчонкой, пришвартованной к красавице-яхте!
Похоже, Клодий содрал-таки денежки с царевича Брогитара. Собирать долги лично – это лучше всего. А я в его отсутствие получил передышку. Хотя сейчас мне полегче, чем раньше. Я ведь почти не надеялся выжить после твоего отбытия в Галлию, когда банды Клодия стали охотиться на меня. Я боялся выйти из дому. Но теперь даже не знаю, правильно ли поступил, наняв Милона, чтобы его уличные громилы окоротили этих бандитов. Милон приосанился и стал строить грандиозные планы. О, я знаю, он Анний, по крайней мере в результате усыновления, но все же непроходимый осел, годный только на то, чтобы таскать наковальни и мешки с песком.
Знаешь, что он удумал? Пришел и попросил меня поддержать его, когда он начнет выдвигать себя в консулы!
«Дорогой Милон, – ответил я, – я не могу этого сделать! Это означало бы публично признать, что ты и твои уличные банды работаете на меня!» Он сказал, что это действительно так, ну и что же? Я ответил резкостью и был вынужден указать ему на дверь.
Кстати, я рад, что Цицерону удалось обелить твоего Ватиния – как ни злился Катон, председательствовавший в суде! Этот Катон, мне кажется, готов сойти в Гадес и схватиться там с Цербером, если это поможет ему как-нибудь тебе навредить. Но это ладно, а странность в том, что и сам Цицерон ненавидел Ватиния и взялся его защищать лишь потому, что сильно тебе задолжал! Но после процесса что-то произошло, и они оба теперь походят на двух школьниц. Обнимаются, держатся за руки, всегда и всюду вдвоем. Странная пара, но, правда, забавно видеть их постоянно хихикающими. То и дело подначивают друг друга, ибо оба потрясающе остроумны.
Здесь у нас очень жаркое лето, никто такого не помнит. И нет дождей. Селяне страдают. Каждый изворачивается как может, жители Интерамны, решая проблему, соединили каналом болотистое озеро Велин с рекой Нар. Но беда в том, что, как только озеро обмелело, высохли, представь себе, и Розейские поля. Лучшие пастбища Италии гибнут! Старый Аксий из Реаты пришел ко мне и потребовал, чтобы сенат повелел жителям Интерамны засыпать прорытый канал. Так что я собираюсь поставить этот вопрос на ближайшем собрании и, если потребуется, настоять на принятии закона, запрещающего подобное своевольство. Мы с тобой люди военные и понимаем стратегическую важность Розеи. Где еще можно выращивать такое количество превосходнейших мулов для нужд римской армии? Засуха – это одно, а Розея – другое. Риму нужны мулы. Но Интерамна полна ослов.
А теперь – нечто странное. Только что умер Катулл…
Цезарь издал приглушенный возглас. Гирций и Фаберий подняли голову, но тут же опустили, взглянув на его лицо. Когда туман перед глазами рассеялся, Цезарь вернулся к письму.
Ты еще услышишь об этом от его отца, который ждет твоего возвращения в Галлию, но я подумал, что тебе нужно знать. Возможно, беднягу подкосил разрыв с Клодией. Как Цицерон однажды назвал ее? «Медея с Палатина». Недурно. Но мне больше нравится «Клитемнестра по договорной цене». Интересно, правда ли, что она убила Целера в ванне? Так все говорят.
Я знаю, ты очень сердился на его злобные памфлеты в твой адрес, после того как ты назначил Мамурру новым praefectus fabrum. Обидно, конечно. Весь Рим хохотал! Даже Юлия позволила себе пару раз хихикнуть, когда их читала, а у тебя нет преданнее сторонника, чем дочь. Она сказала, Катулл не может простить тебе того, что очень плохого поэта ты оценил выше его. А также того, что служба легатом у моего Меммия в Вифинии не принесла никакой выгоды, а ведь Катулл мечтал о несметных богатствах. Мне нужно было сказать ему, что Меммий прижимистей рыбьего ануса. А ты даже к младшим своим трибунам, говорят, очень щедр.
Ну да, ну да, ты справился с ситуацией. Когда ты не справлялся? Тем более что его tata – твой близкий друг. Он послал за Катуллом. Катулл приехал в Верону. Отец сказал: «Помирись с моим другом Цезарем». Катулл извинился, и ты совершенно очаровал беднягу. Не знаю, как ты это делаешь. Юлия говорит, что это врожденное. Во всяком случае, когда Катулл вернулся в Рим, больше никаких памфлетов о Цезаре не появлялось. Но он изменился. Причем очень сильно. Я сам это видел, ведь Юлия хороводится с литераторами и драматургами. Должен сказать, мне они нравятся. Что до Катулла, то в нем словно что-то перегорело. Он казался усталым, печальным, но он не покончил с собой. А просто угас, как лампа, в которой кончилось масло…
Как лампа, в которой кончилось масло… Слова на бумаге снова слились в одно сплошное пятно. Цезарь был вынужден выждать, пока не уйдут подступившие к глазам слезы.
«Мне не следовало этого делать. Он был таким ранимым, и я на этом сыграл. Он любил отца, был хорошим сыном. И подчинился отцовской воле. Я думал, что проливаю бальзам на его рану, пригласив на обед, демонстрируя широкие познания его поэтического творчества и давая им высокую оценку. Обед прошел хорошо. Мне так понравились его утонченность и ум. И все же не стоило этого делать. Я убил его animus, лишил смысла жизни. Но у меня не было выбора. Над Цезарем потешаться нельзя. Никому. Даже самому замечательному поэту в истории Рима. Он унизил мое dignitas, мой личный вклад в славу Рима. Потому что его памфлеты не скоро забудут. Лучше бы он вообще не упоминал моего имени, чем высмеивал меня. Он унизил меня, сделал всеобщим посмешищем, его вирши забудут не скоро. И все из-за такого ничтожества, как Мамурра. Вздорный поэт и плохой человек. Но у него все задатки прекраснейшего снабженца. Так говорит Вентидий, погонщик мулов, приглядывающий за ним».
Слезы ушли. Логика восторжествовала. Он опять мог читать.
Хотелось бы мне сказать, что Юлия чувствует себя хорошо, но это не так. Я говорил ей, что детей нам не надо. У меня два сына от Муции. И еще дочка. Та сейчас расцвела, выскочив за Фавста Суллу. Он только-только вошел в сенат. Хороший юноша. Ничем не напоминает отца. Наверное, это неплохо.
Но у женщин есть этот пунктик. В смысле детей. Поэтому Юлия уже на шестом месяце. Так толком и не оправившись после ужасного выкидыша, который случился, когда я участвовал в консульских выборах. Она сама как дитя! Каким сокровищем ты одарил меня, Цезарь. Я никогда не устану благодарить тебя. Никогда. И конечно, только ее здоровье заставило меня поменяться с Крассом провинциями. В Сирию я должен был бы отправиться сам. А Испаниями можно управлять и из Рима, через легатов. Афраний с Петреем абсолютно надежны, они даже пукнуть не осмелятся, пока я не разрешу.
А с Крассом на этот раз мы поладили много лучше, чем в первый срок нашего совместного консульства. Он сейчас в Сирии. Интересно бы знать, как у него там дела. Говорят, он выжал две тысячи талантов золотом из главного храма в Гиеросалиме. Что можно сделать с человеком, чей нос буквально чует золото? Я в свое время был в этом храме, который привел меня в ужас. Даже если бы в нем были собраны все сокровища мира, я ничего бы оттуда не взял.
Евреи прокляли Красса. И плебейский трибун Атей Капитон проклял его посреди Капенских ворот, когда Красс уезжал в прошлые Ноябрьские иды. Капитон сел у него на пути и отказался сдвинуться с места. Я вынужден был приказать моим ликторам его увести. Хочу отметить, что Красс с большой легкостью настраивает людей против себя, совершенно не думая о последствиях. Уверен, что он не имеет представления, сколько хлопот ему могут доставить парфяне. Он по-прежнему считает, что парфянский катафракт не страшнее армянского. Хотя он видел только рисунок. Человек и конь – оба покрыты железом с головы до ног. Брр!
На днях виделся с твоей матушкой. Она приходила к нам отобедать. Какая чудесная женщина! И не только по складу характера и уму. Она все еще поразительно хороша, хотя и призналась, что ей за семьдесят. А выглядит на сорок пять, и ни на день старше. Понятно, от кого Юлия унаследовала красоту. Аврелия тоже обеспокоена состоянием своей внучки, хотя, как ты знаешь, ничуть не похожа на курицу-квохтушку…
Цезарь вдруг засмеялся. Гирций с Фаберием испуганно дернулись. Так весело командующий не смеялся уже давно.
– Послушайте-ка! – воскликнул он, оторвавшись от свитка. – Никто вам больше такого не сообщит!
Он склонил голову и начал читать вслух, быстро и без запинок, что нисколько не удивило слушателей. Цезарь был единственным известным им человеком, способным с первого взгляда разбирать каракули любой сложности.
– «А теперь, – произнес он дрожащим от сдерживаемого смеха голосом, – я расскажу тебе о Катоне и Гортензии. Гортензий уже не так молод, как раньше, и стал повадками походить на Лукулла. Слишком много экзотической пищи, неразбавленного вина и странных приправ, таких как анатолийский мак и африканские грибы. Да, мы все еще терпим его в судах, но как адвокат он давно уже сдал. Кем бы он мог стать сейчас, приближаясь к семидесяти? Я помню, что он поздно стал претором и консулом, всего несколько лет назад. Он так и не простил мне, что я отложил его консульство на год, когда занял эту должность в тридцать шесть лет. Как бы то ни было, Гортензий решил, что действия Катона на выборах трибунов были самой большой победой mos maiorum с тех пор, как Луций Юний Брут (почему мы всегда забываем Валерия?) основал Республику. Поэтому он обхаживал Катона и попросил руки его дочери Порции. Он заявил, что уже и не думал жениться после того, как Лутация умерла, пока не увидел, как Катон разделался с плебсом. В ночь после выборов сам Юпитер Всеблагой Всесильный явился ему во сне и повелел породниться с Марком Катоном через брак. Естественно, Катон не мог согласиться после того шума, какой он поднял, когда я женился на Юлии, которой было семнадцать лет. А Порции нет и семнадцати. Кроме того, Катон всегда мечтал выдать ее за своего племянника Брута. Гортензий, конечно, богат, но его капиталы не могут сравниться с состоянием Брута, не так ли? Поэтому Катон сказал: нет, Гортензий не может жениться на Порции. Тогда Гортензий спросил, не может ли он жениться на одной из Домиций. Сколько у Агенобарба и сестрицы Катона безобразных прыщавых девиц с волосами цвета пылающей пакли? Две? Три? Четыре? Не имеет значения, потому что Катон и в этом случае сказал „нет“».
Цезарь поднял голову. Глаза его смеялись.
– Не знаю, чем кончилась эта история, но я, безусловно, заинтригован, – сказал Гирций, широко улыбаясь ему.
– Я тоже не знаю, – откликнулся Цезарь. – Продолжим. «Итак, поддерживаемый рабами, Гортензий ушел, совершенно разбитый. Но наутро вернулся с блестящей идеей. Раз он не может жениться ни на Порции, ни на одной из Домиций, нельзя ли ему взять в супруги жену Катона?»
Гирций ахнул:
– Марцию? Дочь Филиппа?
– Именно, – торжественно подтвердил Цезарь.
– Кажется, твоя племянница Атия замужем за Филиппом?
– Да. Филипп был близким другом первого мужа Атии, Гая Октавия. И когда кончился срок траура, он женился на ней. Но поскольку он взял ее с падчерицей, сыном и дочкой, то, мне кажется, расставание с Марцией не было для него большой утратой. Он даже заметил, что, отдав ее за Катона, будет одной ногой стоять в моем лагере, а другой – в лагере boni, – пояснил Цезарь, вытирая выступившие от смеха слезы.
– Читай дальше, – попросил Гирций. – Ты нас заинтриговал.
Цезарь продолжил:
– «И Катон сказал „да“! Честно, Цезарь, он согласился! Он согласился развестись с Марцией и выдать ее за Гортензия при условии, что Филипп тоже будет не против. И оба пошли к Филиппу, чтобы спросить, согласен ли тот на развод Катона с его дочерью, дабы та могла выйти замуж за Квинта Гортензия и осчастливить старика на весь его век. Филипп почесал подбородок и сказал „да“! При условии, что Катон самолично передаст свою жену новоявленному жениху. Все было обстряпано в один миг. Катон развелся с Марцией и присутствовал на свадебной церемонии. Весь Рим был потрясен! Каждый день приносит что-нибудь странное, но комбинация Катон – Марция – Гортензий – Филипп уникальна в анналах римских скандалов, следует это признать. Все – включая меня! – считают, что Гортензий отдал Катону и Филиппу половину своего состояния, хотя и тот и другой это решительно отрицают».
Цезарь положил свиток на колени и покачал головой.
– Бедная Марция, – тихо произнес Фаберий.
Цезарь удивленно посмотрел на него:
– Я бы так не сказал.
– Она, наверное, мегера, – предположил Гирций.
– Нет, почему же, – возразил Цезарь, хмурясь. – Я видел ее, правда в детстве, когда ей было лет тринадцать-четырнадцать. Смуглая, как и все в той семье, но очень симпатичная. Приятная малышка, как выразились бы Юлия и моя мать. Очарованная Катоном, как позже писал мне Филипп. Я тогда торчал в Луке с Помпеем и Марком Крассом, отбиваясь от попыток отобрать у меня звание командующего и провинции. Она была помолвлена с Корнелием Лентулом, но тот умер. А тут после аннексии Кипра вернулся Катон с двумя тысячами сундуков золота и серебра, и Филипп – он был консулом в тот год – пригласил его на обед. Марция и Катон с первого взгляда влюбились друг в друга. Катон попросил ее руки, что вызвало в семье легкое замешательство. Атия пришла в ужас, но Филипп, подумав, решил занять выжидательную позицию. То есть, будучи женатым на моей племяннице, стать еще тестем моего злейшего врага. – Цезарь пожал плечами. – Филипп выиграл.
– Наверное, Катон и Марция разлюбили друг друга, – предположил Гирций.
– Нет. Явно нет. Иначе Рим не был бы потрясен.
– Тогда почему? – спросил Фаберий.
Губы Цезаря скривились в неприятной ухмылке.
– Насколько я знаю Катона, могу предположить, что он считает свою страсть к Марции слабостью.
– Бедный Катон! – сказал Фаберий.
Цезарь лишь хмыкнул и обратился к письму:
– «И это все, Цезарь. На данный момент. С сожалением услышал, что Квинт Лаберий Дур был убит, как только высадился в Британии. Какие великолепные донесения ты нам присылаешь!»
Он положил на стол тут же свернувшийся свиток и взял в руки меньший, помеченный сентябрем. Развернул его и нахмурился. Некоторые слова были смазаны, будто на них пролили воду, прежде чем чернила впитались в папирус.
Атмосфера в комнате ощутимо переменилась, словно позднее солнце, все еще ярко светившее, внезапно зашло. Гирций поднял голову, у него мурашки побежали по коже. Фаберий задрожал.
Цезарь был прежним, но словно окаменел. Застыли даже его глаза, прямого взгляда которых не мог вынести ни один человек.
– Оставьте меня, – сказал он ровным голосом.
Не говоря ни слова, Гирций с Фаберием встали и выскользнули из палатки, бросив прямо на рукописях свои перья, с которых стекали чернила.
О Цезарь, как мне это перенести? Юлия умерла. Моя чудесная, красивая, нежная девочка умерла. Умерла в двадцать два года. Я закрыл ей глаза и вложил золотой денарий в губы, чтобы у нее было лучшее место в скорбной ладье Харона.
Она умерла, пытаясь родить мне сына. На седьмом месяце – ничто этого не предвещало. Разве что она была слишком слаба. Она никогда не жаловалась, но я-то видел. И у нее начались роды. Она родила. Мальчик на два дня пережил свою мать. Она умерла от потери крови. Невозможно было остановить кровотечение. Ужасная смерть! Она не теряла сознания до последнего, просто слабела, бледнела, хотя была беляночкой от рождения. Все разговаривала со мной и с Аврелией. Вспоминала, чего не сделала, брала с меня слово, что я обо всем позабочусь. О всякой всячине, например о необходимости проветрить зимние вещи, хотя до этого еще несколько месяцев. И все повторяла, как любит меня. И как любила – с самого детства. И какой счастливой я ее сделал. Она уверяла, что у нее ничего не болит. Как она могла говорить это, Цезарь? Я же сам причинил ей эту боль, которая убила ее. Я и тощее, словно ободранное существо. Но я рад, что этот ребенок умер. Мир никогда не будет готов к появлению человека, в котором течет твоя и моя кровь. Он раздавил бы этот мир, как таракана.
Она не оставляет меня. Я плачу и плачу, а слезы все не кончаются. Жизнь до последнего теплилась в ее глазах, таких огромных и голубых, полных любви. О Цезарь, как мне быть? Мы прожили вместе шесть стремительных лет. Я думал, что уйду первым. Мне и в голову не приходило, что все так скоро кончится. Шесть лет – это слишком мало. Малостью были бы даже и двадцать шесть лет. О Цезарь, как же мне больно! Лучше бы это был я. Но она взяла с меня клятву, что я не последую за ней. Я обречен жить. Но как? Как я смогу жить без нее? Я ведь все помню! Как она выглядела, как говорила, как пахла, что чувствовала, как ела. Она, словно лира, звенит во мне и звенит.
Но все это ни к чему. Слезы застилают глаза, я не вижу бумаги. А мне нужно рассказать тебе все. Я знаю, тебе перешлют это письмо в Британию. Первым делом я попросил среднего сына твоего родственника Котты, Марка – он претор в этом году, – выступить в сенате и просить отцов, внесенных в списки, устроить моей девочке государственные похороны. Но этот mentula, этот cunnus Агенобарб и слушать не захотел. А Катон поддакивал ему с курульного возвышения. Женщинам не полагаются государственные похороны. Позволить так похоронить мою Юлию – значит осквернить римскую государственность. Им пришлось держать меня, иначе я убил бы этого verpa Агенобарба голыми руками. У меня до сих пор чешутся руки при одной мысли о его горле. Обычно сенат не идет против воли старшего консула, но тут все вышло иначе. Сенаторы почти единогласно проголосовали за предложение Марка.
У нее было все самое лучшее, Цезарь. Служащие похоронных контор все делали с любовью. Она была такая красивая, но белая как мел. И потому ей чуть подкрасили кожу. А волосы уложили так, как она любила, и закрепили гребнем с самоцветами. Тем самым, что я подарил ей на двадцать второй день рождения. Восседая на черных с золотом подушках похоронных носилок, она казалась богиней. Не было надобности прятать ее в тайник под носилками и выставлять на обозрение куклу. Я распорядился, чтобы облачение на ней было ее любимого цвета, цвета голубой лаванды. Именно в таком платье я впервые увидел ее и подумал, что она Диана ночи.
Процессия ее предков была внушительнее, чем у любого из римлян. В головной колеснице помещалась актриса Коринна с маской Юлии на лице. У Венеры Победительницы над моим театром лицо моей Юлии. Коринна тоже была обряжена в золотое платье Венеры. Мы никого не забыли – от первого консула из рода Юлиев до Квинта Марция Рекса и Цинны. Сорок колесниц предков, в каждую впряжены черные, как обсидиан, лошади.
Я был там, хотя и не должен был пересекать померий и входить в город. Я уведомил ликторов тридцати курий, что на этот день принимаю империй уполномоченного по зерну. Это давало мне право пересечь священную границу. Думаю, Агенобарб был напуган. Иначе бы он попытался воспрепятствовать мне.
Что его напугало? Отвечу: огромные толпы на Форуме. Цезарь, я никогда ничего подобного не видал. Даже на похоронах Суллы. Ведь тогда все пришли просто из любопытства, посмотреть, как хоронят Суллу. А в этот раз люди пришли, чтобы плакать. Тысячи тысяч римлян, в основном простых горожан. Аврелия говорит, это потому, что Юлия росла в Субуре, среди них, и они обожали ее. Так много евреев! Я не знал, что в Риме их столько. Длинные волосы, курчавые бороды. Их ни с кем не спутаешь. Я знаю, ты тоже рос среди них и всегда был к ним добр. Однако Аврелия утверждает, что они пришли ради Юлии, а не в угоду тебе.
Я попросил Сервия Сульпиция Руфа сказать прощальное слово с ростры. Не знаю, кого бы предпочел ты сам. Но я не мог заставить себя просить о том Цицерона. О, он бы, конечно, сказал! Ради меня, если не ради тебя. Но вряд ли говорил бы от сердца. Он не может не играть на публику. А Сервий – искренний человек, патриций и лучший оратор, чем Цицерон, когда речь не идет о политике и подлогах.
Но все это не имеет значения. Прощальное слово сказано не было. Правда, от нашего дома до Форума все шло в соответствии с ритуалом. Сорок колесниц с предками были встречены в благоговейном молчании, слышен был только плач тысяч женщин. Но когда Юлию понесли мимо Регии к Нижнему форуму, все ахнули, вскинулись, потом пронзительно закричали! Я меньше испугался, впервые услышав улюлюканье дикарей. Толпа хлынула к носилкам. Со всех сторон, разом. Никто не мог этого остановить. Агенобарб и некоторые плебейские трибуны пытались, но их оттеснили. Затем в центре площади стали сооружать погребальный костер. Люди бросали туда свои вещи: обувь, одежду, свитки, пергамент, все, что может гореть. Поленья передавали с задних рядов поверх голов – даже не знаю, откуда их брали.
Они сожгли ее прямо на Римском форуме. Агенобарба, стоявшего на ступенях сената, едва не хватил удар. А бедный Сервий, собиравшийся произнести прощальную речь, так и замер с открытым ртом прямо на ростре, куда сбежались актеры, испуганные, как жены варваров, завидевшие наступающий легион. По всему Риму мчались, закусив удила, черные лошади, таща за собой опустевшие колесницы, а главные плакальщицы смогли дойти только до храма Весты, где и остановились, не зная, как быть.
Но тем все не кончилось. В толпе были плебейские вожди. Они смело подступили к Агенобарбу и заявили, что прах Юлии должно похоронить на Марсовом поле. Рядом с Агенобарбом стоял Катон, и они оба возмутились. Женщина? Среди героев? Этому никогда не бывать! Только через их трупы! Толпа подходила все ближе и ближе, пока наконец Агенобарб и Катон не поняли, что они и правда станут трупами, если не уступят. Они вынуждены были дать клятву.
Итак, моя девочка будет похоронена на Марсовом поле, где лежат все великие римляне. Я еще не до конца пришел в себя, но постараюсь устроить все быстро. Даю слово, это будет самая величественная могила. Плохо лишь то, что сенат запретил погребальные игры в ее честь. Но все боятся толпы.
Мой долг выполнен. Я обо всем рассказал. Твоя мать тяжело переживает утрату. В первом письме я говорил, что она выглядит на сорок пять. Теперь она превратилась в старуху. Весталки ухаживают за ней. И твоя маленькая жена Кальпурния. Она очень страдает. Они с Юлией были подругами. О, опять эти слезы! Из меня вытек, наверное, океан. Моя девочка ушла навсегда. Как мне вынести это?
«Как мне вынести это?»
Потрясение было столь велико, что глаза Цезаря оставались сухими.
«Как мне вынести это? Мой цыпленок, моя идеальная жемчужина. Мне скоро сорок шесть, а моя дочь умерла при родах. Так, пытаясь родить мне сына, умерла и ее мать. Все повторяется! Бедная матушка! Как я смогу посмотреть ей в лицо? Как вынесу соболезнования? Они все захотят посочувствовать, все будут искренними. Но как же мне быть? Дать им увидеть свои глаза? Глаза человека, раненного в самую душу? Показать им свою боль? Я не могу этого допустить. Моя боль – это моя боль, и больше ничья. Я уже пять лет не видел мою дочурку и теперь никогда не увижу. Я едва могу вспомнить, как она выглядела. Помню лишь, что она никогда меня не огорчала. Говорят, что только хорошие люди умирают молодыми. Только идеальных людей никогда не безобразит старость. О моя Юлия! Как мне вынести это?»
Он поднялся с курульного кресла, хотя совсем не чувствовал ног. Письмо, написанное в секстилии, осталось лежать на столе. Сентябрьское он сжал в руке и покинул палатку, чтобы окунуться в жизнь военного лагеря и не оставаться на грани безумия, за которой лишь пустота. Лицо его было спокойным. Когда Авл Гирций, бесцельно слонявшийся у флагштока, встретился с ним взглядом, то увидел обычные глаза Цезаря, скорее невозмутимые, нежели холодные. Всеведущие, как заметил Мандубракий.
– Все в порядке, Цезарь? – спросил настороженно Гирций.
Цезарь улыбнулся:
– Да, Гирций. – Он поднял левую руку, козырьком приставил к глазам и посмотрел на заходящее солнце. – Время обеда уже прошло, надо чествовать царя Мандубракия. Нельзя, чтобы бритты думали, что мы скупердяи. Особенно когда мы их угощаем их же едой. Пожалуйста, проследи, чтобы все приготовили. Я скоро буду.
Он повернулся к открытой площадке лагерного форума, примыкавшего к палатке командующего. Невдалеке он увидел молоденького легионера, который сгребал в кучу уголья дымящегося костра, явно в качестве наказания. Заметив приближение Цезаря, паренек стал действовать энергичнее, дав себе клятву, что больше не получит выговора во время смотра. Но он никогда не видел Цезаря вблизи, поэтому, когда высокая фигура нависла над ним, он прервался на несколько мгновений, чтобы как следует его рассмотреть. Командующий улыбался!
– Не спеши гасить костер, парень. Мне нужен один живой уголек, – произнес Цезарь на протяжной латыни, на которой говорят солдаты. – Чем же ты провинился, что вынужден выполнять эту работу в такую жару?
– Я не закрепил ремень шлема.
Цезарь наклонился и поднес тонкий свиток к слабо тлеющей головешке. Папирус загорелся. Цезарь выпрямился и держал маленький факел, пока пламя не добралось до пальцев. Только когда свиток стал разваливаться на легкие черные хлопья, он его отпустил.
– Всегда следи за своим снаряжением, солдат. Только оно убережет тебя от пики касса. – Он направился в палатку, но приостановился и бросил через плечо: – Нет, не только оно, солдат! Еще твое мужество и твой римский склад ума. Это они побеждают. Но шлем, крепко сидящий на голове, защищает твои римские мозги!
Забыв про костер, молодой легионер стоял и, открыв рот, смотрел вслед командующему.
«Какой человек! Он говорил со мной как с приятелем! Просто, по-свойски. И на солдатском жаргоне. Откуда он его знает? Он ведь никогда не служил рядовым, это точно!»
Широко улыбнувшись, солдат стал затаптывать пепел. Командующий знал не только солдатский жаргон, но и как зовут каждого центуриона в его легионах. Ибо это был Цезарь.
Для бритта главная цитадель Кассивелауна и его племени кассов была неприступна. Она стояла на крутом округлом холме, окруженная укрепленным бревнами валом. Римляне не сумели бы отыскать ее в непролазных лесах, но с помощью Мандубракия и Тринобеллуна быстро подошли прямиком к ней.
Кассивелаун был умен. После первого проигранного сражения, когда эдуйская кавалерия, пересилив страх перед колесницами, обнаружила, что справиться с здешними варварами гораздо легче, чем с германскими всадниками, вождь кассов применил тактику Фабия. Он распустил пехоту и, выставив против римлян четыре тысячи колесниц, нападал на них во время лесных переходов. Колесницы внезапно появлялись среди деревьев в тех местах, где они росли достаточно редко, и атаковали римских пехотинцев, которых приводили в смятение столь архаичные средства ведения боя.
Им было от чего прийти в ступор. Колесницы налетали на них, в каждой стояли возница слева и воин справа. Воин держал наготове копье в правой руке и сжимал в левой еще несколько копий. К низкому, сделанному из ивовых прутьев борту колесницы крепились ножны с мечом. С босых ног до непокрытой головы воин был причудливо разрисован вайдой. Когда заканчивались копья, он, выхватив меч, быстро, как акробат, перелетал на дышло, прыгающее между парой низкорослых лошадок. Когда упряжка врезалась в гущу римских солдат, он соскакивал с дышла и в бешеном ритме работал мечом, находясь под защитой конских копыт, от которых пятились изумленные легионеры.
К тому времени как Цезарь подступил к цитадели кассов, его закаленные и стойкие войска были сыты по горло и Британией, и колесницами, и скудным рационом. Не говоря уже об ужасной жаре. К жаре они привыкли и могли пройти полторы тысячи миль, взяв не более одного дня на отдых, причем каждый нес на левом плече груз фунтов в тридцать, подвешенный на рогатину. Да еще тяжелая кольчуга до колен, которую они препоясывали ремнем с мечом и кинжалом, чтобы ее вес в двадцать фунтов меньше давил на плечи. К чему они не привыкли, так это к высокой влажности. Она так душила их во время этой второй экспедиции, что Цезарю пришлось пересмотреть расстояние, которое люди могли пройти во время дневного марша. Если по итальянской или испанской жаре солдаты шагали по тридцать миль в день, то по британской жаре не более двадцати пяти.
Однако сейчас идти было легче. Поскольку тринованты и небольшой отряд пехоты защищали оставленный позади полевой лагерь, легионеры шли налегке, только шлемы на голове да pila в руках, а не груженные на мула, приданного каждой группе из восьми человек. Войдя в лес, они уже были готовы к атаке. Приказ Цезаря был конкретным: не отступать ни на шаг, от коней защищаться щитами, а копья метать в разрисованную грудь возницы, а уж потом без помех разделываться с воинами.
Для поднятия боевого духа Цезарь сам шагал в середине колонны. Как правило, он предпочитал идти пешком, а на коня садился только для того, чтобы с большей высоты определить дистанцию. Обычно его окружали легаты и трибуны. Но не сегодня. Сегодня он шел рядом с Асицием, младшим центурионом десятого легиона, обмениваясь шутками с теми, кто шагал впереди и позади.
Кассы атаковали задние ряды четырехмильной колонны римлян в узком месте, где эдуйская кавалерия, двигавшаяся в арьергарде, не могла развернуться. Но в этот раз легионеры смело ринулись прямо на колесницы. Защищаясь щитами от града копий и грозных копыт, они вышибли из двуколок возниц и принялись за их сотоварищей. Им надоела Британия, но не хотелось возвращаться в Галлию, не изрубив в лапшу нескольких дикарей, а в ближнем бою варварский длинный меч был несравним с римским, коротким гладием. Колесницы в беспорядке бросились в лесную гущу и больше не появлялись.
После этого взять цитадель было легко.
– Как отобрать у ребенка игрушку! – весело сказал Асиций своему командиру, перед тем как ринуться в бой.
Цезарь начал атаку одновременно с противоположных сторон. Легионеры накатились на вал, а в это время эдуйская кавалерия, улюлюкая, перескочила через него. Кассы разбежались, многие были убиты. Цезарь захватил крепость вместе с большими запасами продовольствия, достаточными, чтобы отплатить триновантам за помощь и сытно кормить своих людей до тех пор, пока они не покинут Британию навсегда. Но самой ужасной потерей для варваров были их колесницы, стоявшие внутри распряженными. Разгоряченные легионеры порубили их на куски и сожгли. А тринованты, весьма довольные, скрылись с трофейными лошадьми. Другой добычей почти не разжились. Британия не была богата ни золотом, ни серебром, ни жемчугами. Тут ели с глиняной обожженной посуды, а пили из рогов.
Пора было возвращаться в Косматую Галлию. Приближалось время штормов (календарь, как обычно, существенно опережал сезоны), а побитые корабли римлян вряд ли могли выдержать страшные шквалистые ветры. Как следует пополнив запасы продовольствия и сделав триновантов хозяевами большей части этих земель, Цезарь разместил два легиона перед многомильным обозом, а два – позади и отправился к побережью.
– Что ты намерен делать с Кассивелауном? – спросил Гай Требоний, грузно вышагивая рядом с командующим: если тот шел пешком, даже старший легат не имел права сесть на коня.
– Он попытается отыграться, – спокойно ответил Цезарь. – А потом, еще до отплытия, я заставлю его подчиниться и принять наши условия.
– Ты хочешь сказать, он опять ударит на марше?
– Сомневаюсь. Он потерял слишком много людей. И еще колесницы.
– Тринованты забрали всех захваченных лошадей. Они хорошо заработали.
– Это награда за помощь нам. Сегодня проиграл, завтра выиграл.
С виду он кажется прежним, подумал Требоний, который любил Цезаря и тревожился за него. Но только с виду. Что было в письме, в том, которое он сжег? Все заметили, что с ним что-то не так. Потом Гирций рассказал о письмах от Помпея. Никто бы не осмелился прочесть корреспонденцию, которую Цезарь не отдал Гирцию или Фаберию. И все же он сжег одно из тех писем. Словно сжигал корабли. Почему?
И это было еще не все. Цезарь перестал бриться. Очень показательно для человека, чей ужас перед вшами был так велик, что он ежедневно выщипывал каждую волосинку под мышками, на груди, в паху и скоблил подбородок даже в критической обстановке. Его редкие волосы на голове шевелились при одном лишь упоминании о паразитах. Он сводил с ума слуг, требуя ежедневно стирать свои вещи. И никогда не спал на земле, потому что там водились блохи. За ним всюду возили секции деревянного пола для его полевого шатра. Как потешались бы над этим его недруги в Риме, если бы до них дошли подобные слухи! Простые доски, даже не покрытые лаком, превратились бы в устах некоторых из них в мрамор и мозаику. Зато он мог подхватить огромного паука и, улыбаясь, следить, как тот бегает по ладони. Самый заслуженный центурион упал бы в обморок, свались на него такое чудовище. А Цезарь всем объяснял, что пауки – чистые существа, почтенные хранители дома. С другой стороны, любой крошечный таракан мог загнать его на стол или на лавку. Цезарь никогда не давил их, боясь испачкать подошвы. «Это грязные существа», – вздрагивая от отвращения, говорил он.
И вот теперь прошло уже три дня, как они выступили в поход, и одиннадцать дней с того момента, как ему доставили почту. И он с тех пор ни разу не брился. Умер кто-то из его близких. Он явно был в трауре. По кому? Все выяснится, когда они прибудут в гавань Итий, но молчание Цезаря означало, что заговаривать с ним об этом не следует. Требоний и Гирций полагали, что это была Юлия. Требоний подумал, что надо бы отвести этого дурня Сабина в сторону и пригрозить ему обрезанием, если он сунется к Цезарю со своими соболезнованиями. Его уже угораздило спросить Цезаря, почему тот не бреется.