Сильные мира сего. Крушение столпов. Свидание в аду Дрюон Морис
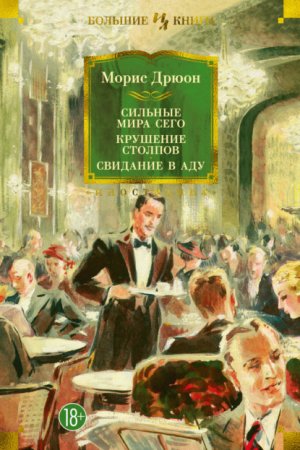
– Вам кажется, будто я изменился, потому что… ваши чувства ко мне… изменились.
– А ваши чувства, Симон? Скорее уж они изменились… или разве…
– Я придерживаюсь условий, которые вы мне поставили, дорогая, – ответил он лицемерно.
«Какая-то новая женщина вошла в его жизнь, одно только служебное положение не могло до такой степени изменить его. Я просто дура», – думала Изабелла, чувствуя, что страдает. И спросила:
– Вы счастливы?
У него чуть было не вырвалось: «Очень!» Но из приличия он ответил:
– Разве такое понятие вообще существует?
– Несколько месяцев назад вы не говорили так, – прошептала она.
В эту минуту послышался звонок, напоминавший по звуку колокольчик церковного служки.
– Меня вызывает министр, – сказал Симон, торопливо вставая.
Во взгляде Изабеллы он прочитал презрение. Отличное положение, которым он так гордился, по существу было положением мальчика на побегушках. Бедняга Симон, а ведь она считала его поэтом! Ей стало стыдно за него; поспешность, с какой он встал, показалась ей унизительной.
Ему захотелось исправить дурное впечатление.
– Нас сильно беспокоит судьба правительства, – сказал он, протирая большими пальцами стекла очков. – Я был сегодня в Люксембургском дворце. Все только и говорят о кризисе, это какой-то психоз. Но так как и в новом составе кабинета патрон сохранит свой портфель… Увы, сейчас я должен вас покинуть!..
Но Симон лишь ухудшил впечатление: перед ней был лакей, уверенный, что удержится на своем месте.
Изабелла снова взяла томик стихов.
– Я уношу его. В некотором роде он – наше детище. «Посмертные произведения». Название вдвойне верное. Это все, что сохранилось из того, что мы делали сообща, – сказала она с непривычной для нее грустной иронией, которую, сама того не замечая, переняла у своего мужа Оливье.
Она подняла темные глаза на Симона.
– Увидимся ли мы еще? – спросила она, делая последнюю попытку.
– Ну конечно, мы будем часто видеться.
Стараясь быть вежливым, он легонько подталкивал ее к двери.
Оливье стоял в халате перед зеркалом умывальника со щетками в руках и приглаживал свои седые волосы, разделенные посредине пробором. Он всегда ложился в постель раньше жены, чтобы освободить ванную, расположенную между двумя спальнями.
На особой вешалке, какими пользуются англичане, были аккуратно развешаны домашняя бархатная куртка гранатового цвета, рубашка и носки; к вешалке снизу был прикреплен маленький ящик для старых туфель, которые он носил дома; по утрам горничная все это убирала.
Сквозь полуотворенную дверь он услышал, как Изабелла положила колье на туалетный столик.
Она была у себя в комнате, и Оливье, набравшись смелости, решился наконец задать ей вопрос, который не шел у него из головы в течение всего вечера.
– Стало быть, вы его сегодня видели? – спросил он, немного повысив голос и стараясь, чтобы вопрос звучал как можно естественнее.
– Да, видела, – ответила Изабелла, сидевшая за туалетным столиком.
Наступило короткое молчание, затем Оливье сказал:
– Я думаю, вас это взволновало.
– О нет, нисколько, – ответила она. – Ведь свидание было, собственно, деловое… из-за книги… И потом, хоть у меня и нет оснований на него сердиться… но я вас уверяю…
Он услышал, как она пересекла комнату и, продолжая говорить, приблизилась к двери.
– Можете войти, я уже заканчиваю, – сказал он.
Она толкнула створку двери.
– …нет, уверяю вас, Оливье, – продолжала она, – встреча не доставила мне никакого удовольствия. Ведь все уже в прошлом… И очень жаль, если у вас возникла хоть тень сомнения…
Машинально она стала раздеваться. И вновь перед ее мысленным взором возникла фигура Симона, легонько подталкивающего ее к дверям; она чувствовала его руку у себя на плече, и у нее защемило сердце.
– Как я могу вас в чем-либо подозревать? – сказал Оливье, продолжая приглаживать волосы и стараясь сохранить спокойствие. – У меня нет для этого ни права, ни основания… Скорее уж вы можете сердиться на меня. Я прекрасно понимаю, что наш брак утратил всякий смысл; я невольно порчу вам жизнь. Снова повторяю: постараюсь не слишком долго стоять у вас на пути… Но что же делать – как это ни печально, а я все же чувствую себя хорошо.
Он обернулся. Она стояла совершенно голая.
– О, простите! – воскликнул он, краснея.
И торопливо повернулся лицом к стене.
– Что вы, что вы, это я виновата, – невольно рассмеявшись, сказала Изабелла. – Я увлеклась разговором и не обратила внимания… И потом, говоря по правде, какое это имеет значение для наших отношений, Оливье?..
Она надела ночную рубашку.
– Я только одного хочу, – продолжала она, – чтобы вы никогда больше не повторяли тех глупостей, какие я только что слышала. Мне это больно…
Оливье с благодарностью посмотрел на нее.
– Вы хотите утешить меня… А может быть, я и в самом деле не очень вам в тягость? – спросил он.
Оливье был такой опрятный и холеный, от него приятно пахло туалетной водой и зубным эликсиром; взгляд у него был нежный, а лицом, что бы ни говорили, он все-таки походил на Орлеанов. Изабелла уже так привыкла к нему, ее трогала постоянно проявляемая им предупредительность.
– Знаете, Оливье, я вас очень люблю! – призналась она. И быть может, оттого, что в тот день Изабелла испытала горькое разочарование, она подошла к мужу и поцеловала его в губы.
– Дорогая! Моя дорогая! – сказал он, побагровев от радостного смущения. – Вы, верно, поступаете так просто из жалости, но мне теперь не до всех этих тонкостей. Вы делаете мне большой подарок.
Изабелла положила голову на плечо Оливье. Ей так хотелось на кого-нибудь опереться. Муж нежно обнял ее. Он чувствовал, как она тесно прижалась к нему чересчур мягкой грудью; его руки скользнули вдоль ее тела, тела женщины, прожившей на свете вдвое меньше, чем он.
Внезапно он отодвинулся.
– О, простите, – сказал он снова. – Что вы подумаете обо мне?
Она как-то странно на него посмотрела.
– Видите ли, Оливье… – произнесла она.
– Конечно, это очень глупо… – пробормотал он в смятении, какого она никогда в нем не замечала. – Я… я и не подозревал, что со мной еще может произойти нечто подобное… Отзвуки прошлого…
Изабелла опустила голову; казалось, она размышляет.
Оливье вновь подошел к жене, нерешительно обнял за плечи и поцеловал ее волосы.
– Полноте, полноте! – прошептала она, тихонько отстраняя его.
– Да, вы правы, я смешон, – проговорил он. – Хорош, нечего сказать… В моем возрасте это по меньшей мере неприлично. Но и вы тоже виноваты! Раздеваться тут, в моем присутствии… Прошу вас, забудьте этот… случай. Пора спать. Спокойной ночи.
Но прежде чем он закрыл за собой дверь, она взяла его за руку и, опустив глаза, спросила:
– Вам это будет приятно, Оливье?
На следующее утро, побрившись, приняв ванну и сделав массаж, он явился завтракать в комнату Изабеллы в весьма игривом настроении.
– Я смущен, я сконфужен моим вчерашним поведением, – произнес он, не скрывая своей гордости.
– Зачем же смущаться, – сказала, смеясь, Изабелла. – Мне было очень хорошо.
Она тоже находилась в отличном настроении.
– О, это вы говорите из жалости, – запротестовал он. – Вы очень добры ко мне, Изабелла.
Она протянула ему совсем еще теплый гренок с маслом.
– Я бы даже сказала, что вы весьма недурно с этим справляетесь, – заявила она с бесстыдством непосредственных натур.
– Да! В свое время и я чего-то стоил… Порою мне даже делали комплименты… Надеюсь, – снова краснея, продолжал Оливье, – вы не станете ревновать меня к моим былым увлечениям?
– О нет, уверяю вас, Оливье, darling[9], – заливаясь смехом, ответила она.
Изабелла впервые так назвала его и почувствовала, что нашла верное слово. Оливье был именно «darling».
– Бывает иногда, что старые деревья много лет не плодоносят, а потом вдруг, неизвестно почему, дают последний урожай.
– Прекрасно! Желаю, чтобы сбор урожая длился как можно дольше!
– Спасибо, дорогая, спасибо! Что мы сегодня будем делать?
Ему хотелось чего-то нового, интересного. Если бы не стоял ноябрь, он предложил бы поехать в Булонский лес – кататься на лодке. В конце концов он решил повести жену в зоологический сад.
– Должен признаться, дорогая, я там не был почти шестьдесят лет. Оденьтесь потеплее.
Зоологический сад являл собою мрачное зрелище. В аллеях ни души. Гнили собранные в кучи опавшие листья. Только кедры да лиственницы сохраняли на ветвях черноватые хлопья, почему-то именуемые вечнозеленой хвоей.
Старые медведи, дряхлые львы, сидя на задних лапах, зябли в глубине рвов и словно вспоминали последнего гладиатора, съеденного ими; облезлые волки, обезьяны с сизыми ягодицами, ламы – все они глядели на одинокую чету печальными глазами зверей, которых гложет смерть.
Весь какой-то заскорузлый и сморщенный, слон поднял двухсотлетний хобот, как бы собираясь затрубить, но вместо этого лишь зевнул.
– Подумать только, ведь все это нас так забавляло, когда мы были детьми! – сказал Оливье. – Да, конец животных ничуть не веселее, чем конец людей.
– Не надо, Оливье, darling!
– Ах, простите, я сознаю свою неблагодарность. Судьба одарила меня сверх меры… и совершенно неожиданным образом: племянница вознаграждает меня за многолетнюю привязанность к ее тетке… Совсем как в романах этого славного Бурже.
– Замолчите, – потребовала Изабелла. – Я больше не хочу слышать о том, что вы старик.
– Прекрасно. Тогда мне придется лгать.
Она взяла его под руку и, чтобы развлечь, предложила заняться шуточной игрой – «отыскивать сходство». Особенно богатые возможности им предоставили птицы. Вцепившись в железные прутья клетки, давился от хрипа Урбен де Ла Моннери со взъерошенным белым хохолком на голове, принявший обличье редкостного какаду.
Марабу с голым черепом, с длинным клювом, уныло опущенным в белый жилет, и зелеными крыльями, прикрывающими лодыжки, поразительно походил на академика.
– А вот и я! – воскликнул Оливье, указывая на голенастую птицу, у которой перья на затылке были словно разделены пробором, а покрытые пухом бугорки напоминали отвислые щеки. – Помесь журавля и райской птицы! Только посмотрите на него. Чем не мой портрет?
К нему вернулось хорошее настроение, и он предложил пойти завтракать в «Кафе де Пари».
Вскоре они перестали так оживленно проводить время по утрам. Оливье начал подолгу нежиться в постели, и теперь Изабелла приходила к нему завтракать. Часто он просыпался с тяжелой, словно налитой свинцом головой, но никогда не жаловался.
Супружеская чета казалась безмятежно счастливой, и это немало забавляло друзей. Одну только госпожу де Ла Моннери раздражали новые отношения, установившиеся между ее старым другом и племянницей.
– Итак, голубок, вы довольны? – спрашивала она Оливье.
– Весьма доволен, тетушка, – отвечал Оливье, улыбаясь.
Однако вечера, когда он особенно долго причесывался в ванной, что служило своего рода условным сигналом, становились все реже и реже. Теперь за обедом он избегал взгляда Изабеллы. Нередко он слышал, как жена его ходит взад и вперед по комнате и даже вздыхает. Тогда он без особого желания оставался в ванной дольше, чем хотел, а порой она сама входила туда и, словно по рассеянности, начинала раздеваться в его присутствии. А потом в постели, погасив свет, он подолгу лежал рядом с нею недвижимо, словно дал обет воздержания. В конце концов он просил ее о помощи.
– Это утомит тебя, darling, – шептала она.
– Нет, нет, мне так приятно.
А еще через некоторое время она уже не ждала его просьб.
Однажды, одеваясь, Оливье почувствовал головокружение и рухнул на кровать; несколько минут он пролежал без сознания, почти бездыханный. Создалось впечатление, что он потерял равновесие, натягивая брюки. С этого дня распорядок их жизни на некоторое время изменился. На рассвете он появлялся в спальне жены, а потом возвращался к себе и спал до полудня; затем слонялся по комнатам, зевал уже с обеда и укладывался в постель сразу после чая.
Но постепенно жизнь вошла в прежнюю колею.
Итак, сбор последнего урожая проходил с большими трудностями. Угадывая приближение конца, Изабелла все меньше щадила мужа. Казалось, она решила: «Надо пользоваться, пока не поздно. Когда он уже совсем сдаст, как-нибудь обойдусь».
Впрочем, у Оливье был по-прежнему здоровый вид и хороший цвет лица; как и раньше, речь его отличалась приятным юмором. Изабелла была почти искренна, уверяя себя, что новый образ жизни не вредит организму Оливье. А он между тем с нетерпением ждал слишком коротких, по его мнению, периодов, когда она бывала нездорова. Только в такие дни он отдыхал.
Внезапно в доме появилась госпожа Полан, которую Изабелла уже давно не видела. Старуха пришла узнать, как поживают Изабелла и господин Меньерэ.
– Он себя великолепно чувствует, еще никогда не был таким бодрым, – ответила Изабелла.
– Неужели? Я очень рада.
У госпожи Полан был удивленный, почти разочарованный вид. Так как стояла зима, она снова надела кроличью горжетку.
– Ну что ж, дорогая мадемуазель Изабелла… Ах, извините, я хотела сказать – госпожа Меньерэ, никак не привыкну… Выходит, вам больше повезло, чем мне, – сказала она. – А мой, вы знаете…
– Что случилось, Полан?
– Все еще не вернулся. Но мне известно, где он. И я не решаюсь просить развода не только из религиозных соображений, но еще и потому, что хорошо его знаю! Сейчас он пленник плоти. Но если я потребую развода, он способен покончить с собой! Ведь в сущности он меня любит…
Она приложила к уголкам глаз, а потом к кончику носа скомканный платочек.
– Бедняжка Полан! – сказала Изабелла.
– К счастью, я помногу занята у генерала, и это меня отвлекает. Я делаю для него все, что в моих силах. Он постоянно твердит: «Полан – мой начальник штаба!» Мы с ним отлично ладим. Его мемуары сильно продвинулись, это очень увлекательно!
Гостья удалилась, а Изабелла так и не поняла, зачем Полан приходила. Но оказалось, она появилась всего лишь на несколько часов раньше…
Среди ночи телефонный звонок разбудил профессора Лартуа, из трубки доносился голос обезумевшей Изабеллы.
– Доктор, приходите сейчас же! Оливье… мой муж… Умоляю, сейчас же… – кричала она.
В квартире все было перевернуто вверх дном; Оливье Меньерэ с выкатившимися глазами лежал, уткнувшись лицом в окровавленную подушку. Струйки еще не свернувшейся крови текли у него из носа и изо рта. Лартуа оставалось только констатировать смерть.
Изабелла со следами крови на волосах, на шее и на вороте ночной сорочки, забившись в кресло, тряслась в нервном припадке и вопила:
– Это ужасно! Ужасно! Нет, нет!.. Он был рядом, возле меня! И вдруг эта кровь! Нет!.. Он сжимал меня с такой силой, это просто ужасно! Он душил меня! Я не могла освободиться! Мне пришлось позвать прислугу! Ужасно!
– Довольно, успокойтесь, милочка, – жестко сказал Лартуа.
– Не может быть! – выкрикивала она. – С такой силой!.. Ужасно!
Лартуа заставил ее встать, отвел в ванную и губкой сам смыл с нее кровь.
– Недурное занятие! – пробормотал он.
– Доктор, скажите, это моя вина? Моя? О, не может быть!..
– Ваша вина… не ваша вина… Прежде всего это его вина, – ответил Лартуа. – В сущности, не такая уж плохая смерть. Спрашиваю себя, не хотел ли и я бы так умереть… Холодная вода вас немного освежила, не правда ли? Где у вас аптечка?
Она сделала неопределенный жест.
– Где у вас аптечка? – повторил он, обращаясь к горничной, которая испуганно ходила за ним по пятам.
Та открыла маленький белый шкафчик, висевший на стене.
Лартуа стал перебирать склянки; он обнаружил коробку без этикетки с маленькими беловатыми крупинками. Лартуа раздавил одну из них пальцами и, поставив коробку на место, сказал:
– Да, оказывается, это его вина. Как глупо принимать такую пакость!
Потом он взял трубочку со снотворным и заставил Изабеллу проглотить две таблетки; убедившись, что в аптечке больше нет ядовитых лекарств, он из предосторожности положил трубочку к себе в карман.
Изабелла, заливаясь слезами, нервно вздрагивала.
– Что мне делать? Что со мной будет? – стонала она. – Это ужасно!
– Прежде всего ложитесь спать, – сказал Лартуа. – Пусть вам дадут горячего чаю, а горничная посидит возле вас. Завтра утром я снова заеду.
– А он? А он? Бедный darling! Что нам делать? – рыдала Изабелла.
И вдруг, повернувшись к горничной, приказала:
– Пошлите за госпожой Полан. Она займется всем.
Глава IV. Семья Шудлер
Жан-Ноэль внимательно рассматривал в зеркале свое худенькое тельце с выпяченным животиком. Это было утром в день его рождения.
– Обманули! – закричал он. – Обманули! – И затопал ногами.
Целую неделю все твердили, что скоро ему исполнится шесть лет и он станет взрослым, а поэтому надо быть умником, нельзя высовывать язык и гримасничать, когда становишься взрослым, пора наконец научиться вести себя как grown up…[10]
– What’s the matter with you?[11] – спросила мисс Мэйбл, прибежавшая на шум.
– А я вовсе не взрослый! Я опять маленький. Меня обманули!
– Say it in English[12].
– Нет! Не буду я говорить по-английски. Не хочу! Я опять маленький! I am not a grown up[13]. Мари-Анж!..
Слезы отчаяния текли по его щекам. Он и в самом деле надеялся проснуться таким же большим, как отец, и вот день начался с катастрофы.
Жан! Ноэль хотел тотчас же, голышом, бежать к сестре и призвать ее в свидетели. Мисс Мэйбл с трудом уговорила его сперва умыться и одеться. Он исцарапал гувернантку, дернул ее за волосы. Она пыталась объяснить, что даже его сестра тоже еще маленькая:
– …And you see, she’s older than you[14].
– Да, но она женщина, – возразил Жан-Ноэль.
– Now. It’s a big surprise for you this morning… Your grandfather[15].
– Which one?[16] – спросил Жан-Ноэль.
Он никогда не знал, о ком идет речь: о старом Зигфриде или о великане Ноэле.
– Your greatgrandfather[17], – уточнила мисс Мэйбл.
Без десяти девять Жан-Ноэля, одетого в нарядный бархатный костюмчик с белым воротником, привели к дверям спальни его прадеда. Появился барон Зигфрид. Ему было уже девяносто четыре года. Он совсем одряхлел, ходил, тяжело опираясь на трость и выставив вперед морщинистое землистое лицо с длинными изжелта-белыми бакенбардами, огромным носом и вывороченными веками; он напоминал теперь и древнюю химеру, и загадочного сфинкса.
– Стало быть, ты теперь уже мужчина, – сказал он, проводя рукой со вздувшимися венами по розовой щечке ребенка.
Через каждые три слова он хрипло и шумно дышал.
Жан-Ноэль посмотрел на него подозрительно, но, так как ему очень хотелось иметь заводной поезд, покорно ответил:
– Да, дедушка.
Он понял: лучше не доказывать взрослым, что они солгали.
– Ну, раз так, я… пф-ф… я научу тебя делать добро… Идем со мной.
Они проследовали по коридорам огромного дома, медленно спустились по широкой каменной лестнице, устланной темно-красным ковром. Ребенок почтительно шел рядом со сгорбленным стариком, стараясь шагать с ним в ногу, и спрашивал себя, в какой комнате спрятан поезд. Слова «делать добро» привели его в замешательство.
В прихожей, внушительными размерами напоминавшей вестибюль музея, лакей набросил на плечи барона Зигфрида суконную накидку.
– Что это? – поинтересовался старик, увидев в высокое окно, как по двору проносят чемоданы. – Кто-нибудь собирается уезжать?
– Господин барон, вы, верно, запамятовали, – ответил лакей. – Барон Ноэль едет в Америку.
– А, да-да, – протянул старик.
В сопровождении Жан-Ноэля он двинулся дальше и добрался до швейцарской.
– Ну как, Валентен, все готово? – спросил он.
– Готово, господин барон, – ответил швейцар.
– Много их?
– Да, как всегда, господин барон.
Швейцар Валентен был краснолицый толстяк с оттопыренными ушами, одетый в ливрею бутылочного цвета. Жан-Ноэль удивился, увидев у него в руках белую плетеную корзину, наполненную ломтями хлеба.
– Тогда открывайте! – приказал старик.
На авеню Мессины вдоль высокой ограды двора Шудлеров по тротуару выстроилась очередь нищих. Когда парадная дверь медленно отворилась, вереница ожидавших качнулась, сдвинулась плотнее, и все эти просители, показывая свои лохмотья, грязь и язвы, переступая мелкими шажками, медленно двинулись вперед. Их было человек пятьдесят; здесь собралась голытьба со всего квартала, хотя считалось, что неимущих в нем совсем нет. В серой мгле туманного февральского утра Жан-Ноэлю казалось, что у подъезда ожидает огромная толпа. Мимо старого сфинкса с вывороченными веками потянулась однообразная, унылая процессия несчастных.
Когда нищий приближался, барон Зигфрид вытаскивал из кармана пиджака монету в сорок су, брал у швейцара ломоть хлеба и, прижимая пальцем монету к мякишу, опускал все это в подставленные грязные ладони.
Нищие говорили: «Спасибо» или «Спасибо, господин барон», но некоторые проходили молча. Давно не мытые пальцы прикасались к рваному козырьку, к отсыревшей фетровой шляпе или к покрытому лишаями лбу, и движение это отдаленно напоминало военное приветствие.
– Видишь ли… – объяснял старик Жан-Ноэлю. – Всегда должно самолично раздавать милостыню, чтобы… пф-ф… не обидеть тех, кому подаешь.
Гноящиеся, больные, выцветшие, налитые кровью, опухшие глаза с любопытством рассматривали ребенка. Мальчик был потрясен уродством нищих, его тошнило от зловония, ему страшно было от их пристальных взглядов; он ухватился за накидку старика и, насупившись, прижался к нему.
Старый барон не спеша вглядывался в каждое лицо и иногда удостаивал коротким приветствием самых давних завсегдатаев, которые на протяжении многих лет доставляли ему это утреннее развлечение, принося к вратам его богатства все несчастья, какие только могут выпасть на долю человека и изуродовать его. Здесь было все: наследственные болезни, пагубные, неизгладимые следы любви и распутной молодости, всяческие пороки, физическое уродство, лень и просто роковая неудачливость – иначе это и не назовешь; барон любил смотреть на людское отребье, которое время медленно несло к всеобщей сточной канаве смерти, – это зрелище помогало ему сохранять чувство собственной значительности.
– Тебе повезло, – сказал он ребенку. – По-моему, нынче утром, что бы там ни говорил Валентен, собралось много народу.
Жан-Ноэль еще сильнее вцепился в его накидку.
– Дедушка, посмотри какой у нее нос!.. – пробормотал он.
Подошла старуха в черной шелковой юбке; волосы ее напоминали свалявшуюся паклю, а ноздри были разъедены настолько, что виднелась зеленоватая слизистая оболочка; это был нос мертвеца, вырытого из могилы.
– Знаешь, она была в свое время очень красива, – сказал Зигфрид. – Она продавала цветы.
Заметив, что старуха с изъеденным носом наклонилась к Жан-Ноэлю и широко улыбнулась мальчику, он горделиво пояснил:
– Это мой правнук. Я учу его творить добро… Послушай, Жан-Ноэль, подай ей милостыню сам.
И он вложил хлеб и монету в руки ребенка. Жан-Ноэль уже понял, что, подавая милостыню, нужно улыбаться. Потом он поспешно вытер ладони о свои бархатные штанишки.
– Какой хорошенький! – прошамкала старуха. – И какой добрый! Ты наш благодетель, барон, ты наш благодетель. Да благословит тебя Господь!
Нищенка явно была любимицей старого барона – он дал ей еще и талон благотворительного общества, предоставлявший возможность выпить чашку шоколада на другом конце Парижа.
– А что твоя дочь? Есть от нее вести? – спросил старый барон.
– На панели шляется, все на панели шляется. Горе мое горькое, – ответила старуха, удаляясь.
Ее место заняло маленькое существо на кривых ножках, с крошечным детским личиком.
– Грешно смеяться, Жан-Ноэль, – сказал прадед. – Это карлица.
Но Жан-Ноэль и не думал смеяться. Он оглянулся, чтобы посмотреть, не пришла ли за ним мисс Мэйбл.
Старому барону казалось, что он изрек свое суждение вполголоса, но на самом деле он говорил так громко, что карлица услышала его слова и, получив милостыню, не поблагодарила.
Затем приблизился мужчина лет тридцати пяти, худой, с лихорадочным блеском в глазах; его протянутая рука дрожала.
– Нет, тебе не дам, – сердито сказал барон. – Ты молод, можешь работать. В твои годы… пф-ф… нечего побираться.
И, наклонившись к Жан-Ноэлю, он добавил:
– Нужно подавать милостыню только старикам.
Жан-Ноэлю хотелось попросить, чтобы худому человеку все же подали милостыню, но страх мешал ему говорить. Худой человек плюнул на тротуар и, отходя, сказал:
– Старый мерзавец!
Ни швейцар Валентен, застывший с корзинкой в руках, ни нищие, ни Жан-Ноэль, ни сам барон – никто и виду не подал, что услышал эти слова.
Подошел странный субъект в облезлом парике, криво надетом на дряблый затылок; держа в руке шляпу и сопровождая слова театральным жестом, он произнес:
– Господин барон, еще одним днем больше я имею честь быть вашим покорным слугой.
Каждое утро он по-новому изъявлял свою благодарность барону и, несомненно, весь день придумывал для этого замысловатые выражения.
Замыкая очередь, шла чета в лохмотьях. Мужчина был слеп, он плелся, подняв лицо к небу. Женщина с кошелкой в руке едва волочила обутые в стоптанные туфли голые ноги со вздувшимися венами. Они спорили.
– Непременно скажи ему спасибо. Слышишь? Я приказываю, – настаивал мужчина.






