Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе Владимов Георгий
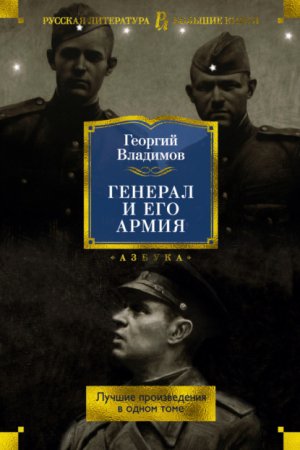
Генерал, даже привстав на сиденье, напряженно следил, не просядет ли паром до дна бухточки, но все обошлось, бодро и нетерпеливо всхрапнул движок, скрежетнул на прощанье песок плеса, и паром, покачиваясь, медленно тронулся в путь, как оторвавшаяся от берега льдина. Генерал беззвучно прошептал ему вслед: «Ну, с Богом!» – и поймал себя на том, как сильно ему хочется перекрестить эти три танка, уже понемногу сносимые течением влево. Через миг они исчезли из виду, заслоненные высоким камышом. В ту же неизвестность отправлялся второй паром, и генерал его проводил с тем же сложным чувством тревоги и сумасшедшей радости и одновременно с сознанием какого-то, ему самому непонятного, своего греха, а на третий он дал погрузиться одному танку.
– Въезжай давай ты теперь, – приказал он Сиротину. – Пошел!
Сейчас, сидя вот так же, справа от Сиротина, он вновь увидел, как тот оглянулся на него с удивлением и внезапным отчаянием, с лицом, на котором ясно написано было: «Что же вы с нами-то делаете?» Офицер, дежурный по переправе, со скрученным в трубку флажком, кинулся остановить непредусмотренный «виллис», но Донской так спокойно взглянул на дежурного, так красноречиво-убедительно выставил перед ним растопыренную ладонь, что тот сразу все понял: они переправляются тоже, и бронетранспортер охраны с ними, это оговорено заранее, странно, что дежурному это неизвестно. Не сильно удивился и Шестериков, только упрекнул со вздохом:
– И что было раньше не сказать? Чем я вас там кормить буду в обед?
Ни погрузку, ни миг отплытия память не удержала, а лишь то, как он уже стоял на палубе, уже плыл в неизвестность, расставив по-моряцки ноги и сунув кулаки в карманы черной своей кожанки, рядом с «виллисом», принайтовленным цепями к рымам на палубе, и в лицо, взбадривая и тревожа, ударял влажный и холодный речной ветер.
Понимал ли он вполне, что делает и зачем? Понимали ли это рулевой в рубке и старик-шкипер? Шестериков, скорчившийся на сиденье, и там же развалившийся Донской, вываливший через борт «виллиса» журавлиные свои ноги? Радист, выглядывавший из приоткрытого кормового люка бронетранспортера? Они посматривали на него украдкой, и он обострившимся боковым зрением улавливал их удивление, досаду, отчасти и злость. И если б кто спросил его тогда, зачем он здесь, он бы затруднился ответить. Сейчас, на пути в Ставку, он смутно сознавал, что совершалось тогда нечто значительное и оправданное, даже необходимое.
Генерал Кобрисов решил, что его гибель на Мырятинском плацдарме не только возможна, но даже, наверное, неотвратима; и он согласился с тем, что его косточки будут лежать где-нибудь на мырятинском кладбище или в центральном парке этого городка, никогда им не виденного, но никакая сила не сбросит его живым с правого берега Днепра, если он только ступит на этот берег, уже получивший название «плацдарм». А когда человек так ставит крест на собственной жизни – спокойно и просто, никого не оповещая, когда он не из слепого отчаяния и не для театрального эффекта вставляет в свои расчеты собственную возможную гибель, тогда зачастую случается, что ему удаются предприятия, казавшиеся безумными, в которые не смеет верить надежда и не надеется вера, тогда воды реки перед ним становятся твердью и покоряются ему неприступные крепости и плацдармы.
Но как еще было до этого далеко! Два парома, отчаливших раньше, были опять на виду, и первый из них уже, наверное, пересекал ту невидимую вожделенную линию, которая зовется стрежнем и на прямом участке реки должна была находиться близ середины; в тишине натужливо стрекотали их состарившиеся движки, не заглушая при этом дремотно-ласкового подхлюпывания под бортом, – и в одно мгновение эта тишина оборвалась ревом и воем. То, что казалось уже преодоленным, встало перед ним новой преградой, и он сам едва не взвыл от обиды, от беспомощного гнева, когда увидел эскадрилью «юнкерсов», три тройки, стоявшие над его головою – так спокойно, точно у них была тут назначена встреча с ним. Они не летели, не плыли в небе, они именно стояли на месте, дожидаясь, когда он задерет голову и посмотрит на них, и затем тотчас же плавно сошли со своих мест, набирая скорость.
Первая тройка пикирующих штурмовиков «Юнкерс-87», у немцев именуемых «штука»[16], а у нас получивших прозвище «лапотник», в аккуратном симметричном строю – один впереди, двое чуть приотстав – прошла над паромом и вернулась, сделав красивый полукруг. За спиною, на своем берегу, торопливо затявкали скорострельные зенитки, роскошной басистой трелью разразился крупнокалиберный пулемет, но вспышки и облачка разрывов не помешали «юнкерсам» еще раз плавно уйти в боевой разворот для прицельного бомбометания или обстрела. Слишком рано он позволил себе только подумать: «Переживем…»
– …товарищ командующий! – уже давно кричал ему радист из чрева бронетранспортера, протягивая трубку. – Вас просят.
– Слушаю! – прижав к уху теплую трубку, он расслышал прерывистое дыхание и далекий лязг танковых гусениц. Что-то случилось и там, на правом берегу, куда он так спешил и где, казалось ему, группа Нефедова уже исчерпала свою задачу. – Слушаю!.. У аппарата!
– Кто? – спросила трубка. – Кто меня слушает?
– Я, – сказал генерал, не переставая смотреть в небо. – Кобрисов слушает.
– Как? – переспросила трубка хриплым и точно бы пересыхающим от жажды голосом. – Кобрисов? Я такого не знаю… Не вызывал. Не слышал такого – Кобрисова.
Бог ты мой, он совсем забыл, кто он сегодня, забыл свое условное имя, и это ему показалось еще одним неучтенным препятствием. В придачу ко всем неожиданностям, он себя уже раскрыл – и немецкими слухачами засечен, у них это быстро делается, а связь с правым берегом вот сейчас оборвется, бессмысленно настаивать и глупо надеяться, что полуоглохший Нефедов узнает его по голосу.
– Нефедов! – закричал он, обрадованный, что нашел выход. – Мы же вчера с тобой гудели. Вспомни, родной, водку пили, стихи я тебе читал… Ну? Вспомнил?
Трубка еще секунды три помолчала и ответила слабым голосом:
– Плохо дело, Киреев.
Вот кто он был сегодня – и вылетело из головы. Все эти «юнкерсы» вышибли.
– Плохо дело, – повторила трубка. – «Фердинанды» тут у меня… Не предвидел, что объявятся. На хуторе скрывались, замаскированные… Восемь штук. А средства отражения какие? Гранаты, слава богу, взяли противотанковые… Немного, правда. Бутылки с каэсом[17], штук десять, но это же близко надо подпускать… А с ними автоматчиков – до взвода. Если даже прибавил со страху – все равно у меня людей меньше…
Нефедов так себя раскрывал, поскольку и немцам было известно, какие у него «средства отражения». Самое страшное, что могло случиться, вот и случилось. Даже не так страшны были эти «юнкерсы», как упущенные воздушной разведкой «фердинанды». Маскируемые, верно, копнами сена, выползли эти самоходки-страшилища и поставили заслон его танкам. От удара их снаряда башню «тридцатьчетверки» вышибает из гнезда и отбрасывает чуть не на сто метров. А корпус… Какой там корпус! Погибли, погибли, еще не коснувшись берега, его «тарахтелки», «примуса», «керосинки». Против толстой брони «фердинанда» что стоили их пушки! Зато его длиннющая пушка сделает из них обгорелые коробки. И он представил себе тупые рыла этих чудищ, уродливую заднюю посадку башни на корпусе, длиннейший хобот ствола с набалдашником дульного тормоза. И стало понятно, почему немецкая артиллерия не обрушилась тотчас на группу Нефедова, едва он себя раскрыл, не разворотила весь берег, который был же пристрелян заранее. Свои «фердинанды» там, вот и весь секрет молчания. Нет, это невозможно было снести! Это было несправедливо! Ведь хорошо же все начиналось!..
– Нефедов! – закричал он в трубку молящим голосом, даже привзвизгнув. – Задержи мне их! Любыми силами задержи!
– Какие у меня силы? – тем же усталым голосом сказал Нефедов. – Ну, постараемся, товарищ Киреев…
– А рота где же? Роту я тебе послал, под твое начало. У них и ружья противотанковые есть… Ну и вообще – рота все-таки…
– Роту еще собирать и собирать. Где-то она пониже высадилась, течением снесло. Слышу, бой ведут… Слышу, но не вижу. И кажется мне… может, ошибаюсь, – загибается рота…
– Понятно, – сказал генерал упавшим голосом. – Понятно, милый… Ну, сейчас я тебе огонька подброшу, гаубичного. Свяжу тебя с ними, ты скорректируй…
– Слишком близко я их подпустил… Теперь только себе на голову корректировать.
– Что же ты так, Нефедов? Почему ж не разведал?
– Сам себя грызу… Но уж так.
В трубке послышался нарастающий лязг, в ухо ударило из нее грохотом, и генерал трубку выронил – в руки Донского.
– Любого огня требуй, – сказал генерал. Донской молча кивнул, ничуть не изменясь в лице. – Только скажи, чтоб поаккуратней работали пушкари. Никому в смертники неохота.
Но сам он понимал, что и Нефедов, и двадцать его людей, так благополучно одолевших водную преграду и укрепившихся на пятачке, уже вдвойне смертники. Если не «фердинанды» их втопчут в землю, так свои щедрым огоньком – как его ни корректируй. Это же надо Нефедову выйти из боя и всю группу отвести… Возможно ли это? Или уже так втянулись, что не выйти? Так что же, соображал он лихорадочно, вернуть танки назад, пока не поздно? Скомандовать, чтоб задержали погрузку – тех, что еще не погрузились? Нельзя, невозможно, дело начато, и он должен был предвидеть продолжение. Да ведь и предвидел же, знал хорошо: весь ужас переправы – что она неотменима.
Сошедший на воду – должен ее переплыть. Или на дно пойти. Только одно было позволено ему, генералу, – самому вернуться. Не упрекнет никто. Ни своя свита, ни все те, кто расценивали как дурь его желание переправиться вместе с ними. Но себе он простит когда-нибудь – так много надежд связавший с этим плацдармом, жизнью поклявшийся?
Впрочем, ни одну свою мысль он не мог до конца додумать. Только что он все видел и слышал, как потревоженный зверь, еще минуту назад, еще несколько секунд назад, и вот уже все переменилось, и он, оглохший, с поплывшими в глазах радужными кругами, не мог понять, что за всплески запрыгали вдруг по воде, по лоснящимся волнам, приближаясь к борту парома, зачем это его подхватили под руки и куда-то волокут Шестериков с Донским, и отчего вдруг, побелев лицом, отпрянул радист в открытом люке бронетранспортера, и как странно, съежась, скорчась на сиденье, прикрывает голову руками – руками! – Сиротин.
Подняв лицо навстречу реву, он увидел, как один из «юнкерсов», утративший свою длину, свое крестообразное очертание, вырастает в своей ширине, в размахе крыльев, он пикирует, показывая подробности окрашенного лягушечьими разводами фюзеляжа, остекления кабины, обтекателей неубирающегося шасси – а вот его почему «лапотником» зовут, подумалось спокойно, даже слишком спокойно, – и стало различимо, как эксцентрично вращается широкий и тупой обтекатель втулки винта – почему-то красный, что же это за маскировка? И такие же красные украшения на крыльях… Какие там украшения! Вспышки из крыльевых пулеметов…
Пули цокали по броне танка и рикошетом, с протяжным пением, уходили куда-то. Вокруг парома на лоснящихся волнах вскипала дождевая пузырчатая сыпь.
Его силком тащили, пригибали ему голову, чтоб втолкнуть в люк. Он в этом увидел непереносимое унижение для себя и, мгновенно рассвирепев, рванулся из этих рук, ставших ему ненавистными.
– Сколько у меня истребителей? – закричал он, трясясь от гнева, который даже пересиливал страх. Лицо Донского, бледное, но внимательное, вбирающее неслышные слова, приблизилось к нему, к его лицу. – Я спрашиваю, сколько у меня истребителей!..
В эту минуту «юнкерс», достигнув опасной для него высоты, стал выходить из пике, снова показывая свою бесконечную длину и крестообразность, свое голубое брюхо, расчлененное стыками, пластинчатое брюхо громадного ящера, которое еще приближалось от «проседания», перекрывая небо. И вот наконец пронеслось оно – с ужасающим ревом. Под крыльями висели на кронштейнах две пузатые бомбочки. Почему не сбросил? Оставил для второго захода? Но этот-то – кончился?
Он упустил, что «штука» уходящая все еще страшна. Ибо, взмывая, она открывает обзор и обстрел воздушному стрелку, сидящему сзади. Но, к счастью, плывшие на паромах об этом не забыли. И, задравши стволы, встречно его огню били по его фонарю из автоматов, винтовок, башенных пулеметов.
– Извини, Фотий Иваныч, – вдруг точно с неба послышалось, сквозь рев и треск перестрелки. – Ну, призадержались маленько, надо ж чайку попить перед вылетом… Сейчас я его уберу…
Радист из люка, откуда и исходил этот голос, протягивал генералу трубку радиотелефона. Генерал ее принял, не поняв толком, зачем она, если собеседник его и так услышал.
– Ты, Галаган? – спросил генерал, хотя ни треск в самой трубке, ни рев «юнкерса» уже далеко за спиною не смогли этот знакомый голос исказить. – Куда ж твои соколы подевались?
– У меня не соколы, – сказал Галаган с неба. – У меня – орлы. Ты их не порочь, они у меня обидчивые. Хлопцы, расходимся! Каждый себе дружка выбирает по личной склонности…
Краснозвездная шестерка – четверо МиГов и две «аэрокобры», – заканчивая взмыв в вышину, перевалив невидимый хребет, плавно и красиво расходясь веером, опускалась на «юнкерсов». Одна «кобра» была самого Галагана, другая – его ведомого. Ни больше ни меньше как сам командующий воздушной армией вылетел на охоту.
– Хлопцы, прошу внимания! – командовал Галаган, живя полной жизнью. – Вот этого, сто сорок шестого, который чуть Фотия Иваныча не обидел, не трогать, это мой… Надо его наказать примерно… Сейчас я морду ему набью…
«Славные же мы конспираторы, – подивился генерал. – Он меня Фотий Иванычем, я его – Галаганом. Уж будто не знают немцы, кто такой Фотий Иваныч. А про него – уже, поди, во всех наушниках вой стоит: „Ахтунг! В небе – Галаган!“»
Вся шестерка наших пронеслась над Днепром и вскоре вернулась, освещенная где-то уже всходившим солнцем, которого еще не было на земле и воде. «Юнкерсы» расходились в разные стороны; тот, что нападал, теперь, сильно накренясь, входил в разворот, чтобы уйти.
– По-английски уходишь, не попрощавшись? – возмутился Галаган. – Куда ж это годится? Не-ет, не уйдешь.
Немец, зная отлично, что в прямом полете «кобра» его настигнет легко и все спасение лишь в одном его преимуществе – маневренности, пролетел с километр и повернул обратно. Галаган со своим ведомым, пролетев много дальше, пропали из виду и показались не скоро. Пожалуй, теперь уже немцу было не до паромов с танками, обе свои подвесные бомбочки он сбросил как попало, совсем в стороне, только бы облегчиться; и не так страшны ему были все те, что плыли под ним по всей ширине реки, ничем не защищенные, такие удобные, ну разве что излишне разбросанные мишени; из этой игры он выключился вовсе, включился в другую игру, на другом этаже, в не лишенную увлекательности воздушную дуэль с русским асом, где ставкой была уже только собственная жизнь, а выигрышем – уйти от смерти. Но на что надеялся немец? Что вот так и будет он уворачиваться от сверхскоростной, но неповоротливой «кобры», пока у нее не опустеют баки? Опять с ревом, буравящим уши и мозг, промчался «юнкерс» над паромом – так низко, что показалось, он ногою шасси сшибет с генерала фуражку. Верно, был у немца расчет, что преследователь остережется расстреливать его над головами своих. Он имел радио, но не знал русского – и не знал Галагана. Вот уж чего мог немец не опасаться, так это генеральских пулеметов. Расстрелять в воздухе – это не удовольствие было для Галагана, удовольствие было – набить морду…
Разогнавшаяся «кобра» настигла «сто сорок шестого» с таким избытком скорости, что можно было подумать, она либо опять проскочит мимо и придется возвращаться, либо врежется ему в хвост. Но, не долетев метров с полсотни, она вдруг взмыла круто, почти вертикально, и оттуда, с далекой высоты, переворотом через крыло повернула обратно, западала вниз, вниз, уже сомнений не оставляя, что вот сейчас расплющится об воду. Генерал Кобрисов, глядя завороженно, с колотящимся сердцем, все же упустил непонятным образом, когда же прекратилось падение и как оказался Галаган ровнехонько у «юнкерса» за хвостом. Воздушный стрелок «юнкерса» уже, видно, был ему не опасен – то ли убит, то ли кончились у него патроны; черный ребристый ствол пулемета задрался кверху и болтался из стороны в сторону.
Погасив свою сумасшедшую скорость, Галаган оставшийся излишек ее убрал взъерошенными тормозными щитками – и летел уже почти вровень с немцем, пристроясь чуть выше, метра на три, медленно опускаясь на него своим серебристым брюхом. Все же для рубки пропеллером еще оставался некоторый излишек, и должно быть, не одному видевшему все это хотелось крикнуть в азарте: «Проскочишь!» – но замедленно, как в полусне, откинулись створки под крыльями, и вышли ноги шасси – так выпускает когти ястреб-тетеревятник над своей неминуемой добычей. Притиснутый к воде, немец лишился единственного маневра, который может совершить преследуемый, – резкого клевка, ухода вниз. Перед «коброй» он был беззащитен совершенно. Плавное проваливание, удар ногою по фонарю кабины, и засверкали, крутясь, брызнувшие осколки плексигласа. «Кобра», приподнявшись, еще продвинулась вперед, опять провалилась и новым касанием снесла немцу лобовое остекление. Затем, приотстав, остекление заднее. Теперь над стесанным фюзеляжем торчала лишь одна черная голова пилота, вертясь и уклоняясь от новых ударов резиновой кувалды.
- Когда простым и нежным взором
- Ласкаешь ты меня, мой друг, —
мурлыкал Галаган в своей кабине; голос он имел среднего достоинства, но был, однако ж, большой любитель попеть «на охоте», —
- Необычайным цветным узором
- Земля и небо вспыхивают вдруг!
– Галаган, – уже взмолился Кобрисов, – и что ты там кувыркаешься, делать тебе не хрена. Уведи ты его, да и прикончи разом!
Галаган услышал, сдвинул назад фортку своего фонаря, помахал рукою в перчатке.
– Грубый ты, Фотий Иваныч, – отвечал Галаган. – Зачем же «разом»? Надо – нежно. И постепенно. Следующим номером нашей программы будем скальп снимать…
Оба исчезли из виду, и когда появились вновь, на немце уже не было его черного шлема – должно быть, сорвал его вместе с наушниками и очками, из страха не все увидеть и услышать. Встречный поток лохматил светлые, соломенного цвета волосы, голова пригибалась к приборной панели, и черная шина совершала над нею округлые пассы…
Во всем этом хватало безумия. Галаган не в пустом воздухе кувыркался, и не в пустом вели свой многоэтажный хоровод пятерка МиГов с восьмеркой «юнкерсов», а в прошитом, прожигаемом снарядами зениток с левого берега, очередями крупнокалиберных пулеметов; эти невидимые трассы вдруг становились видны, когда срабатывали дистанционные взрыватели и вокруг «юнкерсов» вспыхивали молочно-розовые облачка, – оставалось изумляться меткости зенитчиков, ухитрявшихся пусть не попасть в немца, но и своего не задеть. Но вот одному из «юнкерсов» все же досталось – снаряд ему попал в корень крыла, и, отделясь от фюзеляжа, оно устремилось вверх, вращаясь в размашистой спирали, сам же «юнкерс» – тоже в спирали, только обратного вращения – устремился к воде. При такой малой высоте пилоту и стрелку было не выброситься с парашютами; впрочем, и неизвестно было, что сделалось с ними при таком сотрясении, они свои фонари не открыли, падая, не открыли при ударе об воду, погрузились в прозрачной своей коробке и так и не вынырнули, покуда еще маячило над местом падения, как плавник гигантской акулы, другое крыло с черным крестом.
Пришедшая от утопленника волна так накренила паром, что танк со скрежетом пополз боком к фальшборту, едва не обрывая слабые цепи. С грохотом откинулась крышка башенного люка, показалось искаженное ужасом лицо. Молоденький танкист не вынес этого особенного страха, и впрямь непереносимого в тесном пространстве и темноте, вылезти под пули ему было не страшнее, чем пойти на дно в муках удушья.
– Закройсь! – рявкнул на него генерал. – Ты мне тут не нужен пейзажем любоваться, ты мне там нужен целенький. Чего напугался – не выберешься? Жить захочешь – выберешься.
Лейтенант смотрел тупо, но понемногу приходил в себя, видя, как паром качнуло обратно, и цепи, ослабнув, легли на палубу. Донской спокойно, ладошкой, ему напомнил закрыть за собою люк. И лейтенант, подчиняясь, уже улыбался трясущимися губами, смутясь своего греха. Выбраться при утоплении смог бы он один, башенному стрелку, сидевшему ниже, и тем паче механику-водителю судьба была захлебнуться.
Все, что происходило вокруг генерала, было как в полусне. Он кричал на танкиста, но как будто он только слушал и наблюдал, как кто-то другой кричит. И кому-то другому опять подали трубку из люка бронетранспортера, и он за этого другого – должен был спешно решать, что делать. Нефедов ему докладывал, что «фердинанды» уже занимают огневую позицию, уже вышли на прямую наводку, ожидают, когда подплывут поближе танки.
– Уходи! – кричал генерал. – Уходи с людьми подальше и корректируй. Больше ты же не сможешь, Нефедов! Ну, не совсем же у нас пушкари криворукие, авось что-нибудь смайстрячат…
Трубка не отвечала. Должно быть, полуоглохший Нефедов там соображал, что бы такое могли «смайстрячить» артиллеристы. А может быть, уже просто не слышал ничего…
– Что молчишь? – спросил генерал.
– Да вот думаю… Лучше ли оно будет – всю работу пушкарям передоверить?.. Не знаю.
И трубка замолчала надолго. Уже насовсем.
…А все же кто-то из них вынырнул, из экипажа утонувшего «юнкерса». Неожиданно среди зыбей показалась его одинокая голова в шлеме и выпуклых очках, как будто поднялся из глубины обитатель дна, и первое, что он сделал, хлебнув воздуха распяленным ртом, – что было сил закричал. В его крике был пережитый ужас, неодолимая жалость к себе, обида на весь треклятый мир. Он кричал и плыл – торопясь, загребая широкими взмахами, выскакивая из воды чуть не до пояса, тратя много яростной энергии, да только не туда плыл, куда ему следовало, плыл к левому берегу, до которого его не могло хватить, плыл навстречу тем, кто не должны были его пощадить, а должны были забить насмерть чем попало – прикладом, веслом, саперной лопаткой. Что-то случилось с его головой – он потерял всякие ориентиры, или потерял зрение, или, проще того, не соображал протереть запотевшие, забрызганные очки, да просто сорвать их к чертям – и увидеть, что еще не потеряно спастись… А над ним, над всею переправой, преследуемый неистовым Галаганом, все носился затравленный «сто сорок шестой», уже, наверное, на исходе горючего, и может быть, завидуя участи товарища по эскадрилье, мечтая хотя бы приводниться, как он, или, напротив, страшась такого приводнения, в котором так же мало было спасения, как и в воздухе, перенасыщенном ненавистью…
…Палуба вдруг пошла из-под ног. Это паром с разбегу уткнулся в песок плеса. Лишь тогда генерал, повернув голову, увидел нависавшую над ним, уходящую в небо кручу берега. Потревоженные стрижи выпархивали из своих нор и кружились стаями, не желая разлетаться далеко. Упали на плес аппарели, и выпрыгнувший все же из танка лейтенант, давеча испугавшийся, вместе с Шестериковым освобождали танк от его цепных пут. Механик-водитель из своего люка выглядывал – не пора ли ему рвануть.
И рванул-таки, не дожидаясь команды, еле не выдернув из палубы последний удерживавший его рым; гусеницы яростно отшвырнули назад визжащую аппарель, и паром, всплывая, отвалил от берега и закачался на волне, не давая сползти «виллису» и бронетранспортеру.
Латаная чумазая «тридцатьчетверка» шла уже по Правобережью, она шла под обрывом, узкой полоской, где было бы не разойтись двоим, она тыкалась в расселины, ища, где положе, где бы ей взобраться на кручу, а где-то высоко над ее башней еще, наверно, шел бой за ее спасение, горстка людей пыталась отвратить от нее бронебойные жерла «фердинандов». Под кручей она еще была в безопасности, но что ждало ее наверху? Что там вообще происходило?
Генерал, не дожидаясь «виллиса», сейчас и не нужного ему, спрыгнул в воду, ему оказалось по пояс, и побрел к берегу, помогая себе взмахами рук, точно при косьбе. Пехота, попрыгавшая с плотов, его обгоняла, один кто-то его узнал, сообщил дальше: «Командующий на плацдарме!» – и другим тоже захотелось посмотреть на командующего, в кои-то веки достается такое увидеть солдату. А может статься, поглядывали, как бы не допустить погибели этого чудака, зная по извечному русскому опыту, что новое начальство всегда хуже прежнего. Во всем, что он делал, тоже хватало безумия – куда теперь так спешил он? Донской и Шестериков разыскали для него тропку, взбегающую серпантином, пошли впереди него, они заранее его заслоняли от пуль, могших полоснуть с обрыва. По этой тропке, протоптанной, должно быть, жителями хутора, которые приходили сюда купаться или скотину пригоняли на водопой, он поднимался бесконечно долго, тяжело отдуваясь, обрывая сердце, от высоты уже начинало дух занимать, а в ноздри ударяли запахи гари, и едкий дым щипал горло; мучительно, тошнотворно пахло горящей резиной…
…Это догорали обрезиненные катки «фердинандов», стоявших вразброс посреди клеверного поля, дальше пустого – вплоть до огородных плетней хутора. Там уже хозяйничали свои – наклоняли «журавль», с бодрыми возгласами доставали воду из колодца. «Правильное место я выбрал, – похвалил себя генерал. – Но что же они тут защищали? И как почувствовали, что я именно здесь высажусь с танками?» На некоторые вопросы никогда не находилось ответа, и он отвечал на них одинаково просто: «Война». Шесть обгорелых, подорванных чудищ с открытыми люками, покинутые своими экипажами «фердинанды» выглядели по-прежнему грозно, но сталь их была мертва – это сразу чувствовалось. Всю жизнь имевший дела со смертоносной, поражающей или, напротив, защитной сталью, он каким-то чутьем, неясным ему, но безошибочным, определял сталь неживую, уже не способную двигаться, работать, исполнить свое назначение; даже казалось ему, она пахнет мертвечиной и вскорости станет разлагаться, как умершая плоть людская. Этой плоти, упакованной в черные комбинезоны, тоже довольно здесь было; ища спасения от невыносимого жара, от страха сгореть заживо, они нашли всего лишь более легкую и быструю смерть неподалеку от своих машин. Светлые волосы выбивались из-под шлемофонов, ветер их шевелил и овевал изжелта-черным дымом. Этот же волнуемый ветром клевер упокоил и свою «серую скотинку», тоже разбросанную прихотливо – кто к небу лицом, а чаще затылком, стриженным «под ноль», – зрелище, столько раз виденное и к которому не мог он никогда привыкнуть. Между своими и немцами не было никакой нейтральной полосы; так близко сошлись в бою, что теперь иные лежали вперемешку. Один свой как будто пошевелился слабо, но, может быть, это лишь показалось генералу.
Живых осталось четверо. Трое из них успели уже после боя крепко хватить из фляжек, а может быть, и повредились в уме, говорить с ними было непросто. Лейтенанта Нефедова нашли в мелком, наспех отрытом окопчике, где он едва помещался сидя, опираясь затылком на бруствер. Руки он прижимал к животу; под задранной гимнастеркой, измазанной в липкой земле, белели намотанные щедро и беспорядочно бинты. Глаза его были закрыты, бледные губы обкусаны, лицо осунулось и стало почти неузнаваемым.
Донской наклонился над ним.
– Жив, – сказал он уверенно. И спросил раненого: – Можешь поговорить с командующим?
Нефедов, с видимым усилием, приподнял веки. Глаза его где-то блуждали, смотрели как бы сквозь людей. При виде генерала едва обозначилось в них удивление.
– Так это вы с парома со мной говорили? – спросил он каким-то бесцветным голосом. – А я думал, с берега. И чего, думаю, шум у него такой? Ну, значит, лично будете принимать?..
Он опять закрыл глаза.
– Что он сказал? – спросил генерал. И тоже наклонился к раненому. – Что принимать, Нефедов?
– Плацдарм, товарищ Киреев, – ответил раненый. – Плацдарм… Или вы уже не Киреев?.. Там, на хуторе, еще два «федьки» прячутся. Ушли. Вы уж как-нибудь их сами…
– Ты не беспокойся, – сказал генерал. И, спохватясь, что еще что-то должен сказать, добавил: – Спасибо тебе, дорогой. Считай, ты уже на Героя представлен.
– Вам спасибо, – ответил Нефедов не скоро, и было не понять, улыбается он или кривится от боли. – Но мне уже не нужно ничего… Видите, схлопотал очередь… Теперь мне бы только покоя…
– Кого б ты еще назвал, четверых? – спросил Донской, раскрывая планшетку. – Кто, по-твоему, особо отличился?
– Никто. Мы не отличались… Мы все старались… Как я могу кого-то обидеть?
– Всем ордена будут. Но кто-то же больше всех сделал, – говорил Донской ласково-терпеливо, но и настойчиво. – Князев, заместитель твой? Еще кто?
– Старший сержант Князев погиб самым первым. У него бутылка разбилась в руке. При замахе. Может, пуля попала… Не знаю, не видел. Видел, как он горит факелом. И нельзя было потушить никак… Там он лежит, узнать его можно. Вы только осторожно тут ходите, вдруг кто стрелять начнет… в полусознании.
– Князеву посмертно, – сказал Донской, взглянув вопросительно на генерала. – Кого еще назовешь?
– Никого. Никому ничего не нужно посмертно. Я это хорошо знаю. И мне тоже не нужно, когда умру. И если выживу – не нужно. Я слишком многое понял… Только говорить трудно… А помните, – он снова открыл глаза и тотчас закрыл, – вы написать обещали?..
– Что ты! – сказал генерал. – Жить будешь, Нефедов. Сейчас помогут тебе.
– Ох, ничем вы мне не поможете… Никто. И не спрашивайте меня… Можно я просто так полежу?..
Все трое стоявших над ним распрямились. И генерал не знал, что еще сказать умирающему, чем ободрить. Вся его чудовищная власть – одного над сотнею тысяч – сейчас была бессильна не то что помочь этому парню выжить, но хоть уменьшить страдания. Даже такого простого он сейчас не мог – обратной переправой, этой наперекор, чтоб его доставили и сразу положили на стол и, может быть, что-то сделали.
– Шестериков, – сказал генерал, отведя его подальше. – Санитары должны бы прибыть, но что они знают? Сходи сестру разыщи, она с батальоном должна была переправиться. Его перевязать надо, бинты протекли, но мы же тут напортачим без нее. Может, его обмыть надо, а может, водой мочить – только загубим. Она – знает.
Шестериков молча кивнул и, закинув автомат за плечо, пошел к обрыву.
Генерал, расстегнув кожанку и сняв фуражку, медленно бродил по этому маленькому лагерю бессловесных. Никто уже не шевелился, и некого было спросить, как же здесь все происходило. Бой был коротким, скоротечным, и часа не прошло, как Нефедов сказал, что еще подумает, передоверить ли эту работу артиллеристам или же исполнить ее самим, обойдясь гранатами и бутылками. Как из восьми «фердинандов» шесть были уничтожены, это на них читалось ясно, а двое ушли потому, наверное, что совсем лишились прикрытия пехоты. Вот все они лежат – семнадцать своих и, наверно, столько же немцев; судить по петличкам, это техническая обслуга была, механики, слесари-оружейники, они и не обязаны были идти в бой, у немцев это четко расписано, однако в тяжкую для их товарищей минуту похватали автоматы и попытались защитить свои «коробочки», свои «керосинки». Они тоже не отличались, они старались. Что ж, и они свой долг исполнили, ответили по-солдатски на вызов судьбы, но самим-то себе ответили они, зачем оказались здесь? Зачем пришли на чужую землю – и погибли, спасая железные коробки? Вот так, буквально, случилось казавшееся даже пошлым: «Люди гибнут за металл». Хватило ума хотя бы двоим экипажам уйти от безумия.
– Вернулся, – сказал Донской совсем рядом. Он, оказывается, все это время бродил следом, как тень. – За смертью тебя посылать, Шестериков!
Шестериков, взобравшись на кручу, шел и оглядывался куда-то назад, на Днепр. Он не спешил ни отозваться, ни подойти. И генерал никак не мог понять, почему так долго идет к нему Шестериков. Вдруг он сел на землю, стащил сапог, стал перематывать портянку. Наверное, что-то попало туда, камешек или песку насыпалось, но почему-то, покончив с одним сапогом, он принялся за другой. В оба сразу, что ли, попало ему по камешку? И еще долго, прыгая на одной ноге, он свой сапог натягивал. Сердце у генерала билось все тревожнее, а Шестериков все шел и шел к нему и никак не мог приблизиться.
Наконец он подошел и, не подняв глаза на генерала, сплюнул в сторону.
– Что скажешь? – спросил генерал. – Высаживается батальон?
Шестериков кивнул молча.
– Где ж сестра? Она с ними должна быть.
– Должна, да не обязана, – сказал Шестериков и опять сплюнул. Он еще никогда не позволял себе таких вольностей. Затем посмотрел наконец в глаза генералу. – Потонула сестричка, Фотий Иванович. И главное дело, никто не видал как. Смотрят, а уже и нету ее в лодке. Наверно, в голову попало. А то бы закричала.
– Как же это? – спросил генерал. – Как допустили?
– Переправа, – объяснил Шестериков.
Он сказал вещь бессмысленную, но все объясняющую. Генерал смотрел на него и ждал, что он еще что-нибудь скажет. Может быть, скажет, что это еще недостоверно, что вот сейчас все выяснят и доложат – и окажется, что ошиблись, она в другой лодке была…
– Все точно, – сказал Шестериков. – Ну, хотя бы не мучилась…
– Да откуда ты знаешь?
Шестериков лишь вздохнул покорно.
Генерал, оставив его, пошел к обрыву. То самое чувство влекло его, которое тянет нас посмотреть на чью-нибудь недавнюю могилу. А ведь все так недавно и было, еще звучал для него не искаженный временем, печальный ночной шепот: «…вижу, как ты лежишь – сразу же за переправой, совсем без движения… далеко не уйдешь…» Но вот он стоял высоко над бездной, куда ее утянула тяжелая сумка, с которой она не могла расстаться, и он был невредим и мог идти дальше. Только одно сбылось: «…ты со мною уже не будешь».
Хриплые вскрики ворвались в его сознание: «Взяли!.. Еще разок… Взяли!» Внизу, как раз под ним, артиллеристы поднимали «сорокапятку». Пехота им помогала. Два десятка людей, отягченных своей амуницией и оружием, голыми руками упираясь в ступицы колес, в станины лафета, в щит, а кто ухватясь за ребра дульного тормоза, хрипя от натуги, втаскивали пушку на крутизну плацдарма. Одолев метр-полтора, подкладывали под колеса камни и отдыхали, отирали пот из-под касок, поправляли шинельные скатки, держась за свою «прощай-родину» и отчего-то улыбаясь друг другу. Спохватясь через полминуты, наваливались снова. Было в этой картине что-то уже забытое человеком, из времен пещерных. «Это еще что, пушинка, – подумал генерал, – а вот как танки будем подымать тридцатитонные?.. А так же и будем». И надо было спешить, покуда не прочухали немцы, что «фердинандов» больше нет, и не обрушили свой огонь на пристрелянный берег. Это чудо какое-то, что еще не спохватились! Найдя наконец, чем себя занять, он скинул свою кожанку – прямо наземь, зная, что подберет Шестериков, – и стал закатывать рукава рубашки. Покуда не взойдут на плацдарм танки, не скажешь себе: «Дело сделано», переправа еще не состоялась.
Там, на востоке, куда обращал он взгляд, день уже занялся, но солнцу никак было не пробиться сквозь плотные мглистые облака. Лишь круглое скользящее посветление указывало, где оно сейчас находится. Он смотрел долго, не в состоянии вместить в себя все, что уже случилось в это утро и еще должно было случиться начинающимся днем, и глаза у него слезились. Он их потер руками и когда глянул снова, то увидел в облаках просвет, крохотное озерцо синевы, куда солнце проникло краешком и тотчас брызнуло золотым лучом. Он был устремлен вверх, к небесному хмурому своду, но ветер гнал облака, и луч повернулся в разрыве между ними, в проталине синевы, как огромная стрелка часов. Он сначала расширялся веером, но вскоре стал сужаться, с каждой секундой меняя цвет, покуда не сделался медно-красным.
Узким разящим мечом он опустился на воду, разрубив Днепр надвое, и светлая бликующая дорожка, пересекавшая реку, запламенела, окрасилась в красно-малиновый. По обеим сторонам дорожки река была еще темной, но казалось, и там, под темным покровом, она тоже красна, и вся она исходила паром, как дымится свежая, обильная теплой кровью, рана.
Река крови текла между берегов, и все, что плыть могло, плыло в этой крови. Плыли конники, держа под уздцы коней, возложив на седла узлы с одеждой и оружием. Плыли артиллеристы на плотах, везли свои «сорокапятки» и тяжелые минометы, упираясь ногами в мокрый настил, а руками крепко держась за свое добро, чтоб не утопить при накренении. Плыла пехота в лодках и на плотах, на связанных гроздьями бочках, на пляжных лежаках, на бревнах, на кипах досок, сколоченных костылями или обмотанных веревками, на сорванных с петель дверных полотнах и просто вплавь, толкая перед собою суковатое полено или надутую автомобильную камеру.
И плыли густо – наперерез им – убитые, по большей части – вниз лицом, а затылком к небу, и на спине у многих под гимнастеркой вздувался воздушный пузырь. Живые их отталкивали, отводили от себя веслами и баграми, стволом автомата и плыть продолжали.
Все живое – пестрое, шумное, нескончаемое – достигало плеса, цеплялось за кромку берега сапогами, копытами, колесами, траками гусениц и ползло, ползло по крутостям склона сюда, к нему, так вожделенно стремясь к унылому клеверному полю, с его мертвецами и сгоревшими «фердинандами», – зловещая, отвратительная, но и прекрасная картина, от которой он не мог оторвать глаз.
Глава четвертая
Даешь Предславль!
1
Женщина переходила дорогу и остановилась, услышав недальний, из глубины лесной просеки, шум мотора. Приближался крытый брезентом «виллис», без номера и с маскировочными синими фарами, с белой левой частью бампера, а женщина знала по опыту, что фронтовые шоферы правилами не утруждают себя и очень не любят тормозить; особенно же не любят они, когда неизвестные перебегают им дорогу, да притом в лесу, и самое разумное – застыть на месте и переждать. Женщина так и поступила, опустив на асфальт ведра, полные грибов. «Виллис» налетел и промчался, обдав ее влажным ветром и бензинной гарью. На миг показалось полутемное его нутро, и сквозь забрызганное слякотью лобовое стекло она успела разглядеть сидевшего спереди крупного человека – нахмуренное его лицо, примятую полевую фуражку, две большие звезды на погоне.
В деревне, где жила женщина, увидеть генерала считалось к добру, хотя едва ли бы кто взялся объяснить, в чем бы это добро состояло. Однако ж промелькнувшее видение прибавило ей настроения и чем-то отличило этот день из тысячи других. И так как «виллис» промчался в сторону Москвы, то она решила, что генерал, верно, туда едет за орденом, и пожелала ему самого главного из всех орденов, а по привычке подумала о нем как о возможном муже, с которым бы она жила в той далекой Москве, если б выпало ей там родиться и если б какие-нибудь счастливые обстоятельства их свели. Но поскольку она Москвы не видела и не надеялась в ней когда бы то ни было побывать, то и представление о муже-генерале не удержалось в ее сознании, его заполнили другие соображения, главным образом о грибах, которые ей сейчас предстояло перебрать, почистить, отделить, какие для сегодняшней варки, а какие для засолки – горячей или холодной.
В свой черед, и генерал не миновал своим вниманием женщины под серым платком, в безразмерном ватнике и резиновых сапогах, стоявшей на обочине шоссе с полными ведрами, – это показалось ему доброй приметой, хотя он и не знал в точности, что она означала. И мысль его об этой женщине была заурядной мыслью проезжего человека: что вот и здесь живут люди своей муравьиной жизнью, в которой нашлось бы место и ему – быть хотя бы мужем этой женщины, не старой и не молодой, а как раз ему по возрасту; здесь бы он затерялся, как песчинка в прибрежной отмели, укрылся от всех огорчений и забот, исполнил самое, может быть, естественное для человека – уйти от суеты мира, от слишком пристального внимания ближних. А может быть, и не было бы у него вовсе этих тревог, когда бы выпало ему родиться здесь, в нетронутой лесной глуши. А впрочем, война, которая и сюда докатилась и схлынула, все равно бы его достигла и отсюда вытянула, да и не его удел – укрыться от чего бы то ни было…
…Как ему и предсказывала та, о ком он напрасно старался не думать, он далеко не ушел от переправы. Его временное житье на отшибе, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, в двух километрах от Днепра, кончилось неожиданно и сразу, когда он услышал железное урчание и в проломе стены проплыл дульный срез танковой пушки, а следом вплыла и замерла высокая башня «KB». Кажется, Хрущев завел моду высоким чинам разъезжать повсюду в танках – признаться, не лишенную смысла: она и проходимость повышала, и сокращала нужду в большой охране. В этом танке наехал к нему Ватутин – как и он сам любил наезжать нежданно к своим подчиненным, чтобы застать все как есть. Напрасно ему казалось, что если не тревожить начальство новыми предприятиями, то все обойдется. Он забыл свое же мудрое изречение насчет вкусной дичи: она вызывает интерес не тем, что кого-то беспокоит, а тем, что вкусная.
Кобрисов, спешно застегиваясь, вышел встречать. С видимым трудом, при своей коренастости и тучности, командующий фронтом протиснулся из люка, но спрыгнуть молодо не решился. Кобрисов ему помог сойти – за что получил добрый совет:
– И ты бы вот так ездил, очень даже удобно. Хотя – ты моими советами пренебрегаешь.
Это он напомнил, что Кобрисов к нему не обратился в канун переправы, а поспешил свои танки угнать. Кобрисов склонил голову, что могло значить и признание своего проступка, и что победителей не судят.
– Духоты не люблю, – сказал он примирительно. – Люблю чистым ветерком дышать. – И добавил некстати: – Тоже и армия хочет видеть своего генерала.
– А я хочу видеть тебя, – возразил Ватутин слегка запальчиво. – Живого и не раненого.
Убежище Кобрисова – наспех отрытую щель под окнами – он осмотрел критически, заметил, что слишком близко к стене и при бомбежке завалить может, не удержался и от других замечаний:
– Что у вас делается, генерал Кобрисов? Охранения – никакого. От самой переправы еду, и никто мой танк не задержал.
– Стало быть, знали, кто в танке едет.
– Ах так…
– Да уж, догадались. А что вы моего охранения не заметили, за это я им, с вашего разрешения, благодарность объявлю. Умеют маскироваться и начальство зря не беспокоят.
Ватутин посмотрел на него с легкой усмешкой, едва скрывавшей раздражение.
– Занятный ты мужичок, Кобрисов. Ладно, веди в свои покои, посмотрю, как ты живешь.
Кобрисов его повел на второй этаж, в дальнюю угловую комнатку с табличкой на двери «Комната матери и ребенка»; там Шестериков поставил койку, письменный стол и табурет. Другая мебель здесь бы не поместилась, поэтому хозяин уселся на койку, гость же оседлал табурет, – не сняв кожанки и отклонив предложенный чай, тем подчеркнув спешность и кратковременность своего пребывания.
Не сказать чтоб жилище Кобрисова ему больше понравилось.
– Что-то ты… слишком уж скромненько. Прямо как студент живешь. При штабе оно бы веселее…
– Да штаб мой еще не весь переправился. Как только окопается – тут неподалеку, в селе, – так и я переселюсь.
– Ага… А то уже слухи ходят, ты с людьми не уживаешься.
– Слухи, – сказал Кобрисов.
Ватутин долго смотрел на него синими глазами, слегка досадливо покусывая губы. Он в этот приезд заметно внимательней всматривался в лицо Кобрисова, желая, верно, прочесть в нем что-то новое и еще не открывшееся либо то, чего раньше не замечал.
– Хочешь мое мнение знать? – спросил он.
– Весь внимание, Николай Федорович.
– С переправой тебе, в общем, повезло. Почти не встретил сопротивления. Противник здесь не имел резервов. Что, между прочим, соответствовало нашим предварительным оценкам. Это не значит, что нет твоей заслуги – хотя бы в выборе места. А все же еще две причины сработали: одна – что фон Штайнера все ж таки Сибежский плацдарм, который ты критикуешь, сильней занимает. А вторая – может быть, тут сыграло роль, что не сразу ты эту переправу затеял. Он уже, поди, считал, что мы тут не рискнем. А мы вот рискнули – разрешили тебе взять плацдарм. Ну и твоя заслуга тут тоже есть – напомнил, настоял…
Кобрисов дважды покорно склонил голову, не соглашаясь ни с первой причиной, ни со второй.
– Подозрительно мне, – сказал Ватутин, – когда ты соглашаешься. Все же загадочный ты мужик, Фотий… Но… Бог с тобой. Я не затем к тебе на пароме переправлялся, чтоб твое согласие испрашивать…
«А зачем ты переправлялся?» – подумал Кобрисов.
– А затем, – продолжал Ватутин, – чтоб сказать тебе: определись, Кобрисов. Определи свои отношения с соседями. Вот ты переправился – и глазом уже на Предславль косишь. Уже твоя армия правым плечиком вперед стоит и команды «Марш!» ожидает. Ну, так мы все и подумали сразу. Не буду тебя экзаменовать, как мальчишку, какой у тебя дальнейший план. А только о Мырятине ты всерьез не думаешь – как оно, между прочим, было бы по правилам. Это для тебя мизер. А напрасно, противник еще далеко не выдохся, он может вот именно тут подтянуть резервы. Я ни на чем не настаиваю, генерал Кобрисов. То есть я пока не настаиваю. Но грянет час, тебе этим городишкой станут глаза колоть.
– Что ж вы думаете, вдруг я Предславль возьму? С моими-то силенками?
– Прибедняешься, – сказал Ватутин. – Я тебя ценю… ценил до сих пор, по крайней мере, что ты все же не числом пытаешься воевать, а каким-никаким умением. Но «вдруг» у тебя уже точно не получится. Покуда стоял ты себе спокойно, где судьба определила, никого это не волновало. А ты – плацдарм берешь… Так что «вдруг» тебе одному не обломится. Но на свою долю… значительную долю в общей победе – ты теперь можешь претендовать. За успешную переправу. За дерзость. И вообще – пора тебе как-то приобщиться побольше к людям, в круг войти. Ты же любимцем фронта мог бы стать, не хуже Чарновского. Подумай об этом. И не уставай благодарить соседей. За вклад. За чувство локтя… или как там? В общем, солидарность прояви. Мой тебе совет. Не начальственный – дружеский.
– Спасибо…
– На здоровье. Это уж как водится…
Большей откровенности они бы достигли, прибегнув к водочке, но это для данных русских особей исключалось, поскольку один из двух, Ватутин, был непьющий. Среди генералов, каких только знал Кобрисов, этот выделялся не столько редкой работоспособностью, как этим дивным свойством. За что и считался «интеллигентом». Не так чтобы истый был трезвенник, мог при случае и пригубить, но к откровенности это не больше располагало, чем «напиток полководцев» – чай.
И все же Кобрисов смог оценить расположение к нему начальства, когда оно, понизив голос, произнесло с грустью:
– Ты же знаешь, Фотий, мы со своими больше воюем, чем с немцами. Если б мы со своими не воевали, уже б давно были в Берлине…
Этими словами, подчеркнув интонацией и скорбной игрой лица, что они – предел доверительности, он ее и закрыл. Откликнуться на них нельзя было иначе, как долгим вздохом и невнятными междометиями. А сколько еще хотелось спросить Кобрисову, как жгло ему язык: «Упрекали меня, что не замахиваюсь по-крупному. Ну вот, еще не замахнулся, даже и намерения не проявил – и что же? Нет у меня права на такой замах, все права – у Терещенки?» Но он предпочел – благодарить. И кажется, его благодарность не показалась Ватутину подозрительной. Значит, повел себя, как вкусная дичь.
Тотчас по отбытии командующего фронтом генерал Кобрисов достал свою карту с первоначальным эскизом, который он набросал сразу после переправы. Эскиз успел постареть: уже не один, а два плацдарма имела его армия на Правобережье, соединенных узкой, в полкилометра, полоскою берега. Между ними вклинивался «свиньей» передний край немецкой обороны; почти в центре этого треугольного выступа и находился Мырятин. И первой же мыслью Кобрисова было – ударить с двух сторон под основание выступа. Два глубоких охватывающих вклинения, так повернутых остриями друг к другу, чтобы где-то за Мырятином угадывалось пересеченье осей, создавали бы предпосылку окружения. Мысль была проста до примитива, но тем и нравилась Кобрисову. Она вполне удовлетворяла известному требованию Гинденбурга: «Наибольший успех нам обеспечивает простота замысла». Было здесь, правда, и осложнение, связанное с передачей оперативной инициативы противнику; пришлось бы ждать его ответных шагов, но на сей счет генерал Кобрисов беспокоился не слишком и говорил, сам себе подмигивая: «И подождем, куда тут торопиться…» Его замысел, помимо достоинств простоты, еще и успокоил бы тех, для кого надо было изобразить операцию. Эти клинья, вонзившиеся в оборону противника, хотя бы на том и застывшие, выглядели куда динамичнее линейного фронта; немцам они грозили «котлом», соседи – могли убедиться: человек поглощен операцией с решительной целью и большим размахом, о каком Предславле ему еще думать…
Вычертив эти две стрелы, он принялся раскладывать пасьянс. Всегдашнее горестное занятие генерала – что-то выкраивать из дорогих ему, таких необходимых сил и средств, которых всегда не хватает! Не хватает людей, орудий, танков, самолетов, снарядов, горючего, водки, жратвы, черта, дьявола. (И конечно, всегда баб не хватает!..) Счет шел уже не на дивизии – на полки; разведанные силы противника большего и не требовали, но жаль было и полков! С болью в душе он выделил на каждое вклинение по три отдельных стрелковых полка, усиленных противотанковыми артдивизионами. Еще покряхтев, вспомнив, что скупой платит дважды, добавил по пулеметному батальону. Записал себе – попросить у Галагана хоть по две эскадрильи штурмовиков. Танков – рука не поднялась хоть один отдать из шестидесяти двух. «Выкуси! – сказал он тому неведомому, кто на них рот разевал, все требовал и требовал. – И на том спасибо скажи!»
Особенной скрытности он не добивался, напротив – командирам полков велено было не таить приготовлений. Он даже прибавил к своему замыслу пошуметь танковыми моторами, полязгать, пострелять, а затем незаметно их вывести и уже бесповоротно обратить на Предславль! Была надежда, что окружения и не понадобится, слишком очевидна его неотвратимая угроза, и всяк здравомыслящий должен бы загодя унести ноги из «мешка».
Но, когда обрели его изогнутые стрелы материальное воплощение, когда шесть полков, с боями не чрезмерно кровавыми, – а местами, в лесах, и вовсе без боев, – углубились под основание мырятинского выступа, вдруг выявилась эта странность в поведении противника: он не выказал жгучего желания унести ноги из «мешка». Он как будто вообще не принял всерьез угрозу окружения. Воздушная разведка не отмечала признаков эвакуации, ни приготовлений к ней. Командиры полков докладывали об ожесточении обороны, каждый километр забирал все больше усилий и жертв. Такой прыти – и такой неосторожности! – не ожидалось от немцев после Курской дуги. Всякий час тревожился Кобрисов, что клинья увязнут совсем и повторится ситуация на Сибеже. И речи уже не будет о том, чтобы и Мырятин тебе, и Предславль, но либо то, либо другое. А скорее – то. От него станут требовать и ждать, чтобы он как-то вышел достойно из авантюры, в которую влип, или бы уже продолжил свою операцию до победного исхода, и он будет бросать и бросать войска, не видя конца этому, ни дна ненасытной прорве, и вся надежда будет, что вырвет победу последний брошенный батальон…
Он ломал голову: с чего вдруг так вцепились немцы в заштатный городишко? Что прикрывает собою этот, с позволения сказать, опорный пункт? Какой оперативный замысел на него опирается? А не могла ли то быть еще одна ловушка фон Штайнера, чтоб тут увязли русские – и не помышляли о броске на Предславль? Красную тряпку бросили быку – топтать ее в ярости. Задним числом казалось Кобрисову, что и тогда было что-то пугающее в подозрительной простоте замысла. Некое коварство таилось в ней – как в вечном двигателе, который оборачивается инженерным абсурдом: не только не работает, но даже с трудом выводится из инерции покоя. Он клал перед собою снимок фельдмаршала, едущего по приволжской степи на танке, высунясь из люка по грудь, вглядывался в полное холеное лицо под черной пилоткой, с надменною складкой рта, усиками лопаточкой, посверкивающим в глазу моноклем. Эти усики под фюрера и монокль в сочетании с башнею танка не говорили о слишком оригинальной личности, но был же он и впрямь недурной вояка. «Что же это ты мне уготовил, братец Эрих?» – спрашивал Кобрисов, и тут же закрадывалось подозрение: да может статься, ни черта не уготовил братец Эрих, не мог же он предвидеть, что возникнет плацдарм раздвоенный, что приедет Ватутин со своими советами, что Кобрисов и сам, еще до этого, на всякий случай, станет набрасывать свой эскиз. Просто сложилось так. Но – откуда же такое ожесточение? Что их там держит, не помышляющих ни о каком отступлении?
В конце концов он понял, что его пугало. Он знал о численности войск противника, но не знал их состава. А могли же быть в Мырятине части СС, которым отступить не позволяют соображения престижа. И перебежчиков от них не дождешься – ввиду причастности к операциям карательным. Так пришла мысль, что позарез нужен пленный. И коли дело касалось, скорее всего, духа армии, то безразлично было, какого чина ему добудут. Право, какой-нибудь обозник свидетельствует об этом духе даже выразительней.
И буквально через час, как адъютант Донской заказал «языка» разведотделу штаба, сообщили, что вот есть свеженький, взят неподалеку от наших позиций, утверждает, что шел сдаваться. Впрочем, к допросу еще не приступали.
– И хорошо, что он у вас недопрошенный, мне такого и надо, – сказал генерал. Уже допрошенный «язык», он знал, только и думать будет, как бы не разойтись с первоначальной версией. – Гоните его сразу ко мне, с переводчиком.
Начальник разведотдела возразил, странно помявшись, что переводчик не потребуется.
– Он что, – спросил генерал, – и по-русски лопочет?
– Только по-русски и лопочет, ни на каком другом. Так он утверждает.
– Не понимаю… Он из местных, что ли? Или же дезертир какой?
– Не из местных, товарищ командующий. И не дезертир. С его слов – наш будто бы. Ручаться не могу.
Ничто не предвещало особенной неожиданности, когда пленного доставили, и генерал направился к нему в другое крыло вокзальчика, в комнату, очищенную от обломков и даже со вставленными стеклами, где он принимал подчиненных. При виде него вскочил коренастый, невысокий ростом, круглоголовый парень в пятнистом комбинезоне, назвался то ли Лобановым, то ли Барановым, генерал не разобрал. Пленный был очень напряжен и, наверное, оттого взрывчато заикался.
Встал от окна еще кто-то, освещенный сзади, сказал несколько игриво:
– Все тот же вездесущий майор Светлооков. Разрешите поприсутствовать, не помешаю. – И прежде чем генерал мог бы ответить, пояснил, усаживаясь: – Пленный как-никак за мной числится, за нашим отделом.
Генерал возразил было, что у него и у Смерша интерес к пленному разный и, может быть, лучше бы допрашивать раздельно, но затруднился, говорить ли со Светлооковым на «ты» или на «вы». Так повелось в армии, что сверху нисходило отеческое «ты», а встречно восходило сыновнее «вы» – в зависимости от чина-звания, не от разницы в летах. Так разговаривал он с Ватутиным, годами намного младшим. С майором Светлооковым тоже сложилось на «вы», но при тоне игривом, когда это и выглядело как шутка. Серьезного же разговора у них покуда не было, к тому же генерал не знал толком, в какой мере подчиняется ему этот майор. Говорилось о двойном подчинении Смерша, о «тесном контакте» с госбезопасностью, но, похоже, истинно и признавали они только ее министра Абакумова.
– Не возражаю, – сказал генерал угрюмо и на себя же рассердился – за то, что Светлооков и дожидаться не стал его разрешения. Побарабанив пальцами по столику, за которым сел напротив пленного, генерал успокоился и задал вопрос неожиданный, но очень естественный в армии: – Кормили тебя?
Пленный опять вскочил, оглядываясь в растерянности на Светлоокова. И обещавший не вмешиваться Светлооков ответил за него:
– Не извольте беспокоиться, товарищ командующий. Они там отобедамши.
– Где «там»?
– Там, откуда прибыли. У противника. И двух часов не прошло.
Пленный было рот раскрыл что-то сказать, но лишь кивнул согласно.
– Поведай, – сказал генерал, – как попал в плен. Как из него бежал.
На Светлоокова он не смотрел, и пленный, который был весь внимание и звериная напряженность, это заметил, стал говорить уже не так заикаясь, а главное, с видимой жаждой выговориться.
Поведал он про то, чего все же не ждал генерал от своих не щепетильных соседей, что переполнило уже налитую до краев кровавую чашу Сибежского плацдарма. В довершение всей авантюры попытались ее исправить новой авантюрой – воздушным десантом, и столь массированным, какого еще не видывала история войн. Общего числа пленный, естественно, не знал, но свою воздушно-десантную бригаду назвал пятой, из чего генерал мог заключить без большой ошибки, что пять их, поди, и было задействовано – число, предпочитаемое дураками… К могучему замаху еще добавилась тонкая идея десанта ночного, «под покровом темноты» – будто немцам составило бы тяжкий труд рассеять этот покров прожекторами, осветительными ракетами, висячими бомбами-лампионами! И отсюда пошли все беды. Выбросить пять бригад решено было за одну ночь, в крайнем случае за две, не имея аэродромов ближе чем за двести километров от Днепра, не имея и самолетов в достатке. Это какой-нибудь сорокаместный Ли-2 или же буксировщик планеров должен был за ночь несколько рейсов совершить, несколько взлетов, посадок… Так спешили, что задачу десантникам ставили за час до взлета, а обдумывали ее на лету. Так спешили, что в экипажи набрали пилотов, не имевших опыта ночных вылетов; выдержать нужную малую высоту они и не старались, от огня зениток и ночных истребителей уходили повыше и увеличивали скорость, и людей разбрасывали по огромной и неизведанной площади. Падали в воды Днепра – и тонули многие, не сумев еще в воздухе освободиться от стропов. Падали, ослепленные прожекторами, на немецкие боевые порядки, падали навстречу трассам зенитного огня, на многажды пробитых, на сгорающих куполах парашютов. Самых удачливых относило благодетельным ветром к своему левому берегу, и ужо свои наверняка заподозривали дезертирство из боя, которое и впрямь не так сложно для десантника, наученного управлять падением и сносом. Те же, кто приземлялись все-таки в заданном месте, должны были его обозначить кострами и ракетами, но вскоре и немцы из противодесантных отрядов стали разжигать костры и пускать свои ракеты. Иной же связи не было: из опасения, как бы радисты не попали в лапы врага с секретными радиоданными, решили их не сообщать до приземления, и эти коды и позывные летели отдельно, в других самолетах, и на земле не суждено им было воссоединиться с бесполезными рациями, которые оставалось только разбить да выбросить.
Это и рассказывал десантник-радист, еще не вполне исчерпавший умом всю меру изумления головотяпством.
– У нас же вся кодировка была под ключ, а голосом – так у меня микрофона нету, не велели с собой брать, – говорил он с непрошедшим, неизжитым отчаянием. – Ну, что… ну, я могу открытым текстом: сюда, мол, не сбрасывайте людей, тут засады кругом… Но кто ж мне поверит, когда я радиоданных не имею, кодов не знаю, своих позывных? У комбата все, а где он, комбат?
– Действительно, – подхватил майор Светлооков, – кто ж тебе поверит. Ты же всего наблюдать не мог. Или кто-нибудь потом рассказал тебе?
Десантник от этих слов осекся и вновь замкнулся. Между тем виделся человек очень не робкого десятка, кто побывал в передрягах и находил в них прелесть и смысл жизни, из тех, кто воевать умеет и любит. Было что-то звериное в его мощной тренированной фигуре, взрывчатая кошачья сила и ловкость, которые у генерала вызывали симпатию и молодецкое желание побороться с ним, и, наверно, была прежде горделивая осанка человека, ценимого командирами и знающего себе цену, привыкшего изъясняться, не утруждаясь выбором слов. Но, видимо, в этот раз испытал он то, что уже превысило меру его храбрости и сломило ее; может быть, на всю жизнь оставило неизгладимый устрашающий след.
– Так, – сказал генерал, – рацию ты разбил. Дальше что?
Неожиданно для него десантник не ответил сразу, а потупился в пол и, вцепясь обеими руками в края стула, выговорил с усилием:
– Не разбил, товарищ командующий. Тут ведь как вышло? Покуда падал, страху натерпелся – как вспомнишь, так вздрогнешь. А приземлился – хорошо, на поляну, не на деревья. Руки-ноги целы, не ободрало нигде. И тащило меня недолго, купол погасил быстро. И вроде никого кругом, можно и расслабиться. Ну, развернул рацию – хоть что-нибудь услышать, наушники надел, работаю. И не услышал, как они сзади подкрались, человек пять. Вдруг наушники с головы срывают и в рожу – стволы: «Хенде хох!» Я и ножичек не успел вынуть.
– И автомат пришлось отдать, – сказал майор Светлооков.
– Взяли автомат, – сказал десантник. – Я только потянулся – сапогом дали под челюсть…
Он показал рукою, куда ему дали, там лиловел кровоподтек. А легкая его усмешка показывала, что схлопотать по морде, хоть и сапогом, не такая уж для него трагедия. Майор Светлооков заглянул сбоку и покачал головой.
В какую из минут, не уловленных генералом, парень стал губить себя? Когда, поддавшись его доверительному тону или просто не смея лгать командующему, решил говорить правду – что не разбил рацию, как предписывалось, не отстреливался до последнего патрона, не резал врага финкой, не рвал зубами? Да, это все поводы для смершевца сделать стойку. Но только он ее раньше сделал – когда рассказывалось о десантировании, о котором рассказать солдатской массе невозможно, немыслимо, выглядело бы клеветой на командование, злобной антисоветчиной. Как часто людям приходится отвечать за то, что они не могут не рассказывать о грехах других людей, и как охотно эти другие перекладывают на них свои вины! Только формулировку подобрать. В сущности, за любым обвинением политического свойства всегда стоял чей-нибудь личный интерес – и непременно шкурный. И уж эти мастера себя выгородят перед Верховным и награды себе отхлопочут – можно ведь из любого головотяпства выйти с достоинством: «В ходе операции советские воины проявили массовый героизм, мужество и стойкость». И все ведь чистая правда, кто-то же проявил, сплотился в группу, в отряд, оказал сопротивление. А все другие будут уже к ним подстраивать свои легенды. Только вот этот парень не озаботился запастись легендой. И значит, был обречен, еще когда прыгнул в ночную темень, если не раньше – когда всходил по трапу в самолет.
– Что с теми было, кто отстреливался? – спросил генерал. – Удалось им оборону какую-то организовать?
– Я, когда повезли меня, видел – вешали на стропах. На ихних же стропах. Ну, забавлялись. Несколько тяжелораненых или кто ноги поломал – свалили в кучу, забросали хворостом и зажгли. Крик стоял жуткий. На весь лес. И мясом пахло горелым.
– А тебя, значит, везли, – сказал Светлооков.
– А меня везли, – повторил десантник. И вдруг взорвался: – Что же я, п-просил их меня в-везти, ш-што ли? Я им п-продался, да? С-служить п-пооб-бещал? Лучше бы меня т-тоже п-повесили? Или – с-сожгли? С-скажите уж п-прямо!
– Это скажут тебе, – ответил майор Светлооков. – А что лучше, что хуже для тебя – это сам решишь. – И, как бы спохватясь, добавил: – Виноват, товарищ командующий. Я, наверно, мешаю?
«Не „наверно“, а мешаешь!» – хотелось генералу рявкнуть. Но, допустив первые вопросы и реплики Светлоокова, почему было вдруг упереться на этой? Противника останавливают на дальних подступах, на ближних – еще удастся ли?
С той же доверительностью в тоне и как бы не слыша Светлоокова – что казалось ему сейчас лучшей тактикой, – генерал опять обратился к десантнику:






