Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе Владимов Георгий
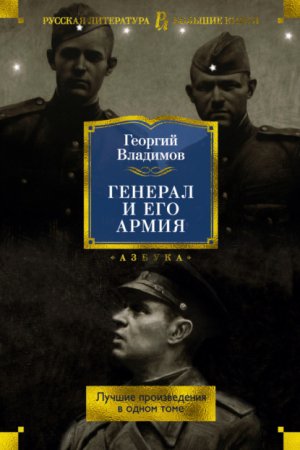
– И куда же они тебя повезли?
– В город повезли.
– В какой город?
Десантник потер лоб тылом ладони, словно бы мучительно вспоминая:
– В этот… В Мырятин.
…Как помнилось генералу, некую обожженность лица и всего тела испытал он сразу при этом имени – от предчувствия, что вот сейчас откроется тайна, которую он был обязан узнать, перед тем как вычерчивать свои вклинения и раскладывать пасьянсы. И кто виноват, как не он один, что разведка ему этой тайны не раскрыла? Он ведь не ставил разведке вопроса, что за люди обороняют этот городишко, – хоть и блуждала мысль о духе армии.
– Почему в Мырятин? – спросил он. – Зачем?
Десантник исподлобья взглянул на него с удивлением.
– Так там же русские, – сказал он. – Русские там.
И генерал явственно ощутил на своем вспыхнувшем лице давящие взгляды десантника и Светлоокова.
– Что, пленных туда согнали? Концлагерь? – спросил он оторопело, где-то на краешке сознания зная ответ, но стараясь его отогнать, заклясть, чтоб именно то оказалось, о чем он спрашивал.
Десантник помотал головой:
– Я что-то не видел, чтоб под конвоем держали. Вполне даже свободные они. Сами батальоны сформировали, сами и на фронт выступили, никто не гнал. И меня тоже не шибко принуждали. Сказали: «Ну, раз ты русский, то вот пусть русские с тобой и разбираются. И спасибо скажи, что не к хохлам тебя везем, к самостийникам, они б тебе дружбу народов вырезали на пузе. Или где пониже…»
– Ты говоришь – формирование у них батальонное. И сколько же батальонов, хоть приблизительно?
– Вроде бы, говорили, десять или одиннадцать воюют уже. А тот, что в городе формировался, куда меня воткнуть хотели, тоже почти укомплектован был, и оружие им раздали, только форму еще не подвезли. Были – кто в чем перебежал. Некоторые в штатском – кто из местных влился.
– Форму какую? Немецкую?
Вопрос так поразил десантника, что он даже не ответил. И это и было ответом.
– Я не надел, – сказал он, помолчав. – Не надену, говорю, хоть к стенке ставьте. Ну, тоже не настаивали: «Поживи с нами, приглядись. Может, надумаешь…»
– Кто командует ими, не слыхал? – спросил генерал. Он ждал услышать о Власове.
– Как кто? – сказал десантник. – Немцы. Командирами батальонов – немцы поголовно. И заместители ихние – тоже.
– Они что, по-русски говорят?
Десантник пожал плечами:
– Ну, может, десяток знают команд. Много, что ли, надо Ивану?
– А над этими немцами – кто?
– Другие немцы.
– А еще выше? Какой-нибудь генерал?
– Генерала я не видел, но, в общем, тоже фриц какой-то. Один раз, когда уже мы на позициях были, оберст приезжал инспектировать. По-нашему, полковник. Чего-то гавкал, но непонятно было, ругался он или, наоборот, хвалил.
– Значит, воюют, говоришь, – сказал генерал. – А обстановку знают они? Что окружение им готовится?
– Знают. Говорят об этом.
– Почему ж не уходят?
Десантник снова пожал плечами. Они как бы вспрыгивали у него – должно быть, сильно гуляли нервы.
– Так приказа же не было… Как отходить? Обязались приказы исполнять, если форму надели, иначе – «эршиссен», расстрел. Как немцам. Назад – ни пяди!
Генерал хотел спросить про заградительные отряды, о которых говорилось на политбеседах, но спохватился, что такой вопрос опасен для десантника, точнее – ответ на него, если окажется отрицательным.
– Значит, ждут приказа, а его все нет?
– Когда я уходил, все ждали – вот-вот. Но похоже, забыли про них – где-то там, на самом верху…
Вот это и была – и как проста! – вся «ловушка», уготованная братцем Эрихом. И это в голову не могло прийти, хотя о скольких «забытых» приходилось слышать. Забывали роты и батальоны, забывали дивизии и корпуса, целую армию забыли в «мешке» у села Мясной Бор близ реки Волхов – ту самую, 2-ю Ударную, которую досталось вытягивать Власову. В панике от грозящего окружения, улепетывая на штабных «виллисах», забывали приказать батальону прикрытия, чтобы и он отступил. Зато не забывали кинуть в бой хоть знаменную группу, где всего-то три человека – знаменосец и ассистенты. Не забыли в одной из его дивизий погнать в огонь ходячих раненых из медсанбата – в халатах и кальсонах, не позаботясь раздать хоть какое оружие, только б заткнули прорыв… И случилось чудо: эти безоружные остановили немцев. Настреляв с четверть сотни тел, немцы вдруг покинули захваченные высоты, а там подоспели конники и оттеснили их совсем. Взяли их командира, как раз тоже оберста, и генерал Кобрисов потребовал его к себе. «Почему вы отступили? – спросил он строго. – У вас такие были позиции, вы же с этих высот одними пулеметами тут дивизию могли разогнать к чертям собачьим!» Оберст посмотрел на него печально и даже с какой-то жалостью и ответил кротко: «Господин генерал, мои пулеметчики – истинные солдаты, у меня к ним никаких претензий. Но расстреливать безоружную толпу в больничных халатах – этому их не обучили. У них просто нервы не выдержали – может быть, впервые за эту войну». Много дней спустя генерал еще продолжал размышлять, как бы он поступил с теми, кто заслонился телами раненых. Прошло первое желание, от которого горела и сжималась ладонь: расстрелять своей рукой перед строем, и в конце концов он нашел возмездие другое: выстроить в две шеренги друг против друга, срывать награды с опозоренных кителей и тут же их прикалывать к госпитальным коричневым халатам. Он даже поделился этим желанием с начальником штаба – и был тотчас возвращен с небес на землю: да эти бесстыжие в Президиум Верховного Совета пожалуются, который их награждал, и все им вернут, а ему, Кобрисову, укажут строжайше на самоуправство. Да уж, чего не случалось в эту войну, но чтоб забыли своих бережливые немцы, не бывало на его памяти. А вот забыли и они. Впрочем, не своих – русских. Точнее – «русских предателей».
– Могу, если надо, – сказал десантник, – насчет вооружения рассказать…
Генерал встал и заходил по комнате:
– Про это не надо мне. Ты лучше расскажи: как тебе удалось бежать?
Подспудная мысль была – дать парню шанс выставить и себя в хорошем свете. И смутно чувствовалось, что тем самым он участвует в игре, навязанной присутствием Светлоокова. А всякую игру они выигрывают заранее.
– Да ничего особенного, – сказал десантник, – не держали. Десять дней я у них пробыл, «карантин» прошел, как они говорят, ну, спросили: «Не надумал с нами остаться?» А когда сказал, что нет, братцы, не надумаю никогда, не спрашивали больше. Попросил автомат вернуть – вернули, только диск дали пустой: «Вдруг ты еще по нам пальнешь». И на прощанье сказали: «Встретимся в бою – не жалуйся». – Он помолчал, вспоминая что-то, и добавил: – У меня впечатление, товарищ командующий, что драться они будут как звери, а на свою судьбу – рукой махнули… Никакого просвета впереди, и ни к чему душа не лежит, кроме водки. И – крови. Песня у них есть боевая, вроде гимна: «За землю, за волю, за лучшую долю берет винтовку народ трудовой…» А поют печально, чуть не со слезами…
– За сердце берет, правда? – вставил Светлооков. – Я вижу, грустное было расставание.
Десантник посмотрел на него долгим взглядом и сказал, с горечью и обидой:
– Точно, товарищ майор, грустное. Потому что еще сказали они мне: «Зря возвращаешься, тебе дорога назад заказана. Раз ты с нами какое-то время побыл и вообще в плену, веры тебе не будет. И еще радуйся, если проверку пройдешь и дальше воевать пустят». Вот не знаю, правду сказали или нет…
– Я тоже не знаю, – сказал Светлооков. – Не бог я, не царь и не герой. Другие будут решать…
Повисло молчание, которое генерал не знал, как прервать. И даже почувствовал облегчение, когда Светлооков спросил:
– Нужен вам еще пленный, товарищ командующий?
Генерал, отвернувшись и заложив руки за спину, ответил:
– Мне все ясно.
Ему самому было ясно, что никакой иной разговор при третьем невозможен.
Светлооков, не вставая, сказал десантнику:
– Ступай к машине. Скажешь конвойным, я задержусь на пару минут. Видишь, я тебе доверяю, что все будет без эксцессов…
Десантник, поднявшись, вытянул руки по швам и обратился к генералу:
– Разрешите идти, товарищ командующий?
В его голосе ясно звучало: «И вы меня отдадите, не заступитесь?» Генерал, повернувшись, увидел взгляд, устремленный к нему с отчаянием, мольбой, надеждой. Он хотел подойти и пожать руку десантнику и вдруг почувствовал, что не сможет этого сделать при Светлоокове, неведомое что-то сковывает ему руки, точно смирительная рубашка.
– Счастливо тебе все пройти, – сказал генерал. – И доказать… что потребуют.
Десантник молча вышел, и было слышно, как он медленно, точно бы сослепу нащупывая ступеньки, спускается по лестнице. В разбитом вокзальчике насчитывалось, наверное, пять-шесть обширных пробоин – и по меньшей мере столько же возможностей не выйти к подъезду, где дожидался восьмиместный «додж» с конвоирами Смерша, а тем не менее майор Светлооков уверенно знал, что все обойдется без эксцессов, этот десантник, могший бы справиться со всем конвоем, покорно сядет в «додж» и поедет навстречу выматывающим допросам, фильтрационному лагерю и всей, уже сложившейся, судьбе. В который раз показалось генералу диковинным, как велика, необъятна Россия и как ничтожна возможность укрыться в ней бесследно. Да если и выпадает она, человек всего чаще от нее отказывается как от выбора самого страшного.
– Парню отдохнуть бы, – сказал генерал, не глядя на Светлоокова. – Нервы подлечить – и в строй. Я б таких в своей армии оставлял. Какой комбат от него откажется?
– И какой чекист не проверит? – прибавил Светлооков.
– Да уж, это как водится у вашего брата… И долго его… щупать будут?
– От него зависит. Насколько откровенен будет. Мы же с вами не знаем, товарищ командующий, почему так легко отпустили его. Главного-то он не сказал – почему это его одного в Мырятин повезли, к землякам? А он – руки поднял.
Генерал, выбирая фразу без личных местоимений, спросил раздраженно:
– Откуда это известно?
– Ну, это ж элементарно, – сказал Светлооков. – Кто не поднял, тех ликвиднули.
– Что же, если его с ними не вздернули, не сожгли, так он уже виноват? Ему, значит, задание дали шпионить? Или пропаганду вести? Чепуха собачья…
Светлооков поднялся на ноги и, наматывая на руку ремешок своей планшетки, посмотрел на генерала простодушными голубыми глазами:
– Вот интересно, товарищ командующий. Возмущаемся, что кого-то виновным назвали: это, мол, должен трибунал решать. А невиновного – это мы сами определим, тут ни контрразведка, ни трибунал нам не указ. Нелогично, правда же? Не осмелюсь я ни обвинять кого, ни оправдывать; пусть уже, кому там виднее, головы ломают… А разговор тут интересный был, я лично много полезного извлек. Вот насчет Мырятина и этих… перебежчиков, перевертышей, в общем – власовцев. Как я заметил, и вас это интересует. И, насколько судить могу некомпетентно, операция у вас получается красивая.
Похвала эта была генералу как режущий звук по стеклу, и операция тотчас показалась ему уродливой, бездарной.
– И вот подумалось, – продолжал Светлооков, – хорошо бы, если б командование, планируя ту или иную операцию, учитывало бы наши интересы, я о Смерше говорю. Как-то бы согласовывало с нами… Мы, например, очень были бы заинтересованы в окружении.
Генерал, чувствуя подступающий непереносимый гнев, сказал медленно:
– А в том, какие потери будут при окружении, тоже вы заинтересованы? Не дождетесь вы, чтоб я с вами согласовывал свои операции.
– Жалко… – Светлооков вздохнул смиренно и, вытянувшись, прищелкнул каблуками. – Виноват, не подумал. Разрешите идти?
После его ухода чувство обожженности еще усилилось. С некоторых пор труднее было генералу остаться наедине с собою, чем вынести самых назойливых. Своя вина жгла сильнее, чем мог бы кто другой его упрекнуть: сегодня открылось ему то, с чем он так не желал встречи, надеялся, что его-то обойдет стороной. Как же он проглядел, не предчувствовал? И ведь это не были те малые группки, те как бы и случайные вкрапления среди немецких частей, о которых приходилось слышать еще до Курской дуги, еще при первых движениях армии от Воронежа, – нет, перед ним предстала организованная сила, составившая, может быть, костяк обороны.
Никак не предвиделось это более года назад, когда впервые услышалось: «Генералы Понеделин и Власов – предатели», когда прозвучали страшные слова: «Русская Освободительная Армия», страшные таившейся в них обреченностью, гибельным упрямством смертников – и, вместе, слабым упреком тому, кто, все понимая, в этом гибельном предприятии не участвует. Вскоре посыпались с самолетов аляповатые листовки – одновременно и пропуск в плен, и «художественная агитация»: Верховный с гармошкой приплясывал в тесно очерченном кругу, где помещался один его сапог, изо рта летели веером слова попевочки:
- Последний нынешний денечек
- Гуляю с вами я, друзья…
Был приказ офицерам и солдатам эти листовки сдавать политработникам, за хранение и передачу грозила высшая мера. Никто их особенно и не подбирал, еще меньше хотелось хранить их. Но вскоре посыпались другие листовки, где был посерьезнее текст и на которых предстало сумрачное, очкастое, закрытое лицо Власова. Оно было скуластое, с широким носом, простоватое, но и чем-то аристократичное. Из роговой оправы очков смотрели пронзительные, внимательно изучающие глаза, большой рот – не куриное, обиженно поджатое гузно – говорил о силе, об умении повелевать. Из такого можно было сделать народного вождя.
Понеделина генерал Кобрисов не знал, а с Власовым, своим подмосковным спасителем (от чего было не откреститься), он встречался в Москве, на слете дивизионных командиров, где была всем в пример поставлена власовская 99-я стрелковая дивизия, занявшая первое место по Союзу. Дивизия Кобрисова, входившая в Дальневосточную армию, тоже оказалась среди лучших, так что сидели рядом в президиуме, и Власов его отчасти удивил, слушая произносимые речи с блокнотиком, вылавливая бог весть какие жемчужины, когда все другие позевывали. Потом оказались – не случайно – рядом на банкете. Называлось это, правда, не «банкетом», а «командирской вечеринкой»; была она как сомкнувшиеся волны над ушедшими ко дну; имена тех, кто не выплыл, и тех, кто еще барахтался на плаву, не произносились, тосты поднимались за Красную армию, за ее «славное прошлое и победоносное будущее»; настоящее – пропускалось, но похоже, был здесь молчаливый реквием по отсутствующим, и каждый, поднимая бокал, заклинал судьбу, чтоб его миновала чаша сия. Ждали на слет Сталина с речью, он не явился. «Не почтил, – сказал Власов. – Занят. Ну, ему сейчас работы для ума хватает». Сам он выглядел счастливцем, который своим отличием избег общего жребия, и дал понять, что и Кобрисову так же повезло.
Пивал Андрей Андреевич крепко, а нить разговора не терял и мог вполне здраво продолжить, о чем говорилось стрезва. Виден был ум, оснащенный эрудицией, отточенный чтением; свою речь он пересыпал цитатами из Суворова и других полководцев российских, нерасхожими пословицами, из них теперь чаще вспоминалось: «Каждый баран за свою ногу висит». Он уже давно не сомневался, что воевать предстоит с Германией и война эта будет самым тяжким испытанием для советской России. Похоже, что и пакт с Риббентропом его в том не поколебал. «Удобнее, чем сейчас, момента у них не будет, – сказал он, имея в виду все то, о чем не говорилось. – А у нас – неудобнее». И не только не ошибся Власов в своем предвидении, но и более других оказался к испытанию готов. В те месяцы 1941 года, когда все попятилось на восток и было лишь два исключения из всеобщего панического бегства – либо в плен попасть, либо в окружение, – на 37-й армии Власова держалась вся оборона Киева, и свою армию он не потерял, вывел ее и остатки других из грандиозного Киевского «котла», где сгинуло более 600 тысяч. Так отдавать города, как Власов отдал Киев, так ускользнуть из мертвой хватки Гудериана и фон Клейста – значило дать понять и своим, и немцам, что не все лучшие выбиты предвоенными «чистками», осталось еще, на кого возложить надежды. Второй раз прогремел он под Москвой – и Кобрисов не мог не оценить всей дерзновенной красоты его авантюрного решения, безумного самонадеянного рывка – без разведданных, в метель, наугад, с прихватом чужой бригады, за что при неуспехе он бы еще неумолимее был поставлен к стенке. И скорее этот рывок спас Москву, чем те сибирские дивизии, сбереженные Верховным, которые пороху не нюхали, но почему-то должны были оказаться боеспособнее отступавших фронтовиков. В третий раз уже ждали от Власова чуда – когда Верховный, по совету Жукова, послал его спасти 2-ю Ударную, которую так бесполезно, бездарно сгубили на Волховском плацдарме, рассчитывая ценой ее гибели сорвать блокаду Ленинграда. В третий раз чудо не удалось ему. Знал ли он, летя сквозь плотный зенитный огонь в полуокруженную армию, что ничем ей не поможет? Здесь при оценке Власова руководствовался Кобрисов не точными данными – их не было, – а той сочувственной легендой, какие складывались вокруг удивительного генерала. Говорили, что на Волховскую операцию смотрел он обреченно, как на заведомое поражение, и лишь надеялся, что Верховный позволит ему армию распустить и прорываться на восток малыми группами. Верховный таких полномочий не дал, Власов их взял сам – и в предатели попал уже с этого шага, а не тогда, когда то ли священник, то ли церковный сторож навел немцев на его убежище. Пожалуй, на церковников, подозревал Кобрисов, возвели напраслину, скорее всего выдали советского генерала советские крестьяне, которым было за что возлюбить Красную армию и ее славных полководцев – начиная с Тухачевского, а пожалуй, и пораньше, с Троцкого. И должно быть, не испытали эти крепостные большего злорадства, чем когда прогудело басисто из глубины храма: «Не стреляйте, я – Власов».
Еще в июле, из Винницы, едва разменяв второй месяц пленения, призвал он русский народ к борьбе со Сталиным. А в январе заявил в Смоленском манифесте: свергнуть большевизм, к сожалению, можно лишь с помощью немцев. «К сожалению» было при немцах и сказано, с этим он в Смоленске выступал в театре, о русской победе с немецкой помощью отслужен был молебен в соборе, вновь открытом, бывшем при большевиках складом зерна. В апреле – была поездка в Ригу, во Псков, посещение Печерского монастыря, игумен ему кланялся до земли, в театре две тысячи устроили овацию. В штабе немецкой 18-й армии сказал, что надеется уже в недалеком будущем принимать немцев как гостей в Москве. Советские газеты называли его троцкистом, сотрудником Тухачевского, шпионом, который и до войны работал на немцев, на японцев. Кобрисов, которому случалось быть «лакеем Блюхера» и продавать родину японцам, всерьез этого не принимал. И от него не укрылось, что Власов не называет немцев хозяевами, но лишь помощниками, гостями в России, пытается дистанцироваться от них, даже как будто добивается впечатления, что свои манифесты пишет едва не под пистолетом.
Вот что смущало: свои отважные антибольшевистские речи, свои эскапады против Верховного стал говорить Власов, когда попал в плен. А если бы не попал? Так бы и восходил по лестнице чинов и наград со своими потаенными обидами? Да, кажется, и не много их было, он даже фразу особо выделил в первом своем открытом письме: «Меня ничем не обидела советская власть». По способностям своим дослужился бы до генерала армии, до командующего фронтом, а то и до маршала, заместителя Верховного, вровень с Жуковым. Вот разве очки помешали бы, выдавали, что много читает. И ростом не вышел – именно своими чуть не двумя метрами. Для малорослых недокормышей, из кого и вербуются советские вожди, был бы всегда чужой. Кобрисов, и сам-то высокий, в этом ему сочувствовал. Ну ничего, очки объяснились бы наследственной близорукостью, а при хорошем росте так выразительны поклоны. Но вот попал в плен – и принял иную роль так, будто всю жизнь к ней и готовился, выдал всю правду-матку. Право, больше бы в нее верилось, если бы сам перешел. Нешто так трудно перейти, имея верного человека в свите? Никогда не подвергая такому испытанию, Кобрисов тем не менее отчего-то уверен был, что, позови он с собою Шестерикова, тот пойдет, не спрашивая ни о чем, ну разве что – взять ли диск запасной к автомату. Вот что, наверно, следовало сделать Власову – уйти с десятком людей и обрасти армией. При его имени, славе, облике военного вождя могло бы это удаться – объединить разрозненные, но уже сложившиеся части: казачьи, украинские, белорусские, грузинские, калмыцкие легионы. Не «жалкая кучка иуд, продавшихся за тридцать сребреников», вдруг «захотела возврата к прошлому»; измена была столь массовой, что уже теряла свое название, впору стало говорить о второй гражданской войне в России. Ну так и вести ее надобно – под своим знаменем, не выбирая между Сталиным и Гитлером. Власов же решил сыграть прозревшего в плену, под влиянием нового (старого, эмигрантского) окружения – и было впрямь что-то наигранное в его бурных откровениях. Позволил себе стать, каким его хотели видеть, – вот что политика делает с людьми, даже сильными и талантливыми. Был игрок, а стал – игрушкой.
Генералу Кобрисову, по его должности, полагалось знакомиться с документами, недоступными даже и высокому офицерству, чаще всего – их выслушивать в чьем-нибудь чтении, сделав при этом брезгливое лицо, насупясь, ни с кем не встречаясь взглядом. Читали обычно начальник политотдела либо Первый член Военного совета, по-старому – комиссар, в одинаковой предустановленной манере, что даже делало их похожими. В свое чтение они вкладывали толику актерства, какие-то места выпячивая карикатурно, где-то и похохатывая – и как бы приглашая к своему хохоту слушателей, а где-то возвысясь до пафоса грозного возмущения. И заползала Кобрисову лукавая мысль, что такое чтение, может статься, производит обратное действие и кое-кто в прочитанном кое с чем согласен, кое-что разделяет. Чтобы в том убедиться, надо было поднять глаза и всех слушающих оглядеть, но этого он не делал ни разу. Ведь та же лукавая мысль могла посетить не одну лишь его голову, и кто-то же мог его в ней заподозрить, как он других.
Уже за то, что Кобрисов измену Власова считал роковой ошибкой – скажи он кому об этом, – он был бы тотчас отставлен от армии, лишен звания и наград и в лучшем случае послан камень дробить в Казахстане, а то и в шахты Воркуты. Ошибка же, по его мнению, была в том, что нельзя было оказаться с немцами – и не потому, что те не дали – и не дадут – сплотиться в решающую силу. Ошибка была – что хотя б на время стали рядом с теми, кого уже увидел народ палачами и мучителями. Если сумели им все простить и быть заодно, значит – такие же! И эту свою ошибку не понимал Власов, как и того, что уже опоздал он со своей РОА. После Сталинграда, после Курской дуги, не видя, не чувствуя, что Верховный уже эту войну выиграл и вся масса народа на фронтах и в тылу принимает его сторону, Власов, сам руку приложивший к его выигрышу, пообещал, что закончит войну по телефону! То есть он позвонит Жукову, Рокоссовскому, друзьям по академии, с которыми так откровенно говорили, – и они ему сдадут фронты! Здесь уже стало видно, в каком состоянии находится Власов – боевой генерал, разучившийся понимать, что такое война, русский, разучившийся понимать Россию!
По-человечески это понятно было Кобрисову, который умел поставить себя в положение другого – с тем, разумеется, непременным чувством превосходства, с каким оставшийся верным долгу смотрит на переступившего долговую черту. Не раз он примерялся к положению Власова и даже находил иным его действиям оправдание. Но зачем, спрашивается, позвал за собою этих курносых, пухлогубых, лопоухих, сбитых с толку, раздавленных немецким пленом – после всего, что изведали от власти родной, рабоче-крестьянской, – если ничего дать им не мог, кроме громкого своего имени? Идея была так заманчива, кто не мечтал вернуться в Россию во главе армии! Но вот прошло более года войны – и говорит десантник, что русскими батальонами командуют немцы, и не он один это говорит, – что же, через немцев ниспосылает приказы своим войскам пленный генерал? Стало быть, нет у Власова армии в России, и все эти русские, объединяемые огульно под его именем, на самом деле – никакие не «власовцы».
С Власовым все было ясно, его ждет петля. Батька его достанет. Не ему, а себе не простит Верховный, что полтора или два миллиона неразумных детей замахнулись оружием на Отца народов, и поймет он это так, что был еще слишком мягок с ними. Об их участи не мог не задумываться Кобрисов, и сам-то перед ними виновный. Они «продали родину»… А – за что продали? За такой же обрушенный окоп, за атаку по грязевому чавкающему месиву, за спанье в снегу или в болотной жиже, за виселицу при поимке (ведь в плен не берут!) или скитания по чужим землям – когда придется из России уходить? Тех, кто хотел остаток жизни прожить хорошо, комфортно, кто покинул родину в тяжкий для нее час, – тех не было перед Кобрисовым, не было в секретных документах Смерша, ни в донесениях политотделов. Были те, кто не покинул. Вот эти, в Мырятине, отказавшиеся уйти от окружения, не покинули ее! И при этом – разве не знали они, что имя «предатель» – издревле позорно в русском народе и никогда не будет им прощена измена? Какой же долг обязаны были они исполнить, или – какая боль их вела, если не остановило, что в веках будут прокляты и никогда не дождутся благодарности? Ведь если б чудо случилось и они победили – какая была бы обида народу, что сам он не справился, помогли иноземцы, притом – враги, оккупанты!
К людям, ставшим за черту, его влекла тайная тяга, сильнейшее любопытство, как влечет посмотреть на лицо осужденного, которому вот через час класть голову под топор. И как хотелось хоть одного из них посадить против себя и расспросить, разговорить наедине, благо тут не требовался переводчик. Но слишком хорошо он знал, что это несбыточно. Не дадут ему этого. Не он будет расспрашивать этих людей, а майор Светлооков. И не затем нужен он и его армия, чтоб тешить свое любопытство, выясняя мотивы их греха.
А зачем он нужен? Чтоб их изловить, скрутить, поставить на колени, пригнуть их повинные головы к земле, которую «продали»? Сказал же осторожный Ватутин: «Мы со своими больше воюем, чем с немцами». Что это было? Невольно вырвалось, что сидело в уме? Ведь он был начальником штаба Киевского округа, служил вместе с Власовым, не мог о нем не задумываться. Впрочем, не он один сейчас задумывался, что страшнее войны гражданской быть не может, потому что – свои. Древнейшее почитание иноземца – в русских особенно сильное, до раболепного преклонения, – не всякому позволит сделать с ним то, что со своим можно. Как, в сущности, скоро остывает злость к пленному немцу и как ожесточается к «своему». Зеленым огнем загорелись глаза у Светлоокова в предвкушении «священной расплаты». Право, нет на Руси занятия упоительнее!
Горячим летом 1942-го, после сдачи Ростова и Новочеркасска и приказа 227, «Ни шагу назад», как соловьисто защелкали выстрелы трибунальских исполнителей! Страх изгонялся страхом, и изгоняли его люди, сами в неодолимом страхе – не выполнить план, провалить кампанию – и самим отправиться туда, где отступил казнимый. Так обычен стал вопрос: «У вас уже много расстреляно?» Похоже, в придачу к свирепому приказу спущена была разнарядка, сколько в каждой части выявить паникеров и трусов. И настреливали до нормы, не упуская случая. Могли расстрелять командира, потерявшего всех солдат, отступившего с пустой обоймой в пистолете. Могли – солдата, который взялся отвести дружка тяжело раненного в тыл: «На то санитарки есть». А могли и санитарку, совсем молоденькую, которая не вынесла вида ужасного ранения, ничего сделать не смогла, сбежала из ада. Ставили перед строем валившихся с ног от усталости, случалось – от кровопотери, зачитывали приговоры оглохшим, едва ли вменяемым. И убивали с торжеством, с таким удовлетворением, точно бы этим приблизили Победу.
…И вот однажды пришел из боя лейтенант с одиннадцатью солдатами, остатком его роты, и сказал, что есть же предел идиотизму, что с такой горсткой людей ему не отбить высоту 119 и он их губить не станет, пусть его одного расстреляют. Лейтенант Галишников – так звали обреченного, генерал его имя запомнил. Он сам наблюдал этот бой из амбразуры дивизионного НП и видел, что не выиграть его, по крайней мере до темноты; можно лишь всем полечь у подошвы той высоты, чтоб исполнился приказ 227. Но наблюдал не он один, с ним вместе находился в блиндаже уполномоченный представитель Ставки, генерал Дробнис, с многолюдной свитой. Эта свита вполне бы составила доброе пополнение тем одиннадцати измученным солдатам. Но известно же: в атаку идти – людей всегда не хватает, а зато их в избытке, где опасность поменьше. И чем дальше от «передка», тем народу погуще, тем он смелее и языкастей. Вот и свита Дробниса, наблюдая в хорошие немецкие цейссовские бинокли, критиковала неумелые действия ротного: все-то он толчется у подошвы, которая немцами хорошо пристреляна, велит людям залечь, тогда как надо броском преодолеть зону обстрела. И они прямо-таки вскипели негодованием, когда стало видно, что он отступает.
Генерал Дробнис распорядился позвать его в блиндаж. И лейтенанта Галишникова привели – черного и потного, едва шевелившего языком. Он опирался на автомат, как на посох, и все порывался то ли присесть, то ли прилечь и уснуть.
Генерал Дробнис был грозою генералов и умел нагонять на них страх, не будучи ни полководцем, ни корифеем-штабистом, ни сколько-нибудь сильной личностью; он был цепной пес Верховного и выказывал ему собачью преданность такого накала страсти, что Верховный устоять не мог, он тоже имел слабости – и прощал Дробнису, за что другой бы угодил под высшую меру, как несчастный Павлов. Расстрелять Дробниса могли за один только Крым, куда он был послан спасти положение и для этого наделен полномочиями, которые его ставили вровень с командующим Крымским фронтом; разумеется, Дробнис его подмял, воителя способного, но мягкотелого, и раскомандовался сам, чем сильно помог Манштейну справиться одной своей 11-й армией с четырьмя советскими. Сказывали, прощение у Верховного Дробнис выслужил, став на колени, плача и клянясь, что жизнь у него отнять могут, но не отнимут его преданности любимому вождю, и не так смерть ему страшна, как расстаться с предметом его любви преждевременно. Будто бы нагадали Дробнису, что умрет он за три недели до Верховного – и значит, будет избавлен от горя пережить его и не так много потеряет счастья жить в одно время с ним. Это поразило Верховного до глубины души. Командующего фронтом он отстранил, а Дробниса, все по той же слабости, крепко пожурив, пообещав ему в следующий раз ближе познакомить с товарищем Берией, назначил представителем Ставки. Суждено ему будет за войну побывать в членах военных советов семи фронтов – и нигде не прижиться, всех командующих отвратить интригами и наушничеством Верховному, доведя до слезных молений: «Уберите его!» И Верховный, вздыхая, куда-нибудь его переместит, другому командующему в острастку, чтобы не зазнавался. В то лето Дробнис, кочуя по всем фронтам, появлялся неожиданно с командой старших офицеров разного рода войск и проводил волю Верховного. Битье командиров по мордасам, не принося ощутимого успеха, из моды уже как будто выходило, да, впрочем, генерал Дробнис этим и не пользовался, уважая свой статус комиссара; он другое делал, для кого-то даже и худшее: командира, по его мнению не справлявшегося, тотчас отставлял и временно, до приказа Ставки, назначал кого-нибудь из своих. Этими полномочиями он пользовался размашисто, и простирались они вплоть до комдивов.
Боевые генералы признавались, как страшит их лицо его, с заросшими густо углами лба, красными сверлящими глазками, крючковатым носом, патрициански надменной отвислой губою – таким, верно, было лицо Нерона, лицо Калигулы. Страх наводила его речь, всегда таившая угрозу, раздраженно вскипающая при малейшем ему возражении, мгновенно переходя в злобное, и непременно капитальное, обвинение. Ввиду малого роста носил он сапоги на высоком каблуке и не снимал пошитую на заказ фуражку, с высоким околышем и приподнятой тульей. Такие обычно еще и ненавидят «длинных».
И вот перед ним предстал высокий нескладный юноша, с изможденным лицом, без конца моргая запорошенными землей глазами, в порванной, без пуговиц на груди, гимнастерке, со сбившимся набок ремнем. Всем в блиндаже, щеголеватым, отглаженным, он был такой чужой, а более всех Дробнису – и кажется, не испытывал перед ним страха, по крайней мере большего, чем только что испытал на высоте 119, после которого уже ничем его нельзя было напугать.
Дробнис это учуял, однако ж он был психолог и знаток человеков, то есть знал, что напугать всегда можно, и знал, чем напугать.
– Ну что, вояка? – сказал он со смешливым презрением. – И сам высшую меру заработал, умник, и бойцов своих под монастырь подвел.
– Чем? – точно бы очнулся лейтенант Галишников. – Чем я их подвел?
– Ну как же! Верховный, кажется, предельно ясно выразился: «Ни шагу назад без приказа высшего командования». А люди по чьему приказу отступили? Ты для них – высшее командование? Всем – штрафная рота, вот что ты им сделал.
Лейтенант Галишников медленно разомкнул запекшиеся губы:
– Все же не смерть…
Генерала Дробниса это позабавило:
– Я же говорю – умник. Он думает, что там санаторий! Курорт!
Вся свита взвеселилась тоже. Лейтенант Галишников угрюмо склонил голову, так постоял секунды две и вдруг вскинул автомат. Показалось, он сейчас всех посечет, кто был в блиндаже. Свита похваталась за свои кобуры.
– Нате. – Он на обеих ладонях, как на подносе, протянул автомат Дробнису. – Берите ваших людей, вон у вас их сколько. Атакуйте! Может, у вас получится.
Генерал Кобрисов успел подумать – его пристрелят сейчас же, в блиндаже, не дожидаясь трибунала. Однако ж Дробнис сказал спокойно и не повысив голоса:
– Это ты неплохо придумал. Только я, видишь ли, не в твоем возрасте – в атаки бегать. Мне уже, слава богу, пятьдесят четыре. И мои люди другие обязанности исполняют, которые на них родина возложила. Поэтому вот что мы сделаем: сейчас мой человек возьмет твоих людей и покажет, как это делается. Как высоты берут, когда хотят их взять. А потом, с чистой совестью, мы тебя расстреляем. И напишем родным твоим: «Лейтенант Галишников расстрелян за трусость». Идет? Или, может быть, передумаешь, сам пойдешь?
Лейтенант Галишников молча помотал головой. Взгляд Дробниса обшарил всю свиту, задержался на самом молодом и младшем по званию. Был он полнотел и статен, с округлым ясным лицом, со смешливыми ямочками на щеках, в движениях нетороплив и слегка небрежен, но точен.
– Майор Красовский, – сказал Дробнис, – примите у него оружие.
Улыбчивоглазый майор, хоть и привыкший к причудам хозяина, все же взял автомат с некоторой оторопью, вмиг переменившись лицом. Он улыбался, но какой-то натужной улыбкой, явно предчувствуя нехорошее. С таким лицом, подумал Кобрисов, не идут отбивать высоты. Даже когда очень хотят их взять.
И конечно же, он ее не взял, бедный майор. Он под огнем залег еще поспешнее Галишникова и сразу потерял нескольких, остальные уползли под прикрытие сгоревшего «тигра». Видимо, утратив над ними власть, уполз и он. Больше они оттуда не высовывались. В блиндаж он вернулся весь потухший, зябко вздрагивая и избегая взгляд поднять на Дробниса. Тот и сам не спешил посмотреть на него. Настал черед рассмеяться лейтенанту Галишникову. Это было похоже на рыдание, в его смехе звенели слезы, и слезы текли из глаз, оставляя на щеках борозды. Не забыть Кобрисову, как страшно, с пеной на губах, ругался лейтенант Галишников.
– Ну что, папаша? – выкрикивал он, перемежая матерщиной, срываясь в хриплый фальцет, и на его лбу и на шее вздувались жилы. – Не вышло у твоего холуя? Ага, то-то, папаша! Спасибо хоть посмеяться дал перед смертью. Теперь можно и к стеночке. Со спокойной душой. Ну, где тут меня в расход выведут? Ведь, кажется, ясно Верховный выразился: расстрел на месте!..
Генерал Дробнис, багровый лицом и затылком, выслушивал это, отвернувшись от зрелища, для него неприличного, – от впавшего в истерику, плачущего мужчины. Чтобы не уронить себя навсегда, он должен был найтись и что-то совершить невероятное. И он таки нашелся и совершил.
– Лейтенант Галишников, – сказал он спокойно и тихо, – вы свободны.
Кажется, это всех поразило. Лейтенант Галишников, взглянув удивленно, помотал головою и вышел, тяжело ступая. Майор Красовский, пылая, прильнул к биноклю, весь ушел в наблюдение за оставленной им позицией. А у Кобрисова от сердца отлегло: хоть один своим страхом не навлек на себя смерть, но отдалил ее. Между тем, была исполнена та часть уговора, которая молчаливо подразумевалась. В том поднебесном кругу, где вращался Дробнис, были же какие-то блатные правила, был свой разбойничий этикет, ему не чуждый. Поистине, Бог эту страну оставил, вся надежда на дьявола.
Поздним вечером, возвращаясь к себе в штабную деревню, проезжая овражистым редколесьем, он увидел в стороне от дороги странное свечение неба. Рассеянный свет из оврага или иной какой низинки озарял стволы сосен и плывущие над самой головою лохмы облаков; при этом слышались слабые хлопки пистолетных выстрелов. На бой это не походило, да и быть его не могло вдали от уснувшего «передка», откуда и возвращался Кобрисов. Он велел подъехать осторожно – и с откоса увидел картину, в которой сразу не смог разобраться. Несколько «виллисов», расставленных полукругом на дне заброшенного глиняного карьера, светили полными фарами, и на границе мрака слабо маячили застывшие фигуры людей.
Все непонятное мгновенно раздражало Кобрисова. К тому же здесь, очевидно, не думали о близ расположенных закрытых позициях артиллерии, с запасами снарядов. Не ровен час, подкравшийся «юнкерс» шмальнет сюда бомбочку, все вокруг взлетит от детонации.
– Почему свет? – спросил он гневно.
На него оглянулись, кто-то посветил в лицо фонарем, ответа он не дождался. Но скоро и сам разглядел того, кто стоял в центре этого полукруга – в гимнастерке без петлиц, без ремня, с непокрытой головою и босого. Он, впрочем, не стоял, он извивался и подпрыгивал, вскрикивая визгливо при каждом хлопке, как избиваемый плетью. Хоть он и был залит светом, трудно в нем было распознать майора Красовского, еще утром холеного и небрежно-самоуверенного.
– За что? – спрашивал он жалобным голосом, в котором не так боль слышалась, как ошеломление и жгучая обида. – Леонид Захарович, за что?
Генерал Дробнис, в своей знаменитой фуражке, сидел бочком на переднем сиденье «виллиса», вывалив ноги за борт, и постреливал неторопливо. По звуку различался пистолетик Коровина, калибра 6,35, генеральская игрушка, терявшаяся в доброй мужской ладони, последнее утешение незадавшихся полководцев – тремя пальцами поднести к виску. Сразить из него человека одной пулей с десяти шагов было изрядной задачей, но тут, похоже, задача была другая – покарать непременно своей рукой. Дробнис прицеливался тщательно, подолгу ведя стволом сверху вниз, и сажал пулю за пулей в своего плотного майора, – и попадал, в лучшем случае, в края мишени, в мягкие его части. На гимнастерке и галифе у Красовского, на рукавах и на ляжках, проступала кровь. При этом подвергаемому экзекуции не отказывали в ответах на его «за что?».
– Красовский, – говорил Дробнис в перерывах, монотонно и скрипуче, но все больше вскипая злостью, – вам же прочли выписку из трибунала, что вам еще неясно? Вы нарушили священный приказ Верховного главнокомандующего «Ни шагу назад».
– Для меня ваше мнение дорого, Леонид Захарович, а не трибунала, – спешил, захлебываясь, выговорить Красовский. – Неужели я вам совсем уже не нужен?
– Мне лично не нужен человек, который меня подводит, марает мою репутацию, предает меня в ответственную минуту… Вы опозорили мои, уже довольно-таки седые, волосы.
– Ну, проверьте меня еще раз! Дайте мне другое задание… смертельно опасное. Вы увидите… Я вас не подведу.
– Вы такое задание имели, Красовский, и преступно его сорвали. И сейчас вы тоже имеете – принять наказание, как подобает советскому воину, тем более командиру. И не надо меня отделять от Верховного. Я не за себя вас наказываю, я бы вас простил, а за преступление против его приказа.
Обойма у Дробниса кончилась, он ее выщелкнул, швырнул в кусты и протянул руку, не глядя. Кто-то из свиты готовно вложил в нее новую обойму.
– У вас еще есть вопросы, Красовский? По-моему, все ясно. Вы должны были сегодня умереть с честью, а вместо этого умираете с позором.
Мягких частей у майора Красовского было достаточно, и продолжаться это могло еще долго.
– Что вы мучаетесь? – сказал Кобрисов. – Взяли бы автоматчика и парочку выводных, они все сделают грамотно. А так – во что наказание превращается? Ну да, ведь работа ж для вас – непривычная…
Он вложил в свои слова сколько мог язвительного презрения, которое, впрочем, ни на кого здесь не подействовало. Дробнис коротко на него оглянулся, в свете фар сверкнул красным огнем его глаз, и снова прицелился. Но вот кто ответил ему – Красовский. Подняв взгляд на Кобрисова, запрокидывая голову, он закричал – с явственно слышимым возмущением:
– А вам не кажется, товарищ генерал, что вы не в свое дело вмешиваетесь? Леониду Захаровичу лучше знать, какое ко мне применить наказание. И во что оно должно превращаться… Так что не суйтесь, понятно? Если я виноват, я умру от руки Леонида Захаровича, но ваших сентенций, извините, слушать не желаю!..
Жалок маленький человек, вверяющий свою жизнь другому, признающий его право отнять ее или оставить. Жалок, но и страшен: если не спасается бегством, не бросается зверем на своего палача, во что же оценит он чужую жизнь? Кобрисов, лишь рукой махнув, побрел прочь.
Никогда потом он не мог себе простить своих слов насчет автоматчика и выводных. Он их сказал вовсе не затем, чтоб доставить жертве еще мучений и страха, а вышло, что как бы поучаствовал в казни. Когда же не станет у него этой неволи – участвовать во всех делах этих людей, которые ему чужды, ненавистны – и так же враждебны к нему?
Может быть, с того дня стало происходить с генералом Кобрисовым нечто опасное и гибельное, запретное человеку, назначенному распоряжаться чужими жизнями числом в десятки тысяч, – если не хочет он превратиться в ту сороконожку, которая некстати задумалась, в каком положении ее семнадцатая лапка, тогда как она передвигает тридцать вторую. Он ступил на трясинный затягивающий путь, с которого почти никому не выбраться на прежнюю торную тропу, почти никакому сердцу не очерстветь заново. Все чаще он стал ощущать отчаянное сопротивление души, измученной неправедным и недобровольным участием. Он и раньше думал постоянно о потерях и старался относиться к людям, как рачительный хозяин к неизбежно расходуемому материалу, который следует всячески экономить, – чтобы тот, кому суждено погибнуть, по крайней мере продал свою жизнь дороже, пал бы хоть на сто километров подальше к западу. Теперь же он стал задумываться о том, что роты и батальоны состоят из людей с именами и отчествами, памятными датами, днями рождения, сердечными тайнами, житейскими историями, что они, помимо того, что рядовые, или ефрейторы, или сержанты, еще чьи-то дети, чьи-то мужья и отцы, и где-то ждут их, сильно надеясь, что какой-нибудь генерал Кобрисов отпустит их с войны живыми и, крайне желательно, целыми. И стало частым непривычное ему, раньше и не сознаваемое как необходимость, обращение к Тому, о Ком он не задумывался путем, лишь тогда вспоминал, когда смерть грозила, или мучило ранение, или нападала болезнь.
То, что принес десантник, застало его врасплох, и он вновь ощутил сопротивление души и обиду: почему это выпало именно ему? Почему не другому, для кого, может быть, вовсе безразлично, кто они там, защитники Мырятина? Могло же и повезти ему, как везло хотя бы Чарновскому: у него целый фланг держали румыны, о которых сам фюрер высказался: «Чтоб заставить воевать одну румынскую дивизию, надо, чтоб за нею стояло восемь немецких».
И как же выскользнуть из этой ловушки? Может быть, только одним путем: завлечь в нее другого, для кого она и не ловушка, а самый обычный городок, опорный пункт Правобережья, за который тоже награды…
…В этот вечер генерал Кобрисов сказал адъютанту Донскому:
– А соедини-ка меня, братец, с нашим соседушкой.
– С которым? – спросил Донской. – Справа? Слева?
– Ну что ты, братец! Который слева, до него не дозвонишься, он важным делом занят, Предславль берет. С Чарновским хочу поговорить. Если его нет на месте, пусть позвонит, когда сможет. Есть у меня для него сюрприз.
– Так и сказать: «сюрприз»?
– Так и скажи.
2
И вот он подходил к черте решающей, к Рубикону. В тот солнечный, даже слишком щедрый для середины октября день они стояли у окна, генерал Кобрисов с генералом Чарновским, на втором этаже вокзальчика в Спасо-Песковцах, бдительно поглядывая на площадь внизу и на устье впадающей в нее аллеи.
Маленькая площадь, усыпанная облетевшими зелеными листьями тополей, была пуста, стоял на ней только «виллис» Чарновского. Из-под «виллиса» торчали ноги водителя Сиротина – он, как всегда, с охотой чинил чужое. Шофер Чарновского, присев на корточки, подавал советы.
Центром площади был круглый насыпной цветник, на нем сохранился изгрызенный пулями и осколками серый пьедестал «под мрамор», из которого росли ноги с ботинками и штанинами. Сам гипсовый вождь, крашенный в серебрянку, лежал ничком в высоком бурьяне, откинув сломанную указующую руку. Свергли его, должно быть, не снарядом, а поворотом танковой пушки – о том говорили изогнутые, вытянутые из пьедестала прутья арматуры.
– Что ж, Василий Данилыч, считаем – договорились? – сказал Кобрисов, чувствуя нетерпение и даже отчего-то страх.
Чарновский, держа руку на его плече и слегка обвиснув, приклонил к нему голову и легонько боднул в висок. Лицо Чарновского светилось улыбкой, классическое лицо украинского песенного «лыцаря», гоголевского Андрия, чернобровое и белозубое.
– Будь спокоен, Фотий Иваныч, не дрожи. А все же скребет маленько, сознайся? Кошки не скребут?
– С чего бы?
– А может, прогадываешь ты? – Чарновский большим пальцем пырнул его в широкий бок, чуть повыше ремня, от чего Фотий Иванович и не пошевелился. – Участок твой, что ты мне отрезать готов, вдруг – золотая жила? А я ее разработаю. Честно сказать, с этим твоим Мырятином мне возни дня на три, не больше. Да к нему – две задействованные переправы. Которые я, между прочим, себе запишу в актив.
– Правильно сделаешь.
– Итак, положен салют Чарновскому – из ста двадцати четырех орудий. А ты с Предславлем, глядишь, и не управишься один. Не будешь тогда жалеть?
– Очень даже буду, – сказал Кобрисов искренне. – Зато ж какой замах!
– За замах дорого не платят. Платят, когда он удался. Или – если и не удался, но причины были объективные. А тут этого не скажут. Скажут, сам напросился, и положение было на редкость выгодное. Не представляешь ты, как тебе сейчас все завидуют!
– Представляю, – сказал Кобрисов. И тревога в нем еще усилилась. – Но может, и я тебе кота в мешке продаю?
– Не сомневаюсь, Фотий Иваныч. От тебя разве чего хорошего дождешься?
Лицо Чарновского легко, по-мальчишьи, вспыхивало улыбкой. Шутил он или впрямь догадывался, какого кота скрывал мешок? То, что уступал Кобрисов правому своему соседу Чарновскому – кусок плацдарма с наведенными к нему переправами, но и с не взятым еще городишком Мырятином, – выглядело не более подвохом, чем любая другая изюминка, орешек, бастион «Восточного вала», как немцы назвали свою оборону по Правобережью Днепра. Возни там, конечно, не на три дня, это так говорится для украшения солдатской речи и чтобы сбить цену подарку. Но то главное, что сильнее всего страшило Кобрисова, от чего он всеми хитростями хотел уклониться, могло быть и вовсе безразличным этому счастливцу, «любимцу фронта». Русские батальоны, брошенные в оборону Мырятина, составлявшие костяк ее, явились бы для него, вполне возможно, только противником, как немцы или румыны, разве что более яростным и особенно опасным – в окружении. А судьбы этих защитников, трибунальские страсти, вакханалия «священной расплаты» – почему в голову это брать солдату, выполнившему долг и приказ? Впрочем, он, может быть, даже приятно удивится, когда узнает…
– Едут, – сказал Чарновский.
Тотчас и Кобрисов услышал завывание моторов и дробный рокот шин по укатанным, вдавленным в почву обломкам кирпича. Из аллеи выкатился бронетранспортер головного охранения с задранным к небу сдвоенным пулеметом; над скошенным его бортом, в маскировочных лягушечьих разводах, торчали головы в касках. Следом появилась машина Ватутина, сделала плавный полукруг и стала рядом с тем «виллисом». Охрана командующего фронтом ринулась рассыпаться по кустам, беря вокзальчик в кольцо. Шофер Чарновского вскочил, напялил пилотку и выпятил грудь. Ноги Сиротина по-прежнему торчали из-под машины – впрочем, невидимо для вновьприбывших.
– Пойти встретить, – сказал Кобрисов.
Но рука Чарновского еще сильнее надавила ему на плечо.
– Не торопись. Ты хозяин, должен на пороге встречать. К тому же ты сегодня именинник. А я пойду встречу – на правах гостя.
– Боюсь я, – Кобрисов озабоченно вглядывался в пустынное светло-голубое небо, – не приведи бог, супостат налетит…
– Так ты что, начальство грудью прикроешь? Не хватит, Фотий Иваныч, твоей груди. Ты еще не знаешь, сколько к тебе начальства пожалует. Да ничего, не налетит супостат, уж так ты его прижал – можно сказать, всей тушей!..
Чарновский легко сбежал вниз и, покуда Ватутин все выбирался из своего «виллиса», успел обогнуть клумбу. Шаг его казался побежкой, так был стремителен и упруг. Руки при этом ловко оправляли гимнастерку под ремнем. Китель он не носил никогда, предпочитал гимнастерку – в ней он выглядел стройнее, плечистее, а главное – моложе. Последние три шага он отпечатал, подбросив руку к виску. Ватутин невольно улыбнулся ему, сказал несколько слов – должно быть, свое обычное: «Ты у нас не генерал-лейтенант, а лейтенант-генерал», – и, глядя на Чарновского почти влюбленно, рукою оперся на капот «виллиса», тем позволяя подчиненному стоять вольно.
При каких-то словах Чарновского он слабо поморщился, отмахнулся, как от ерунды, принялся разубеждать и тут поднял нечаянно взгляд к окну. Тяжелое, набрякшее лицо Ватутина отразило миг смущения, точно бы Кобрисов мог его услышать, и тотчас они оба повернулись к аллее, встречая следующую машину.
Следующим прибыл Хрущев. Этого никакая форма, ни награды во всю грудь не делали генералом-строевиком или пусть комиссаром, каковым он и состоял при Ватутине, что-то оставалось неискоренимо тыловое, интендантское. Приплюснутая, с длинным козырьком, фуражка сидела на нем, как сидел бы соломенный брыль. На заднем сиденье адъютант с ординарцем держали на коленях огромный картонный короб, перевязанный красной лентой с бантом, – похоже было на именинный подарок с куклой, говорящей «мама» и противно закатывающей глаза. Выбравшись, Хрущев потоптался на месте – не так чтобы ноги разминая, а как бы утверждая себя на земле. Покончив с этим, он перешел к другому делу – стал распоряжаться, чтоб выгрузили короб и несли бы осторожно. Из жестов его все было понятно без слов.
Третья машина была сюрпризом для Кобрисова. В ней прибыл Терещенко. Что здесь понадобилось командарму, воевавшему бог весть как далеко, за сто шестьдесят километров ниже по течению, этого Кобрисов не мог себе объяснить. Но еще большим сюрпризом было увидеть, кто поспешил приветствовать гостя – майор Светлооков! И откуда только взялся он, не в кустах ли дожидался встречи? И кажется, они даже знакомы были, да точно, Терещенко ему улыбнулся милостиво, протянул руку, и тот, улыбаясь, склонился в почтительной стойке, как не склонялся никогда перед Кобрисовым. О чем-то они перекинулись несколькими словами, и Светлооков вдруг исчез бесследно, точно кусты раздвинулись, втянули его и опять сошлись. Видно, Терещенке стало неудобно с ним говорить, подходило высокое начальство, Ватутин с Хрущевым, – и в тысячный раз Кобрисов подивился, как можно искусством вести себя восполнить, и с преизбытком, отнятое природой. Терещенко, худенькая обезьянка с обиженно-недовольным личиком, должен бы, казалось, ловко выпрыгнуть и подскочить к встречавшим его Ватутину и Хрущеву, ан нет, он продолжал сидеть, утвердив между коленей палку, и ровно столько сидеть, чтоб к нему подошли и начали разговор над ним, еще сидящим. Грузные люди, начальники ему, они с ним шутили – он выговаривал, не торопясь, что-то обиженное, недовольное.
Из опасений налета кавалькада машин сильно растянулась, гости прибывали с интервалом в три, в четыре минуты. И каждого встречали весело, шумно, будто расстались не час назад, а месяц. Прибыл цыганистый Галаган, командующий воздушной армией, поддерживающей армию Кобрисова, – как всегда, без свиты, «виллисом» он правил сам и так гонял, что с ним не всякий отваживался сесть. Ему всегда выговаривали за лихачество – и в воздухе, и на земле, – выговаривали, уж точно, и сейчас; он только сплевывал и поглядывал с тоскою в голубое небо, летать ему хотелось без конца, в любой час. Прибыл командующий 1-й танковой армией Рыбко – «танковый батько», как его называли, – человек уже сильно пожилой и на вид сугубо штатский, похожий на директора совхоза или завуча сельской школы. Снявши фуражку, положив ее на толстый портфель перед толстым животом, он отирал платком блестящий череп, наполовину лысый, наполовину бритый, и что-то рассказывал, смакуя, – верно, о том, как его повар выучился готовить гуся с яблоками.
Площадь заполнялась, на ней становилось тесно от машин, однако прибывшие еще кого-то ждали, до его прибытия не смея уйти в помещение. И верно, прибыть он должен был последним, а после него уже никто не смел прибыть.
Приехал и он наконец, в сопровождении замыкающего бронетранспортера, – высокий, массивный человек, с крупным суровым лицом, в черной кожанке без погон, в полевой фуражке, надетой низко и прямо, ничуть не набекрень, но никакая одежда, ни манера ее носить не скрыли бы в нем военного, рожденного повелевать. Вставши, он оказался далеко не высоким, но при нем все тянулись, как могли, и закидывали головы, что как раз не доставляло ему приятного. Вскочил тотчас и Терещенко, не посмев и мига просидеть, коли тот встал. Узнав его, почувствовал и Кобрисов холодок под сердцем и понял, что не одни легенды, бежавшие впереди этого человека, навеивали страх перед ним, но от него и впрямь исходило что-то пугающее.
Маршал Жуков, заместитель Верховного, едва ли и не сам Верховный, не отвечая на приветствия, лишь коротко всех оглядев, направился к дверям вокзальчика. За ним потянулись почти бесшумно, слышались одни его твердые шаги. И Кобрисова сами ноги понесли вниз по лестнице – успеть распахнуть двери и вытянуться.
Здесь некоторую помощь генералу Кобрисову оказала пружина двери, которую он должен был придержать рукою, отчего его стойка вышла не вовсе истуканной, чуть повольнее. Жесткий взгляд маршала – снизу вверх – ударил ему в лицо, внимательный, вбирающий, точно бы пережевывающий стоящего перед ним, выказывая одно раздумье – съесть его или выплюнуть? Чудовищный подбородок, занимавший мало не треть лица, двинулся в речи, твердые губы обронили слово, до Кобрисова дошедшее чуть запоздало. Слово это было:
– Здрась…
Кобрисов что-то пролепетал, неслышное ему самому. Маршал, плечом вперед, миновал его, перестав интересоваться, но вдруг обернулся:
– Ты кто – швейцар или командующий? Я двери и сам умею открывать. Если командующий, то и командуй, куда идти.
– В зал ожидания, пожалуйста.
Маршал не удивился, но махнул рукой, как машут на дурачка.
Вокзальчик имел один большой зал, высотою в два этажа, с выходами на площадь и на перрон, и несколько служебных клетушек в крыльях. С купольного потолка смотрели на публику закопченные лики: шахтер с отбойным молотком на плече, грудастая колхозница у комбайна, обнявшая сноп какого-то злака, пограничник с собакой, похожей более на отощавшего дикого кабана, летчик и пионеры под самолетным рылом с пропеллером. В сорок первом году вокзальчику шибко досталось – и от чужих, и от своих, – в нем гулял ветер и свивали гнезда птицы, углы густо заросли паутиной. Саперы наспех расчистили завалы щебня, залатали пробоины в куполе фанерой и брезентом, составили рядами уцелевшие скамьи, из кабинета начальника станции принесли стол. Проломы в стене оставили как есть – и сквозь них пламенела прощальной красой листва кленов и дубняка.
Маршал, все оглядев коротко и более ни на что не глядя, сел за стол и развернулся боком к карте, которую развесили на стенке билетной кассы, прежде остекленной, теперь просто решетке. Кобрисов стал около нее с указкой, ожидая, когда рассядутся. Выглядело – как в школьном классе: учитель за столом, ученики за партами, вызванный – у доски. Урок, однако, начался не сразу – следом за Хрущевым внесли тот короб с красным бантом.
– Гер Константиныч, – обратился Хрущев к Жукову, с чего-то заговорщицки улыбаясь во все широкое круглое лицо с двумя разновеликими и прихотливо расположенными бородавками. – Разрешите, прежде чем начать, вот, значит, вручить скромные подарки всем, это вот, присутствующим от лица, вот, значит, Военного совета фронта. Да, Первого Украинского. Дни у нас, можно сказать, особенные, предстоит, значит, освобождение священного города Предславля, жемчужины, можно сказать, Украины. И я хочу отметить, что вот и солнышко всем нам по этому, значит, случаю как-то так светит, празднует как бы вместе с нами, вот, значит, наше торжество…
Жуков, с каменным лицом, кивнул:
– Хорошо сказал, Никита Сергеич. Главное – коротко.
Короб взгромоздили на стол. Никита Сергеич, еще много чего имевший сказать, потоптался в огорчении, напруживая круглый затылок, и подал знак рукою, как ко взрыву моста. Длинный и от волнения еще удлинившийся адъютант развязал бант, вскрыл короб и отступил. Хрущев, запуская туда обе руки, доставал и каждому подносил, согласно привязанной бирочке, что кому причиталось, в целлофановом пакете: курящим – томпаковые портсигары с выдавленной на крышке Спасской башней Кремля и по блоку американских сигарет, некурящим – шоколадные наборы, тем и другим – по бутылке армянского марочного коньяка, по календарю с картинками и именные часы, тоже американские, с вошедшими только что в моду черным циферблатом и светящимися стрелками. Непременной же и главной в составе подарка была рубашка без ворота, вышитая украинским орнаментом, со шнуровкой вместо пуговиц, с красными пушистыми кистями.
Гости хрустели пакетами, прикладывали рубахи к груди, Жуков тоже приложил и спросил:
– Это когда ж ее надевать?
– Всегда! – отвечал Хрущев с восторгом. – Я вот повседневно такую под кителем ношу. – И, расстегнув китель, всем показал вышитую грудь. – Хотя не видно сверху, а мою хохлацкую душу греет. Думаю, что и с командармами в точку мы попали, кто тут не хохол щирый? Терещенко – хохол, Чарновский – оттуда же, Рыбко – и говорить нечего, Омельченко со Жмаченкой – в обоих аж с носа капает. Ты, Галаган, вообще-то, у нас белорус… А Белоруссия – она кто? Родная сестра Украины, их даже слить можно в одну. Вот я только про Кобрисова не знаю – тэж, як я розумию, хохол?
– Никак нет. С Дону казак.
– С Дону?.. Ну в душе-то – хохол?
– И в душе казак.
– Та нэ брэши. – Хрущев на него замахал руками. – Почему ж я тебя за хохла считал? У нас это, помню, в Донбассе жили такие, Кобрисовы, шахтерская семья, дружная такая, передовая, так ни слова кацапского, все украинскою мовою.
– Бывает, – сказал Кобрисов. Против дури, знал он, лучшее средство – дурь. – А в моей станице Романовской три куреня были – Хрущевы, так по-хохлацки и не заикались, все по-русски.
– Притворялись они! – все не унимался Хрущев. – А может, матка от тебя утаила, шо вы хохлы?
– Матка-то вроде говорила, да батько разубедил. А я его больше боялся. Так уж… Ну а за подарок – спасибо.
– Это женщин наших, славных тружениц, благодарите, – объяснил Хрущев. – Лучшие, значит, стахановки с харьковской фабрики «Червонна робитныця» наш заказ выполняли. В неурочное время, в счет сверхплановой, понимаете, экономии. Специально для командармов-украинцев.
– Выходит, не для меня, – сказал Кобрисов. И, чувствуя на себе всеобщие взгляды – настороженные, любопытствующие, – он прошел к пустой скамье и положил сверток.
– Нет, ты носи, – сказал Хрущев. Он имел счастливое свойство не замечать производимых им неловкостей. – Носи, Кобрисов, рано или поздно, а мы тебя в хохлацкую веру обратим.
Жуков, прогнав жесткую, волчью свою ухмылку, отодвинул сверток на край стола, расчистив место для рук, сцепил их в один кулак, поиграл большими пальцами:
– Так, полководцы. Оперативную паузу заполнили. Командующий, слушаю ваш доклад.
Кобрисов, оборачиваясь к карте через плечо, взмахивая указкой, казавшейся в его руке дирижерской палочкой, доложил:
– Двадцать четвертого августа, с разрешения командующего войсками фронта, захватил плацдарм против города Мырятин. Через неделю, именно второго сентября, еще один плацдарм – южнее, восемь километров ниже по Днепру. Впоследствии эти два плацдарма удалось соединить. Одновременно, силами шести стрелковых полков, двух дивизионов самоходных орудий, при поддержке авиации фронта выдвинулся клиньями севернее и южнее Мырятина, создавая угрозу окружения. Основные же силы армии… – он замолчал на миг и услышал повисшую тишину, даже различил в ней шелест листвы, – …можно считать, всю армию повернул правым плечом на юг, в направлении – Предславль.
Никто не перебил его, и он коротко указал теперешнее расположение своих девяти дивизий, объяснил значение вычерченных стрел, обрисовал разведанные силы противника, напоследок назвал населенные пункты, где сейчас завязывались бои.






