Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе Владимов Георгий
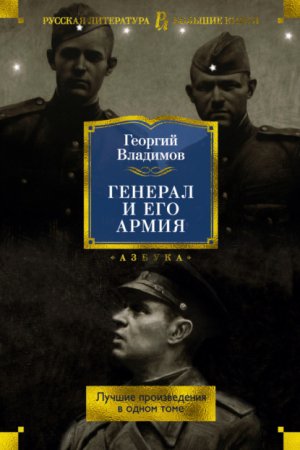
– Ближе всего к Предславлю, – сказал он, – нахожусь у села Горлица. Это двенадцать километров от черты города. По докладам командиров, некоторые здания – на возвышенных, конечно, местах – просматриваются в бинокль хорошо.
– Горлица! – не выдержал Чарновский. – Это же дачное место уже! Там у нас комсоставские курсы были, лагерный сбор. Знаю Горлицу… Там я, между прочим, с будущей супругой познакомился.
Собрание загудело, заскрипело скамьями.
– Лирические воспоминания потом, – сказал Жуков. – Горлица эта – вся у нас в руках?
– Со вчерашнего вечера вся, товарищ маршал.
Кобрисов едва удержал лицо, чтоб не расплылось глупой, довольной улыбкой. Жуков, цепким, хищным глазо-охватом как бы вбирая в себя карту, поигрывал большими пальцами:
– Все у вас, командующий?
– Пока… все.
– Суждения будут? Высказываются командармы. Начиная с младшего.
Командармов ниже генерал-лейтенанта не было, среди них Чарновский был младше по возрасту.
– Что тут судить? – сказал Чарновский, вставая и осаживая книзу гимнастерку, отчего рельефнее выделялись плечи и грудь. – К генералу Кобрисову у меня претензий нету, кроме… Кроме лютой черной зависти! Доведись мне, я бы все сделал не лучше.
– Но и не хуже, наверно? – хриплым своим фальцетом ввернул Терещенко.
Чарновский ответил угрюмо, не повернув к нему головы:
– Считаешь, Денис Трофимыч, просто повезло Кобрисову? Да, повезло несказанно. Но надо еще свое везение – угадать! Надо еще уметь свою удачу за крылья схватить. И не упускать!
«Танковый батько» Рыбко, доселе как будто мирно дремавший, положа руки на толстый портфель, приоткрыл один глаз:
– Лучше всего – за гузку ее.
Чарновский, махнув рукою, сел.
– Генерал Галаган, – объявил Жуков. – Ваше мнение?
Воздушный лихач Галаган, смотревший уныло в пролом стены, на краешек неба, высказался не вставая:
– Мое мнение – лихо! Так это Кобрисов провернул, что дай бог. Рисковый человек, я таких люблю. Я всю операцию наблюдал – и аж сердце подскакивало. Действуй в том же духе, Фотий Иваныч, и мы за тобой, авиаторы, в любой огонь полетим.
И он сделал движение рукою, как будто покачал штурвальную ручку истребителя.
– Откуда ж ты наблюдал, – спросил Терещенко, – что сердце подскакивало? С какой высоты, Иона Аполлинарьич?
Батько Рыбко приоткрыл второй глаз:
– Из стратосфэры.
Сильнее нельзя было задеть Галагана. Смуглое его лицо сделалось еще темнее.
– Ты, Денис Трофимыч, напрасно язвишь. Я в стратосферу не ухожу, я, когда надо, и брюхом по земле ползаю. Во всяком случае, когда Кобрисов на пароме Днепр переплывал, я его черную кожанку видел. И видел, как он от страха бледный стал, когда на него «юнкерс» спикировал, а с палубы все-таки не уходил. Насилу я этого «юнкерса» увел, так ему генерала хотелось подстрелить.
– Хорошего мало, – заметил Терещенко, – жизнью своей, командующего армией, без нужды рисковать.
Галаган, не отвечая, перевел на Кобрисова тоскующий взгляд ярко-синих (особо ценимых в авиации!) глаз, опушенных густыми черными ресницами. В этом взгляде можно было прочесть: «Черта ли ты, Кобрисов, не летаешь? Милое дело – небо! Туда б за тобой никто из них не полез…»
– Я беру слово, – сказал Жуков.
В зале мгновенно стихло. Маршал, прежде чем что-то сказать, несколько раз повел короткой шеей в теснившем его воротнике, откидывая голову к плечу и закрыв глаза. Углы его рта загибались книзу.
– От вас, Галаган, я ждал именно взгляда с высоты. Орлиного взгляда, как говорит Верховный. Не дождался. Сплошные эмоции. – Он посмотрел пристально на Кобрисова – тем взглядом, от которого, говорили, иные чуть не падали замертво. – Командующий, вы стоите слишком близко к карте. Я вам советую рассматривать ее метров с полутора. А то вы уперлись в свой замысел и не видите всей картины. Такого авантюрного варианта, какой вы избрали, еще свет не видывал. Вы наступаете в узком коридоре шириной километров… восемь, что ли?
– Местами и шесть.
– Еще не легче! Слева – река, противник – справа. Движение – с оголенным правым флангом, с растянутыми коммуникациями. По сути, незамкнутое окружение. В которое вы сами втянулись. Противник вас может прошить насквозь. Прямой наводкой. Из вшивенькой пятидесятисемимиллиметровой пушчонки. В любой час, когда ему заблагорассудится, он вашу армию разрежет на куски. Как колбасу. Ему и прижимать вас не нужно к берегу, вы и так прижаты. Ему только выбрать, с какого куска лучше начать, какой на потом оставить. Вы ослепли? Или думаете, противник ваш – слепой?
– Да ведь пока, товарищ маршал… – начал было Кобрисов.
– «Пока» – это не гарантия, – перебил Жуков. – Это случится завтра. Сегодня. Через час.
– Разрешите малость мне защитить свой замысел?
– Только и жду.
– Вот вы, товарищ маршал, рискнули ко мне приехать, – начал Кобрисов издалека. – По рокаде ехали – и не думали, что каждый час могут ее перерезать. Почему же было и мне не рискнуть? Тем более, я свой риск подстраховал, считаю, неплохо. Всю тяжелую артиллерию я на плацдарм не тащил, оставил на том берегу. С тем, чтоб она вдоль всего берега вела бы дуэль через наши головы, создавала бы защитный огневой вал. И в этом случае, товарищ маршал, узкий коридор – может быть, преимущество наше? Артиллерия, даже гаубичная, работает не на пределе прицела, имеет маневр огнем. Каждый метр буквально у нее пристрелян. Скажу, что да, были попытки прорыва и разрезать нас… как колбасу. Были – и сразу нами пресечены. Учтем тем более господство нашей авиации.
Жуков помолчал и спросил:
– Связь с артиллерией – по радио?
– Проводная, товарищ маршал. У меня первая же лодочная группа и кабель разматывала по дну. Трофейный, емкостью в шесть проводов. Потом и второй мы проложили. Предусмотрена, конечно, кодированная радиосвязь, но пока не пришлось использовать.
– Убедительно, – сказал Жуков. – Убедительно защищаетесь, командующий. А выглядит, прямо скажу, несерьезно.
Он снова вглядывался в карту. Углы его рта при этом выпрямились. Может быть, вспомнил он, как сам же сказал, узнав о захвате плацдарма на голых мырятинских кручах: «Что ж, на войне многие большие дела начинаются несерьезно». Может быть, со своим звериным «чувством противника», он понимал, что защитники «Восточного вала» не так уж горят желанием воевать, если русская армия проходит мимо, не причиняя им особенного вреда, направляясь к Предславлю, за который в конце концов не они отвечают.
– Если честно, – спросил он, – противник здесь оказался пассивнее, чем вы ожидали?
Кобрисов, помявшись, ответил:
– Я, товарищ маршал, на эту пассивность его и рассчитывал.
И немедленно, только того и дождавшись, попросил слова Терещенко.
– Фотий Иваныч, – заговорил он, не вставая, опершись обеими руками на палку, с обидой в голосе. От обиды на голове у него вздуло хохолок. – Мне странно слышать, как ты говоришь: «Рассчитывал». Все только себе в плюс. А почему рассчитывал – не говоришь. Что ж такая неблагодарность к соседям своим, командармам? А может, тебе потому и легко, что другим трудно? Потому что они на себя главную тяжесть приняли на Сибеже? Ты по ровному идешь, а кто-то в оврагах, в болотах лесных барахтается, глину месит, костьми ложится, чтоб тебе в руки Предславль положить…
– Согласен, – сказал Кобрисов, чувствуя, как вскипает в нем раздражение, как затмевает ему голову, и боясь этого, и не в силах будучи удержаться. – Но неужели ж не видно было, что этот ваш Сибежский плацдарм хорошей жизни не обещает? Устроили себе тритатуси, теперь вот мудохаетесь там…
– Попрошу командующего, – сказал Жуков бесстрастно, – придерживаться военной терминологии.
– Виноват, товарищ маршал. Но хотел бы спросить соседей-командармов: черт их там вырыл, эти овраги, пока вы переправлялись?!
Он задал тот вопрос, на который и двадцать, и тридцать лет спустя будут искать ответа и не находить его: что же, заранее не было ясно, что южный плацдарм у села Сибеж – ошибка, западня? Что овраги, леса и болота не преимущества этого выбора, но тяжкое его осложнение? Отчего так невнятны, уклончивы объяснения историков: «К сожалению, Сибежский плацдарм оказался сильно пересеченной местностью, изобилующей…» Когда «оказался»? До или после переправы?
– Что же ты считаешь, – спросил Терещенко, голос был тонкий, ломкий, еле не плачущий, – наши усилия, наши потери общие, жертвы наши – все зря? Почему ж раньше молчал? А сам тихой сапой, понимаешь…
– Он не молчал, – сказал Жуков, нахмурясь.
Да, цепкая его память удержала то совещание в Ольховатке, где и Кобрисов, и Чарновский высказывались против варианта с Сибежским плацдармом, которому сам-то он был защитник.
Терещенко примолк, съежился, только смотрел исподлобья на Кобрисова – с обидой, укоризной, побелевшими от злости глазами.
Жуков, прикусив нижнюю губу, сдвинув брови, мрачно уставился в карту. О чем теперь задумался маршал? Не о том ли, что сам поддался эмоциям, позволил себя втянуть в аферу, доверился очевидному, которое вовсе не было очевидным? Закрыл себе глаза на все иные возможности, которые вот же углядел этот увалень, преподавший всем урок гениальности? Да, принимая тогда свое «несерьезное» решение, он был хоть на минуту гением. Взгляд посредственности цепляется за овраги, излучины, петляет в лесных зарослях, а взгляд гения упирается в пустынный берег и в голых кручах находит решение загадки.
А отгадка так проста была – танки! Нужно было их любить, как этот Кобрисов, чтоб знать, что любят они – ровную, слегка всхолмленную местность, где можно укрыться как раз по башню, а то вдруг вылететь на бугор, отстреляться, вновь затеряться в низинах, в реденьких перелесках и рощицах, искажающих рев и лязг, главное – не теряя темпа…
– Вы генерал с танковым качеством, – сказал Жуков. – Я это ценю. Как же вы их на кручи-то волокли?
– По-всякому. Бывало, и слегами подпирали под гусеницы. Одного вытащим – другого он тащит тросами.
– Небось и сами плечо подставляли?
Кобрисов только повел могучим плечом, и зал заскрипел скамьями, дробно рассмеялся.
– Фотий Иванычу нашему, – сказал Терещенко, – такому лбу, хоть на спину взвали…
– Сколько было машин? – спросил Жуков.
Вместо Кобрисова, встрепенувшись от дремы, ответил Рыбко:
– Шестьдесят четыре. Минус две.
«Батько» всегда знал, разбуди его среди ночи, сколько у кого танков.
– Две еще на том берегу потеряли, – уточнил Кобрисов, неожиданно для себя тоном оправдания. – Теперь-то мы с них пылинки сдуваем…
Снова повисло молчание. Жуков, поворотясь к залу, смотрел на всех недобрым взглядом. Под этим взглядом все казались – или хотели казаться – на голову ниже, опускали глаза. Хрущев ерзал по скамье, точно она была утыкана шильями. Ватутин смотрел прямо, но какими-то отсутствующими глазами.
– Так, полководцы… – начал Жуков зловеще. Но не продолжал. И показалось Кобрисову, что не только он над ними имеет власть, но какую-то и они над ним. Может быть, не меньшую.
Терещенко быстро переглянулся с левым своим соседом по фронту, Омельченко, тот согласно моргнул и поднял руку для слова. Тучный, круглоголовый, луноликий Омельченко, с пробором в рыжеватых волосах, уложенных плойками, настроил себя на тон проникновенный, был сама скорбь и душевная боль.
– Мы тут услышали грубые слова от товарища нашего, Кобрисова…
– Не для нежных ушей? – сказал Жуков.
– Не в том печаль, товарищ маршал, что грубые, мы в своем коллективе по-солдатски привыкли, а – обидные. Упирается человек в свое лишь корыто, а того не видит, что, может, все по плану делается. Что командование фронтом свою задумку имело. Одним такая доля выпала, чтоб, значит, фон Штайнера этого на себя отвлекать, нервировать его, а другим – знамя над горсоветом водрузить. Необязательно всех было посвящать, но теперь-то можно же догадаться, что был заранее спланированный маневр. И как у поэта сказано, у Маяковского, не грех напомнить: «Сочтемся, понимаешь, славою, ведь мы ж свои же люди…»
Вот как все было, оказывается! Вот как было, когда он, Кобрисов, смотрел в стереотрубу на черного ангела с тяжелым крестом на плече, высоко вознесшегося над кущами парка, на ослепительный купол собора, с пробоиной от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри, на дымящиеся руины проспекта, наклонно и косо сходящего к Днепру, и думал о том, какая обидная доля выпала ему: стоять против великого города и только страховать Терещенко – на тот невероятный случай, если б фон Штайнеру вздумалось переправиться на левый берег и запереть Сибежский плацдарм с востока. Вот как было, когда трясущимися руками, подстелив плащ-палатку, он разворачивал карту и колесиком курвиметра вел по извивам водной преграды «р. Днепр», когда раздвигом циркуля отмерял расстояние от Предславля до Сибежа и то же расстояние отложил к северу, и грифельная лапка уткнулась в сердцевину кружка, и прочиталось: «Мырятин». И было, оказывается, предвидено, спланировано заранее, как он, по колено в воде, ища свою подстреленную утку, раздвинет камыши в плавнях, и посмотрит на тот берег, и поразится его зловещему безмолвию, и услышит толчки сердца в висках…
– Должен я отвечать на упрек, товарищ маршал? – спросил Кобрисов.
– Необязательно, – сказал Жуков.
Он снизу послал многозначительный взгляд, которого Кобрисов, однако, не видел, смотрел в глаза Ватутину.
– Николай Федорович, предвидели вы, что я сам попрошу разрешения?
– Почему ж не предвидел? – раздражаясь, спросил Ватутин. – Когда позвонил ты мне в Ольховатку, я же не удивился, тут же согласие дал. А если б не попросил – тебе бы рано или поздно приказали…
– И когда я свои танки быстренько на правый фланг уводил, сам от себя прятал, чтоб другие не увели…
– Ну, всего не предусмотришь. И танки я от тебя не требовал кому-то передать.
Два человека кричали в Кобрисове, и один твердил упрямо: «Не было этого, не было!», а другой: «Остановись же! Вот здесь остановись!» Но, понимая отчетливо, что каждым словом обрубает ниточку, которую протянули ему, он все же не мог не бросить им свой горький, злой упрек:
– Пускай бы вы просто на берегу стояли против Сибежа – и то бы фон Штайнера отвлекали. Нервировали по крайней мере. А так – слишком дорогая получается мясорубка. – Он увидел грустный предостерегающий взгляд Галагана и все же продолжал: – Он ждал вас на юге – и дождался. А если б сразу начали, где я, да всем гуртом навалились, он бы рокироваться не успел.
– Не доказано, – сказал Жуков. – Не кормите нас гипотезами. Кое-что справедливо говорите, но – не все. С кем согласовывали наступление на Предславль?
Кобрисов отвечал уклончиво:
– Товарищ маршал, а для чего ж тогда плацдармы берутся?.. И что ж меня судить, когда мои части в двенадцати километрах?..
Он удержал на языке, не прибавил того, что кричало в нем: «Да что происходит здесь? Что происходит? Вы там, на Сибеже, навалили горы битого мяса, и все топчетесь, топчетесь который месяц, а я, с потерями вдесятеро меньшими, уже вплотную к Предславлю подошел, но не я сужу вас, а вы приехали меня судить, и никому из вас это не удивительно!.. Ехали сюда – не удивлялись, зачем едете?»
– Никто вас не судит, – сказал Жуков.
– Победитель ты, Фотий Иваныч, – начал было Галаган, но Жуков его остановил, выставив ладонь.
– Не судим, а разобраться хотим. Как дальше быть.
– Вот я тоже разобраться, – поднял руку Хрущев. – Почему это так, что и судить нельзя? У нас таких нет, чтоб судить нельзя было. Я не в смысле, значит, трибунала, а в смысле суждений, значит. Партия такое право всегда имеет, и нам тоже предоставлено. И победителей тоже, значит, иногда, если они…
– Никита Сергеич, много у тебя? – спросил Жуков.
– Ну… Я по оперативному скажу вопросу. Вот вы наступаете, Кобрисов, да? Наступаете пока, можно сказать, успешно. А поглядите вы через плечо. Через правое. И что у вас за спиной делается? А там, понимаешь, целый город у вас в тылу остается. Мырятин этот, значит. Намерены вы с ним что-то делать или как?
– А на кой он ему? – спросил Галаган.
– Как «на кой»? – удивился Хрущев. – Хорошее дело – «на кой»! Город советский. Занятый, понимаешь, врагом.
На этот вопрос, которого более всего опасался Кобрисов, и должен был ответить Чарновский: «Отрежьте мне этот кусок плацдарма, вместе с Мырятином. У меня перед фронтом более или менее крупных городов нет, я бы и этому рад был». Так должен был сказать Чарновский, но почему-то молчал. Отсев подальше от Кобрисова, смотрел сосредоточенно в пол.
– Командующий, – спросил Жуков, – как у вас складываются отношения с противником в районе Мырятина?
– Нейтралитет у меня с ним, товарищ маршал. Друг друга не тревожим.
– Но он угрожает вашим переправам.
– Угрожал. В основном авиацией. Бывало, по сорок самолетов налетало, а то раз и семьдесят мы насчитали. Но потом генерал Галаган обеспечил здесь наше господство, так что – тихо сидит.
– Но вы же клинья зачем-то выдвинули. Планировали окружение?
– Не было такого плана. Только угроза окружения. Где мне, с моими силами, еще окружать!
– И не надо, если не хотите. Двиньте вы ваши клинья километров на пять. Да он оттуда раком уползет!
Так оно, верно, и будет, подумал Кобрисов. Уползут. А только в последнюю очередь те, кому больше угроз от пленения. Когда паника начнется, не достанется русским ни машин, ни повозок, ни седел, ни танковой брони. Им – прикладами по пальцам, чтоб не цеплялись. Здесь конец боевому содружеству, каждый за себя. Умрите вы, падаль, а нам прикройте отход. И вы же в своей России остаетесь, чего вам бояться – встречи с земляками?..
Заговорил между тем Терещенко:
– Разрешите, товарищ маршал, и с вами немножко поспорить… Как понимать это – «пусть уползет»? Это же предоставление инициативы противнику. Это мы еще ждать должны, как он решит: захочет – уползет, захочет – клинья обрежет. Много чести, мне кажется. Не сорок первый год, теперь мы ему должны навязывать нашу идею, а он – пусть принимает. И тут я у командующего четкой идеи не вижу пока. Я б такую занозу, Мырятин, у себя на фланге не оставлял бы.
Жуков, не отвечая ему, обратился к Кобрисову:
– Сколько бы вам понадобилось еще машин? Если б была у фронта возможность.
Кобрисов задумался, набрал в грудь воздуху, выдохнул шумно:
– Сто бы мне. «Тридцатьчетверочек».
– Почему сто? С потолка берете?
– Так двести же не дадут.
– Генерал Рыбко, могла бы ваша армия сколько-то выделить ему?
«Батько», очнувшись, поближе к животу прибрал свой портфель, точно там они и были, танки:
– Цэ трэба розжуваты, товарищу маршал. Да он же у нас такой озорник, Кобрисов этот. Ему дай сто, хоть и двести дай, он же их все на Предславль угонит…
– Ну, это уж как он распорядится.
– …а то еще куда-нибудь. А сам и знать не будет, где они у него.
– Ничего, найдутся. Он их теряет, он же их и находит.
– Давай, батько, раскошеливайся, – сказал Галаган.
Кобрисов тоже смотрел на «батьку» выжидающе. Кто-кто, а танковый генерал наибольшую нес ответственность за авантюру с Сибежем, должен был предвидеть лучше других, что его «керосинкам» там уготовано сделаться свалкой металлолома, и воспротивиться этому, а сейчас – мог лишь приветствовать возможность перебросить их на Мырятин.
Мучительная дума пересекла «батькин» лоб горизонтальной морщиной. И вдруг он блаженно разулыбался:
– Анекдот вспомнил. Разрешите, товарищу маршал?
– Оперативная пауза, – сказал Жуков.
– Приходят это чекисты с ГПУ к еврею: «Рабинович, сдай деньги в госбюджет!» Ну, жмется Рабинович: «Та откуда ж у меня деньги?» – «У тебя-то, может, и нету, а у твоей Сарочки, ГПУ знает, припрятано. Давай, выкладай». – «А зачем вам деньги?» – Рабинович спрашивает. «Как это „зачем“! Социализм строить». – «А у вас их нету, денег?» – «То-то и дело, что нету!» – «Так я вам так скажу: когда нету денег – не строят социализм».
На анекдот генералы отвлеклись охотно, у Жукова края рта завернулись кверху.
– А мы его вроде построили, социализм? – спросил он, улыбаясь как-то неуверенно, как бы прося снисхождения. Что-то в его улыбке напоминало беззубого ребенка.
– Как же, Гер Константинович! – укорил Хрущев. – Верховный еще когда говорил: «Завоевания социализьма».
– А, так его еще завоевывать нужно…
– Да нет же, Гер Константинович, это он завоевывает, социализьм!
– За всем не уследишь, – сказал Жуков виновато. – Ну, на то у нас комиссары есть. Ладно, полководцы, оперативную паузу заполнили. Вернулись к Предславлю.
– К Мырятину, – напомнил Терещенко.
– Да, к Мырятину.
К танкам, однако, не вернулись.
Маршал помолчал, умыл толстой ладонью свой чудо-подбородок с «полководческой ямочкой». Наверно, ни при какой погоде сам бы он не стал возиться с городишком районного масштаба, имея впереди «жемчужину Украины», и понимал, наверно, Кобрисова, и потому опять смотрел на всех недобрым взглядом.
– Какая все-таки причина, – спросил он, – что командующий не хочет брать Мырятин? Он же у вас на ладони лежит.
Еще в эту минуту можно было выиграть затянувшийся бой, перетащить Жукова на свою сторону, только высказать самый веский довод.
– Товарищ маршал, – сказал Кобрисов. – Это так кажется, что на ладони.
– Мне кажется?
– Вам не все доложили. Операция эта – очень дорогая, тысяч десять она мне будет стоить.
– Что ж, попросите пополнения. После Мырятина выделим.
– Мне вот этих десять… жалко. Ненужная это сейчас жертва. И одно дело – люди настроились Предславль освобождать, за это и помереть не обидно, а другое дело – я их сорву да переброшу на какой-то Мырятин. Жалко мне их. И ради чего я ими пожертвую, когда мне каждый сейчас, в наступлении, втрое дороже! Есть у меня мысль, что противник как раз и ожидает, чтоб мы здесь потратились материально…
– А мне, – спросил Терещенко, – думаешь, так хочется за Сибеж ничтожный тратиться? А приходится.
Жуков его остановил:
– Уважайте соседа, полководцы. Он не всегда глупости говорит. Что ж, командующий, к вашему доводу следует прислушаться.
Но по голосу чувствовалось: не прислушался нисколько. Любой другой аргумент он бы рассмотрел внимательно и во всех подробностях, этого – он как бы и не слышал. Тем и велик он был, полководец, который бы не удержался ни в какой другой армии, а для этой-то и был рожден. Все было у него – и подбородок крутой с ямочкой, и рост достаточно невысокий, и укажут остряки на первый слог в его фамилии со звуком «у», столь частый у полководцев, – Суворов, Кутузов, Румянцев, Брусилов, Куропаткин, два Блюхера и Мюрат, Фрунзе, Тухачевский, Клюге, Гудериан, да хоть и Буденный, и даже Фабий, своей медлительностью заслуживший прозвище Кунктатор, – но главное для полководца пролетарской школы было то, что для слова «жалко» не имел он органа восприятия. Не ведал, что это такое. И, если бы ведал, не одерживал бы своих побед. Если бы учился в академии, где все же приучали экономно планировать потери, тоже бы не одерживал. Назовут его величайшим из маршалов – и правильно назовут, другие в его ситуациях, имея подчас шести-, семикратный перевес, проигрывали бездарно. Он – выигрывал. И потому выигрывал, что не позволял себе слова «жалко». Не то что не позволял – не слышал.
– Стоит прислушаться, – повторил он. – Но вы мой довод не опрокинули. Вот что делает ваш противник. Удар во фронт. По ослабленному плацдарму. С выходом к Днепру.
– Это был бы акт отчаяния, – сказал Кобрисов. – Зачем ему между клиньями лезть?
– Согласен. Но акт возможный. Приказ есть приказ, и солдат его выполнит. И это было бы для нас очень болезненно. Переправы сейчас – самое для нас ценное. Так что подумайте. Подумайте о Мырятине.
Кобрисов запнулся на секунду, было у него, чем этот довод оспорить, но тотчас ворвался в разговор Хрущев:
– Вот я, Гер Константинович, ну кто о чем, а вшивый, значит, о бане. То есть я, значит, как политработник волнуюсь. Насчет, значит, укрепления морально-политического духа в войсках. Тем более «жемчужина Украины» и все такое. Вот были мы с Николай Федорычем в Восемнадцатой армии, там такой, значит, начальник политотдела, заботливый такой полковник. Как его, Николай Федорович? Гарнэсенький такий парубок, с Днепропетровска, бровки таки густы. Когда мужик из себя видный, тоже ж играет значение! Душевно так, заботливо с солдатами перед боем поговорит, освещение подвигов подает, наладил, значить, вручение партбилетов прямо на передовой. «Бой, говорит, лучшая рекомендация». Его, кстати, идея была – символические подарки украинцам-командармам. Хорошо б его сюда для обмена, значит, опытом как-то прикомандировать. Как же его? От же, склероз, вылетело…
– Никита Сергеич, – поморщась, сказал Жуков, – вспомнишь – вернемся к вопросу.
Он уже вставал, заставляя и всех вскочить. Низко напяливая фуражку, подошел к Кобрисову. Выпрямясь и сделавшись на голову выше маршала, Кобрисов увидел мгновенную вспышку раздражения в его глазах, извечного раздражения низкорослого против верзилы. Впрочем, маршал ее погасил тотчас и осведомился благосклонно:
– Командующий, откуда я вас еще до этой войны помню? Не были на Халхин-Голе?
– Был, товарищ маршал.
– А по какому поводу встречались?
Кобрисов, помявшись, сказал:
– А вы меня к расстрелу приговорили. В числе семнадцати командиров.
– А… – Маршал улыбнулся той же улыбкой беззубого ребенка. – Ну, ясно, что к расстрелу, я к другому не приговариваю. Не я, конечно, а трибунал. А за что, напомните?
– За потерю связи с войсками.
– Как же случилось, что живы?
– А нас тогда московская комиссия выручила, из Генштаба, во главе с полковником Григоренко. Они ваш приказ обжаловали и, наоборот, кое-кого к Красному Знамени представили. В том числе и меня. Вы же потом и подписали.
Брови маршала сдвинулись на миг и снова разгладились.
– Припоминаю. Ну, видите, как хорошо обошлось. И вы теперь связи уделяете должное внимание. – Он протянул руку. – Поработайте еще, командующий. Желаю успеха.
Генералы, шелестя целлофановыми пакетами, подходили к Кобрисову попрощаться.
– Ты, часом, не в обиде на меня? – спросил Терещенко. – Пощипали тебя, так и ты ж нас тоже. Первый притом. Поверишь ли, больные струны задел!
– И с чего, спрашивается, гавкаемся? – сказал огорченный Омельченко. – Общее ж дело делаем, мирно бы надо.
– Ладком? – сказал Кобрисов.
– Именно. Сошлись бы как-нибудь втихаря, ну там бутылочку уговорили. Почему нет?
– Слушай их, Фотий Иваныч, – сказал Галаган, – а делай все наоборот. Три к носу, держи хвост трубой.
Подошел и Чарновский. Постоял, покачиваясь с пяток на каблуки, поднял хмурое лицо, с еле не сросшимися густыми бровями:
– Извини, что не поддержал тебя. Но и ты себя с людьми не так повел. Мы не об этом договаривались.
– Никаких претензий, Василий Данилович. Поступил ты по совести, тактично.
Чарновский, ярко вспыхнув, что-то хотел сказать, но круто повернулся и вышел.
Остался Ватутин. Он долго стоял у пролома в стене, смотрел, как рассаживаются по машинам, кому-то крикнул, что поедет последним, наконец повернулся к Кобрисову:
– Как самочувствие?
– Душновато, – сказал Кобрисов. – Дышать тяжело. Расстегнуть бы две пуговички. Ежели позволите.
– Давай.
Они расстегнули по две верхние пуговки на вороте и перешли на язык, невозможный у начальника с подчиненным.
– Операция эта все-таки дорогая, – сказал Кобрисов. – Я подумал: а сколько же в Мырятине этом жило до войны? Баб, стариков, детишек ты не считай, одних призывных мужиков сколько было? Да те же, наверно, десять тысяч. Которых я положить должен. Что же мы, за Россию будем платить Россией?
– Да только и делаем, что платим, Фотя. Когда оно иначе было? И будем платить, мы ж ее пока что не выкупили…
– Я старше тебя на девять лет, Николай. Послушай мудрого. Не всегда это доблесть – бой навязывать противнику, иногда умней уклониться, больше потом возьмешь. Ты вот о «котлах» думаешь, об окружениях, да кто об них не мечтает. А знаешь, чем ты прославился уже, чем, может, в истории останешься? Двумя отступлениями. Под Харьковом и на Курской дуге. Это изучать будут, как ты сумел людей сохранить, технику всю вытащить, противника измотать и сразу, без паузы, способен был контрудар нанести.
– Любо тебя послушать, Фотя, – сказал Ватутин, усмехаясь. – Лестно.
– Ты знаешь, что я не только льстить могу.
– Знаю. Не знаю вот, принять ли за комплимент, что одними отступлениями… Ладно, не в этом дело. Отвечу тебе комплиментом – всех ты нас удивил. Переиграл. Да ведь я давно считаю, что тебе по годам, по знаниям пора бы уже и фронтом покомандовать. Ты прав оказался, а мы – не правы. Ну да, не все мы продумали с этим Сибежем. На поводу пошли у Терещенки…
– А что же Константиныч его поддерживает?
– Так кто же и докладывал Верховному про сибежский вариант? Константиныч и докладывал. Его тоже понять можно… Теперь подумаем вместе – что скажет солдат? Что командование фронтом, представитель Ставки – чурки с глазами? Один генерал Кобрисов в ногу шагал? А солдату вера нужна в свое командование, иначе – как дальше ему воевать?
– А так же, как и воевал. Думаешь, вера в начальство сильно его греет?
– Ты не пререкайся со мной, Фотя. Тебе же так откровенно, как я, никто карты не выложит.
– Знаю, – сказал Кобрисов. – Ладно, помолчу.
Ватутин прохаживался по залу между скамьями – грузной поступью, заложив короткие руки за спину, склонив круглую лобастую голову римского центуриона; из-за обвисших щек и резких складок у рта казался он много старше своих сорока трех.
– Терещенко тоже незачем топить. Ну, ошибся. Увлекся. Все тогда увлеклись.
– Его утопишь! – вскинулся Кобрисов. – Поди, считает «командарм наступления», что я сейчас его место занимаю!..
По тому, как быстро, удивленно взглянул Ватутин, видно было, что это для него не ново.
– Еще раз скажу тебе, Фотя: армией ты командовал безукоризненно. И я за то, чтоб ты и дальше Тридцать восьмой командовал. Хотя замечу – Терещенко бы не пришлось уговаривать этот городишко прихватить.
– Как будто не понимаете вы: с потерей Предславля не будет фон Штайнер за этот городишко держаться, сам оттуда уйдет. Если прежде Гитлер его не снимет.
– И опять же – ты прав. И в то же время – не прав. Есть тут один тонкий политес, который соблюдать приходится. Сибежский вариант согласован с Верховным. И так он ему на душу лег, как будто он сам его и придумал. Теперь что же, должны мы от Сибежа отказаться? «Почему? – спросит. – Не по зубам оказалось?»
– И про все потери спросит…
– Да уж, непременно. В первую очередь – про потери. И в будущем сто раз он нам этот Сибеж припомнит. Значит, как-то надо Верховного подготовить. И не так, что северный вариант лучше, а южный хуже, а подать это как единый план. И надо ему все дело так представить, чтоб он сам к этой идее пришел. Вот для чего и нужен твой Мырятин. Услышит он – трубочку раскурит, на карту поглядит и сам себе скажет: «Они там, дураки, не видят, что у них под носом делается, а я из Москвы не выезжаю – и все мне как на ладони видно!» Тогда с Верховным любо-дорого дело иметь, что хочешь у него проси. Понял ты наконец?
– Все финтим, – сказал Кобрисов печально. – И со мною ты финтишь: уже обсуждалось, как меня от армии отставить. Мне эти финты уже вот так настряли. Как ты-то от них не устал? Вроде не в тех ты уже летах, не в тех чинах…






