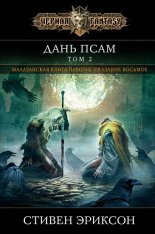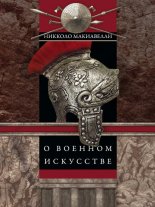Возвращение Хислоп Виктория

Шли месяцы. Антонио и его сокамерники упрямо сопротивлялись жестокости надзирателей. Некоторые из них буквально зачахли от горя, как происходит с людьми, которым незачем жить и у которых нет надежды на спасение.
Узники постоянно заговаривали о побеге, но после единственной предпринятой попытки последовало настолько жестокое наказание, что, по их мнению, у них больше не осталось сил на повторную попытку. Крики смельчаков, казалось, до сих пор стояли у них в ушах.
Непокорные отваживались лишь на то, чтобы отказываться петь патриотические песни нового режима, или на разговоры во время проповедей, которые их обязывали слушать во дворе. Даже за это их могли наказать. Не было никаких поблажек хилым и убогим со стороны надзирателей, избивающих заключенных тяжелыми рукоятями хлыстов.
Самым страшным моментом дня было зачитывание saca[87], когда называли имена тех, кого на следующий день должны были расстрелять. Однажды на рассвете зачитали список длиннее обычного. Это была не ежедневная «десятка», на этот раз список никак не заканчивался. Приговоренных были тысячи. Стоя на промозглом утреннем ветру, Антонио почувствовал, как леденеет его кровь.
Подобно тому как людской разум узнает знакомое лицо в многотысячной толпе, так и Антонио услышал собственное имя среди едва различимого гула других имен. В монотонном перечислении Хуанов и Хосе слова «Антонио Рамирес» резанули слух.
Когда чтение списка закончилось, повисла тишина.
— Все вышеназванные — строиться! — был отдан приказ.
Мужчины, чьи имена были названы, всего за несколько минут вышли вперед и выстроились в линию. Без всяких дальнейших объяснений их повели к воротам тюрьмы. В воздухе повис неприятный кисловатый запах мужчин, вспотевших в своих грязных рубашках. Это был запах страха. «Неужели они собираются нас убить?» — удивлялся Антонио, ноги подкашивались от ужаса, ему с трудом удалось взять себя в руки. Не было времени попрощаться. Вместо этого люди, успевшие сдружиться за время долгого пребывания в тюрьме, тайком обменивались взглядами. Те, кто оставался, с жалостью смотрели на тех, кто уходил, но всех объединяла общая решимость не позволить фашистам увидеть страх на их лицах. Это доставило бы врагам слишком большое удовольствие.
Антонио оказался среди тех, кого вывели из тюрьмы и направили в сторону города. Для заключенных было не в новинку, когда их переводили из одной тюрьмы в другую, но чтобы в таком количестве — это было необычно. Когда они приблизились к железнодорожному вокзалу, всей огромной толпе было приказано остановиться. Антонио понял, что они куда-то поедут. Много часов раздавался мерный стук колес.
— Как будто в ящике везут, — пробормотал один мужчина.
— Очень любезно с их стороны оставить крышку открытой, — ответил другой.
— Совсем на них не похоже, — саркастически заметил еще один.
Несмотря на то что их перевозили в новое место, относились к ним все так же. Более сотни человек стояло в каждой клетке, несшейся по рельсам на юг. Некоторые цеплялись за прутья, вглядываясь сквозь решетку в меняющиеся пейзажи, которые в конечном итоге слились в один, пока поезд уезжал все дальше и дальше. Другие, зажатые в середине, могли видеть только небо.
В течение следующих нескольких часов по ним хлестал дождь, но наконец тучи рассеялись, и Антонио по солнцу определил, что они направляются на юго-запад. После многих часов поезд, дернувшись, остановился, двери клетки открылись. Они спрыгнули на твердую пыльную землю, многие тут же вытянули затекшие ноги.
Перед ними стояла группа вооруженных солдат с ружьями на изготовку, только и ждущих возможности пустить их в ход. С одной стороны виднелись обнаженные горные породы, с другой — вообще ничего. Бежать было некуда. Каждому, кто попытался бы бежать, наградой стала бы пуля в затылок.
С нескрываемым презрением в толпу были брошены куски хлеба, а заключенные, как стая рыб, набросились на них, выхватывая еду друг у друга и толкаясь. Люди были доведены до отчаяния, последняя гордость была отброшена.
Антонио видел, как десять человек бросились к одному куску хлеба, и его воротило от вида собственной руки с грязными ногтями, пытающейся отобрать корку хлеба у другого человека. Они опустились до уровня животных.
Потом их вновь погрузили в клетки, и еще много часов они тряслись по рельсам, пока поезд, качнувшись, не остановился. Заключенные пришли в движение.
— Где мы? — закричали из центра.
— Что там видно? — выкрикнул другой заключенный. — Что там происходит?
Это был еще не конец путешествия. Антонио в очередной раз выбрался из клетки и увидел десяток ожидающих их грузовиков. Заключенным было приказано забираться в кузова.
Мужчин, как сельдей в бочку, затолкали в грузовики, которые долго тряслись по ухабистой дороге. Где-то спустя час раздался скрип колес и внезапный визг тормозов. Заключенные качнулись в одну сторону. Двери открылись, а затем захлопнулись, засовы задвинулись, послышались крики, приказы, перебранка. Опять сердца заключенных сжались от страха. Они словно бы приехали в никуда, хотя Антонио показалось, что вдалеке он увидел предместья города.
Мужчины начали перешептываться.
— Было бы очень странно, если бы нас привезли сюда, просто чтобы убить, — размышлял мужчина, который последние четыре часа был прижат к Антонио лицом к лицу. От его зловонного дыхания Антонио чуть не задохнулся. Он понимал, что у самого пахнет изо рта не лучше, но от вони гнилых десен этого старого солдата Антонио чуть не стошнило.
Антонио уже хотел было ответить, как кто-то его перебил:
— Думаю, нас уже давно бы прикончили, если бы собирались.
— Не будь таким уверенным, — пессимистично заверил другой.
Спор продолжался, пока его не оборвал приказ одного из солдат. Заключенным велели идти по тропинке, которая вела от дороги, и вскоре они увидели место назначения. Перед ними появился ряд лачуг. Многим это зрелище принесло облегчение, люди заплакали: они смогут прожить еще один день.
Их выстроили рядами на клочке земли перед лачугами, к ним обратился капитан. Единственное, что они разглядели, — это узкие губы и высокие скулы. Антонио злило то, что глаза капитана скрывает козырек фуражки. Толпа молчала, замерев в ожидании. Впервые ими овладел оптимизм, когда они наблюдали, как двигаются губы капитана.
— Благодаря великодушию нашего великого генерала Франко вас ждет незаслуженно счастливое будущее, — заявил он. — Сегодня вам дается еще один шанс.
По толпе пронесся вздох облегчения. Тон его напыщенной речи вызывал у Антонио омерзение, но ее смысл заинтересовал. Капитан продолжал. Ему необходимо было донести послание, и ничто не могло его остановить.
— Вы, без сомнения, слышали, что был принят закон, дарующий прощение за упорный труд. За каждые два дня работы ваш срок уменьшается на один день. Для таких ничтожеств, как некоторые из вас, это слишком щедрое предложение, но генералиссимус издал декрет.
Его голос был таким, словно он проглотил горькую пилюлю. Капитан явно не одобрял подобную мягкость и предпочел бы, чтобы эти мужчины получили самое суровое наказание, но слово Франко — закон, а он обязан выполнять приказы.
Капитан продолжал:
— И что еще важнее, вы были отобраны для самого величайшего из всех дел.
Антонио стал испытывать страх. Он слышал, что заключенных использовали в качестве бесплатной рабочей силы, чтобы возводить города, например Бельчите и Брунете, которые сровняли с землей во время конфликта. Может, такова и его судьба.
— Вот что сказал каудильо, когда обнародовал свои планы. Цитирую…
Капитан расправил плечи и стал говорить еще более пафосно. Ирония заключалась в том, что его голос был намного более глубоким и мужественным, чем у Франко, чей тоненький задыхающийся голосок был всем знаком.
— «Я хочу, чтобы это место имело величие древних святынь… стало местом успокоения и размышления, где будущие поколения смогут отдать дать уважения тем, кто сделал Испанию лучше…»
Он, как молитву, нараспев произносил слова Франко, но вскоре его тон стал резче.
— Место, которое вы должны возвести, — Долина Павших. Этим монументом мы почтим память тысяч людей, которые погибли на войне, чтобы спасти нашу страну от грязных красных — коммунистов, анархистов, членов профсоюза…
Капитан говорил на повышенных тонах. Он довел себя до такого неистовства, что фуражка зашаталась, а на шее вздулись вены. Его истерику едва ли можно было остановить. Те, кто стоял к нему ближе всего, почувствовали, как ядовитая слюна слетела с его губ, когда он произнес последние слова. Он почти кричал, хотя в этом не было необходимости, учитывая, что слушающие хранили мертвую тишину.
До каждого доходили слухи об этом плане. Они убедились, что находятся в Куалгамурос, недалеко от Мадрида и совсем рядом с Эскориалом[88] — местом захоронения королей. У Франко явно была особая цель в этом проекте. Хотя этим памятником он хотел почтить память солдат, погибших ради него, главным образом это будет мавзолей самого Франко. Капитан-фанатик закончил свое обращение. Он поручил подчиненным развести заключенных по лачугам.
— Теперь мы знаем, зачем нас сюда привезли… — сказал старик, находившийся все путешествие рядом с Антонио. — Это лучше, чем быть запертым в четырех стенах.
Слова старика вдохновили некоторых заключенных, хотя были и другие, кому его веселый голос действовал на нервы. После всех этих месяцев и даже лет, проведенных в невзгодах, казалось невероятным, что у кого-то в голосе совсем не слышится горечи.
— Да, создается впечатление, что мы еще полюбуемся солнышком, — ответил Антонио, стараясь говорить убедительно.
Лачуга, которая теперь должна была стать их домом, совершенно не походила на тюремную камеру, где они целыми днями были заперты в помещении без окон, а единственным источником света была электрическая лампочка, которая горела двадцать четыре часа в сутки. В лачуге тоже было грязно, но по крайней мере имелись окна во всю стену с одной стороны и два ряда из двадцати коек с широкими проходами между ними.
— Не так уж и плохо, верно?
В какофонии голосов тысячи мужчин, собравшихся на поросшей низким кустарником земле возле лачуг в ожидании дальнейших инструкций, веселый голос старика раздражал Антонио. Как некоторые могут излучать веселье, когда окружающий мир, кажется, рушится на куски?
На матрасах из соломы лежала коричневая форма; заключенным приказали переодеться.
— Таких, как я, тут двое поместится, — сказал семидесятилетний старик, закатывая рукава и брюки. Он выглядел нелепо. — К счастью, здесь нет зеркала.
Старик был прав. Он выглядел смешно, как ребенок в отцовской одежде. Впервые за несколько месяцев Антонио улыбнулся. Его охватило незнакомое чувство — он перестал смеяться много месяцев назад.
— Как вам удается постоянно быть таким жизнерадостным? — поинтересовался он, пытаясь застегнуть пуговицы на собственной рубашке. Окоченевшие пальцы не слушались.
— А какой смысл грустить? — начал старик. Его скрюченные артритом пальцы тоже едва справлялись с нелегкой задачей. — Что мы можем сделать? Ничего. Мы бессильны.
Антонио подумал минуту, прежде чем ответить.
— Сопротивляться? Убежать? — предложил он.
— Ты, как и я, прекрасно знаешь, что случается с теми, кто пробует бежать. Их уничтожают. Полностью. — Он произнес последние слова с ударением. Его тон внезапно изменился. — Для меня важно оставаться человеком. Для других — сражаться до последнего вздоха. Мое сопротивление фашистам состоит в том, что я иду с ними, улыбаюсь, показываю им, что они не могут поймать мою душу, мое естество.
Ответ удивил Антонио. Он не ожидал ничего подобного. Как и все, кто находился в вагонах для скота, этот старик был похож на рабочего-бедняка. По сути, еще беднее. Ему даже не принадлежала одежда, что была сейчас на нем. Хотя за его акцентом и построением фраз скрывалось нечто большее.
— И это срабатывает? — поинтересовался Антонио. — Ваш подход?
— Пока да, — ответил старик. — Я не верю в Бога. Можно сказать, что я уже много лет атеист. Поверь мне, вера в то, что ты можешь защитить свою суть, дает силы, чтобы выжить.
Антонио взглянул через плечо старика на двухсот человек, которые превратились в бесформенную людскую массу в обмундировании цвета навоза. Это была аморфная толпа, где люди лишились индивидуальности, но среди них были доктора, адвокаты, университетские профессора и писатели. Может, этот старик один из таких?
— А чем вы занимались до… этого? — спросил Антонио.
— Я профессор философии в Мадридском университете, — без колебаний ответил он, намеренно используя настоящее время. И продолжал, обрадовавшись вниманию Антонио. — Посмотри, как много людей покончили жизнь самоубийством. Тысячи. В этом великая победа фашистов, да? Еще один заключенный отправился к праотцам — на один рот меньше кормить.
Мужчина был настолько прагматичным, настолько реалистичным в отношении сложившейся ситуации, что его слова почти убедили Антонио. Он сам стал свидетелем нескольких самоубийств. А самое страшное случилось всего несколько дней назад в Фигуэрес, перед тем как их отправили сюда. Какой-то человек подпрыгнул, чтобы схватить свисавшую с потолка лампочку, и, прежде чем его смогли остановить его друзья или сами фашисты, он разбил лампочку о край стула и воткнул зазубренные края стекла себе в вены.
Наконец пришли надзиратели и убрали его тело. Они и раньше такое видели. Можно было бы укоротить шнур, но это слишком много хлопот…
— Что ж, — сказал университетский профессор, сжимая круглую шапку, лежавшую сверху на форме. — Думаю, мы должны начинать работать.
На мгновение он заразил Антонио своим энтузиазмом.
— Видишь это? — сказал он, указывая на шапку. Буква «Т», написанная на ней, означала «Trabajos Forzados» — «Принудительные работы». В ней он чувствовал себя рабом.
— Да, — ответил Антонио. — Вижу.
— Они могут поработить мое тело, — продолжал профессор, — но не сломят мой дух.
У каждого была своя причина, чтобы выжить, и этот человек, казалось, нашел свою.
Сейчас в комнате никого не было. Несмотря на пустые желудки, люди должны были сегодня приняться за работу. До наступления темноты оставалось два часа, поработители не хотели терять драгоценного времени.
Двигаясь гуськом через густой лес, вновь прибывшие достигли края стройплощадки. Когда они вышли на открытое пространство, масштаб увиденного поверг их в шок.
Тысячи тысяч мужчин работали группами. Движение не прерывалось, было хорошо налажено и организовано. Становилось ясно, что они занимаются тяжелым, колоссальным, непрерывным трудом. Двигаясь в одном направлении, они несли груз, а потом возвращались за очередной ношей, словно муравьи, снующие к муравейнику и обратно.
Группу Антонио отвели к огромному открытому склону горы. На первый взгляд показалось, что они должны буквально сдвинуть гору. Стоял оглушительный грохот. Время от времени изнутри раздавалось громыхание. Стало ясно, чего от них ожидают. В этой огромной скале была выдолблена гигантская дыра. В какофонии звуков невозможно было расслышать приказы. Перед ними лежала груда камней. Несколько человек работали киркомотыгами, чтобы разбить их. Повсюду летали осколки камней. Остальные мужчины поднимали глыбы голыми руками и уносили прочь. Зачастую раздавался крик, следовало суровое наказание, взмах хлыста. Это был настоящий ад.
Вскоре надежды Антонио на то, что работа на свежем воздухе позволит заключенным хотя бы видеть небо, растаяли. Воздух был непроницаемым от пыли. Даже иллюзия свободы, замаячившая перед ними сегодня, исчезла. Одной рукой фашисты давали, а другой забирали.
Глава тридцать третья
Пока Антонио рыл Франко могилу, Конча Рамирес управляла «Бочкой», решительно настроенная не дать зачахнуть семейному делу. Как и каждый, кто находился по другую сторону конфликта, она страдала от позора, что ее муж и сын находятся в тюрьме. Конче постоянно досаждали власти, кафе и квартиру частенько обыскивали. Это была обычная тактика запугивания, но женщина ничего не могла сделать, чтобы им помешать. Многие в ее положении обнаруживали, что их дети не могут получить ничего, кроме низкооплачиваемой работы, а другие, попытавшиеся вернуться домой после того, как сражались за Республику, были тут же взяты под стражу. В этом месяце расстреляли одного из братьев Пакиты.
Однажды в четверг, через несколько месяцев после того, как Франко объявил о своей победе, Конча была на кухне и услышала звук открываемой двери. День был суматошный.
«Припозднившийся посетитель, — с досадой подумала она. — Надеюсь, заказывать обед не будут».
Она поспешила в бар, чтобы сообщить опоздавшему, что обеды больше не подаются, и остановилась как вкопанная. Она попыталась вымолвить хоть слово, позвать по имени, но слова застряли в горле. Во рту пересохло.
Несмотря на запавшие глаза и незнакомую сгорбленную осанку, она бы тут же узнала этого человека в многотысячной толпе.
— Пабло, — беззвучно прошептала Конча.
Он стоял в кафе, ухватившись рукой за спинку стула. Он не мог ни говорить, ни двигаться. Все силы до последней капли, вся его воля ушла на то, чтобы добраться домой. Конча бросилась к мужу и заключила в объятия.
— Пабло, — шептала она. — Это ты… Глазам своим не верю.
Это была чистая правда. Внезапно Конча Рамирес перестала доверять собственным чувствам. Неужели эта бледная тень — ее муж? На какое-то мгновение ей показалось, что это хрупкое бестелесное создание, которое она обнимала, — лишь плод ее воображения. Возможно, Пабло в конце концов казнили и ей явился его дух. В ее воображении все казалось возможным.
Его молчание не успокоило Кончу.
— Скажи мне, что это ты, — настаивала она.
Теперь старик опустился на стул. Он так ослаб от голода и изнемог, что ноги больше его не держали.
Впервые за все время, глядя в глаза жены полными слез глазами, он заговорил:
— Да, Конча. Это я. Пабло.
Держа обе его руки в ладонях, женщина заплакала. Она качала головой, не веря собственным ушам и глазам.
Так они просидели целый час. Никто не входил в кафе — был «мертвый час».
Наконец они встали. Конча повела мужа в спальню. Пабло опустился на краешек кровати, на левый бок. Эта кровать так долго пустовала… Жена помогла ему раздеться, сняла его рваную одежду, которая висела на нем мешком, и постаралась скрыть шок при виде его худобы. Она не узнавала его тело. Конча отбросила покрывало и помогла мужу лечь в постель. От непривычной прохлады простыней он промерз до костей. Конча легла рядом с ним, обняла, согревая своим телом, пока он не начал весь гореть. Несколько часов они проспали, два худеньких тела сплелись, как ветви виноградной лозы. В кафе входили и выходили люди, озадаченные и немного обеспокоенные отсутствием Кончи.
Проснувшись, Пабло спросил о Мерседес и Антонио. Конча со страхом ожидала этого момента, она вынуждена была сказать, что знала: Антонио сейчас в тюрьме, а от Мерседес вестей нет.
Целый день они ломали голову, почему Пабло освободили. Это было как гром среди ясного неба. Однажды вечером во время ежедневного зачитывания списка смертников его отозвали в сторону и сказали, что он тоже покидает стены тюрьмы. Что за ужасная шутка? Его сердце затрепетало от ужаса. Он был не в состоянии задавать вопросы, опасаясь, что любые слова с его стороны могут стоить ему помилования.
Имея в наличии все необходимые документы, подтверждающие его освобождение, он направился домой в Гранаду, на попутках и пешком. Дорога заняла у него три дня. И все время Пабло дивился: почему именно он?
— Эльвира, — сказала Конча. — Думаю, она приложила к этому руку.
— Эльвира?
— Эльвира Дельгадо. Ты должен ее помнить. Жена матадора. — Конча запнулась.
Пабло, казалось, многое забыл, многие подробности своей жизни до ареста. За последние сутки Конча заметила ничего не выражающий взгляд мужа, он ее встревожил. Как будто какая-то часть Пабло осталась там, в тюремной камере и не вернулась в Гранаду.
Она, не смущаясь, продолжала:
— Она была любовницей Игнасио. Думаю, она использовала свое влияние и заставила мужа похлопотать за тебя. Другого объяснения я найти не могу.
Пабло, казалось, задумался. Он совершенно не помнил женщину, про которую рассказывала Конча.
— Знаешь, — наконец произнес он. — Не важно, почему и как это произошло.
Конча была права. Пабло отпустили благодаря вмешательству Эльвиры Дельгадо, но и речи не могло быть о том, чтобы найти ее и поблагодарить. Любой намек на ее участие скомпрометировал бы и ее, и Рамиресов. Много месяцев спустя Конча случайно встретила Эльвиру на Плаза де ла Тринидад. Конча сразу ее узнала, поскольку снимки Эльвиры часто печатались в «Эль Идеаль», но, даже если бы она не заметила мелькнувшее знакомое лицо, яркая красотка в красном пальто, сшитом на заказ и экстравагантно отделанном мехом, заставила бы оглянуться кого угодно. Люди и впрямь оборачивались красавице вслед. Пухлые губы женщины были накрашены помадой в тон ее алому одеянию, а черные волосы, собранные на макушке, были такими же блестящими, как и мех норки у нее на воротнике.
Когда Эльвира приблизилась, сердце Кончи учащенно забилось. Для матери было непривычно встретиться лицом к лицу с прелестницей, соблазнившей ее сына, и осознать силу женской чувственности. Конча не удивилась, что Игнасио, рискуя всем, решил быть с Эльвирой, поскольку, когда женщина подошла ближе, мать заметила ее идеально гладкую кожу, уловила тонкий аромат духов. Конча боролась с искушением заговорить с Эльвирой, но походка молодой женщины была решительной и целеустремленной. Эльвира намеренно смотрела только прямо перед собой. Она не была похожа на тех людей, которые любят, когда с ними заговаривают на улице. В горле у Кончи застрял огромный комок, когда она вспомнила своего красавца сына.
Пабло мало рассказывал жене о своем пребывании в тюрьме. Да в этом и не было необходимости. Она сама могла представить все ужасы по морщинам на его лице и рубцам на спине. Вся история его физических и душевных страданий была запечатлена на его теле.
Он молчал не только потому, что хотел забыть эти четыре года в тюрьме. Пабло также верил, что чем меньше он будет рассказывать, тем меньше его жена будет думать о том, что пришлось вынести Эмилио перед смертью. Тюремные надзиратели очень изобретательны в своей жестокости, а все самое ужасное они приберегают для гомосексуалистов. Лучше пусть она об этом не думает.
Больше всего Пабло ненавидел звук колоколов.
— Этот звук, — стонал он, обхватывая голову руками. — Хоть бы их кто-нибудь снял.
— Но это же церковные колокола, Пабло. Они висят там много лет и еще провисят неизвестно сколько.
— Да, но некоторые церкви сожгли, разве нет? Почему не сожгли и эту?
В соседней церкви Святой Анны они венчались и двое их старших сыновей приняли первое причастие. Церковь была местом счастливых и значительных событий, но Пабло больше не мог выносить звук ее колоколов. В тюрьме причастность священника к мучениям заключенных делала его таким же преступником, какими были надзиратели. Злорадное, циничное предложение священника соборовать приговоренных перед смертью привело к тому, что вся тюрьма стала презирать его больше всех. Теперь Пабло ненавидел все, что было связано с католической церковью.
В последней тюрьме, где он провел целый год, его камера находилась в тени звонницы. Колокольный звон раздавался каждую ночь, прерывая драгоценные минуты сна, напоминая о безжалостном течении времени.
По утрам, просыпаясь и обнаруживая возле себя Пабло, Конча ликовала. Его присутствие неизменно удивляло и радовало ее, а за прошедшие месяцы она заметила, что у него прибавилось сил и энергии.
Через месяц после возвращения Пабло пришло письмо. Оно было кратким, лаконичным.
Дорогая мама!
Я переехал в другую часть Испании, моей прославленной родины. Я не скоро вернусь к тебе, поскольку работаю над особым проектом для каудильо, помогаю отстраивать заново нашу страну. Я в Куалгамурос. Как только я получу разрешение, сразу же приглашу тебя в гости.
Твой любящий сын Антонио
— Что это значит? — спросила Конча. — Что это значит на самом деле?
Сжатое изложение и формальный тон явно свидетельствовали о том, что Антонио что-то скрывает. В том, как он величал Франко каудильо, великим лидером, чувствовалась ирония. Антонио никогда бы не назвал так диктатора, только по принуждению. По всему письму было видно, что автор отлично понимал, что оно подвергнется цензуре.
Пабло прочитал письмо. Странно, что сын ни словом не упомянул об отце. Как будто его и нет.
— Он не упоминает тебя, поскольку думает, что ты в тюрьме, — объяснила Конча. — Так безопаснее. Лучше не привлекать к себе внимание тем фактом, что у тебя родственники в тюрьме…
— Знаю, ты права. Они могли бы использовать это как предлог, чтобы помучить его.
Они еще немного поломали себе голову над тем, что осталось между строк. Интересно, что это за «особый проект»? Им лишь удалось выяснить, что их сын находится в трудовом лагере, став одним из сотен тысяч мужчин, которых силой заставили работать на благо нового тиранического режима Испании.
— Если он работает, то по крайней мере фашисты заинтересованы в том, чтобы он остался жив, — заметила Конча, ради мужа стараясь, чтобы ее голос звучал оптимистично.
— Да, поживем — увидим. Может, он скоро опять напишет и расскажет нам больше.
Никто из них не признался, что в животе похолодело от тревоги. Они сели писать ответ.
Антонио переполнила радость, когда он получил конверт с маркой из Гранады. Слезы навернулись ему на глаза после того, как он прочел, что отца освободили из тюрьмы, а когда дошел до предложения, в котором мама обещала приехать его проведать, ему показалось, что сердце вот-вот разорвется. Рабочим в Куалгамуросе разрешалось видеться с родственниками, и некоторые семьи даже перебрались жить поближе. Конче может понадобиться несколько месяцев, чтобы приехать, но сама мысль о встрече согревала и родителей, и сына.
Глава тридцать четвертая
Антонио прислал ответ. В своем втором письме он описал подробнее, что на самом деле строил, и даже отослал родителям немного денег. Чтобы придать проекту хоть какую-то законность, рабочим выдавали жалованье, пусть и скудное.
— Есть в этом определенная доля садизма, когда тебя заставляют возводить мемориал своим врагам, — сказал Пабло. — Злая шутка.
К этому времени Антонио уже почти привык к новому образу жизни. Он был сильным и мог поднять любой груз, но испытывал сильную тоску. Смерть и травмы были в горах обычным делом, все новых и новых рабочих присылали вместо убитых и искалеченных.
Однажды Антонио дали новое задание. Такого страха он еще не испытывал. Он стерпел бы самые ужасные условия жизни, стерпел бы и такую боль, которая способна была довести любого до ручки, но перед беспричинным страхом оказаться в горной ловушке оказался бессилен. С клаустрофобией он справиться не мог.
Те, кому давали задание идти на горную выработку, шли к месту своей работы в полной темноте. Чем дальше они шли, тем ниже падала температура тела Антонио. Он весь покрывался холодным потом. Впервые за несколько лет нечеловеческих страданий ему приходилось сдерживать слезы. Его страх был иррациональным. И не темнота пугала его до безумия, а гнетущее чувство давящей на тебя горы. Поэтому еще до начала взрывов ему постоянно приходилось сдерживаться, чтобы не закричать. Но иногда, когда камни падали прямо перед ногами, он позволял себе орать от ужаса и безысходности. Слезы смешивались с грязным потом и капали прямо на ботинки.
Гранит был прочным, но каждый день они все больше погружались в темноту. «Только человек, страдающий манией величия, может задумать такую пещеру», — подумал Антонио. Она была не меньше, чем подземный собор, возведенный руками человека. Иногда по утрам ему приходило в голову, что есть в этом какая-то тайна. Прежде чем начинать бурить и стучать, он пытался представить, что идет в какое-нибудь мирное место, например в церковь, но вскоре клаустрофобия вновь овладевала им. Антонио воображал, что идет к самому центру земли, откуда, вероятно, уже никогда не вернется.
Он без конца повторял себе, что скоро выйдет наружу, но без света и часов не знал, когда именно. Наконец он возвращался по своим следам, но каждый день казался ему целой вечностью.
Проходили недели, месяцы. Строительство двигалось медленно. Они, казалось, только чуть подрыли горный склон. Рабочие больше узнали об этом великом проекте. Предполагалось закончить строительство за год.
— Похоже, что Франко отправит нас домой на Рождество, — сказал Антонио. — Мы здесь уже около года, верно? И гора все такая же, как и тогда, когда мы приехали!
Он был прав. Пройдет двадцать лет и понадобится двадцать тысяч человек, прежде чем монумент будет закончен.
Каждую неделю умирало много рабочих, они погибали во время взрывов, их раздавливали камни или убивал электрический ток. Большинство из тех, кто работал в горах, подстерегала ужасная болезнь: когда они сверлили и били лопатой по горной породе, в воздух поднималась пыль, и, хотя они прикрывали лица масками, микроскопические частицы кварца все равно оседали в легких.
Работа была изнуряющей, команды рабочих постоянно менялись. Трудно было завязать дружбу. Изредка некоторым заключенным даровали свободу, но остальным везло меньше. Профессора увезли всего лишь через несколько недель после их прибытия в Куалгамурос. Оказалось, что его обвиняли во множестве фиктивных преступлений против государства, самое страшное из которых заключалось в том, что он — образованный еврей. Даже когда его на рассвете забирали из лачуги, он улыбнулся Антонио.
— Не беспокойся, — сказал он. — По крайней мере, меня не везут в Маутхаузен[89].
Профессор Диас провел целый год во Франции, оккупированной немцами. Многих евреев сгоняли в печально известные концентрационные лагеря. Антонио безмерно восхищался Диасом. Только одного его в этом забытом Богом месте он мог назвать своим другом. Даже если сам Диас стоически примет расстрел, Антонио страшился подобной перспективы.
С тех пор Антонио не заводил новых друзей. В конце каждого дня он, совершенно измученный, с закрытыми глазами лежал на соломенном матрасе. Только собственное развитое воображение спасало его от безумия. Он изо всех сил старался абстрагироваться от этого места, нуждаясь в простых знакомых образах. Он не думал о женщинах. Сексуальное желание казалось теперь далеким воспоминанием. Обычно он воображал, как сидит за столом с Франсиско и Сальвадором, вокруг витает соблазнительный аромат бренди, слышатся чьи-то разговоры, на языке тает сладкий polvorn[90]. Здесь никто не мог его потревожить. Наконец он засыпал.
Первым, кто заметил, что с Антонио что-то не так, был мужчина, который спал на соседней койке.
— Я не знаю, кашляешь ли ты в течение дня. Днем слишком шумно, чтобы обратить на это внимание, но ты кашляешь всю ночь. Каждую ночь.
Антонио почувствовал нотку раздражения в его голосе.
— Твой кашель не дает мне спать, — пожаловался сосед.
— Извини. Попытаюсь не кашлять, но я же не могу контролировать себя во сне…
Атмосфера в закрытой прокуренной лачуге способствовала размножению бактерий, как и сырость в Гуадарраме. И Антонио был не единственный, кто часами ворочался и метался на кровати в темноте.
Несколько недель спустя и сам Антонио перестал спать. Всю ночь он потел, и однажды, закашлявшись, он увидел, что его ладонь испачкана кровью. Его мучили боли в груди.
Антонио был одним из многих, кто подхватил силикоз[91]. Он ненавидел гору, которая своими частичками проникла внутрь его тела.
Больным не делалось никаких скидок, и многие работали, пока просто не падали с ног. Антонио собирался работать до последнего, но однажды тело перестало его слушаться. Сутками он не мог встать с влажной от пота постели. Он не испытывал умиротворения, которое спускается на человека перед встречей с Господом, и даже в полузабытье единственное, что он ощущал, — злость и чувство разочарования.
Однажды ночью ему привиделась мама. В голове Антонио всплыли отдаленные воспоминания, что он получил от нее письмо, в котором она написала, что собирается приехать. Неужели это она стоит перед ним? Неужели это ее темные волосы и нежная улыбка? Он ощущал покой, но ангелы не спустились к нему с небес, и, даже будучи в полубессознательном состоянии, он понимал, что покидает этот мир. Священник, иногда исповедовавший таких людей в последнюю минуту их жизни, не удосужился прийти. Антонио, по мнению властей, все равно не попал бы на небеса.
Наконец после нескольких часов бессознательного состояния он ощутил самую ужасную, тягостную грусть. Глаза наполнились слезами, он весь взмок от пота и горя — мир ускользал от него. Смерть накрывала его, как огромная волна, и ничто не могло ее остановить.
Весь прошлый год Хавьер Монтеро прожил всего в нескольких метрах от Антонио, но оба даже не подозревали об этом. Вместе с отцом их схватили в Малаге, когда город в феврале 1936 года был захвачен фашистами, и всю войну он просидел в тюрьме. Единственным его преступлением было то, что он цыган и уже по определению ненадежный элемент. Их с Антонио пути сотни раз чуть не пересеклись, но оба настолько согнулись под тяжестью лишений, что редко смотрели по сторонам. Минувшие годы не прошли бесследно для них обоих.
Хавьер находился в группе людей, чьей печальной обязанностью было хоронить умерших. Временами он замечал, что его некогда красивые руки, теперь сжимавшие лопату, кровоточат, покрытые мозолями и исцарапанные гранитными осколками. Прошло четыре года с тех пор, как его тонкие пальцы в последний раз касались струн гитары. Столько же он не слышал звуков музыки.
— Знаешь, может, нам еще повезло, — сказал его приятель могильщик, разрыхляя киркомотыгой затвердевшую землю. — Земля мягче гранита.
— Возможно, ты и прав, — ответил Хавьер.
Они взяли труп и опустили в могилу. Накрыть было нечем, и земля с лопаты Хавьера падала прямо на лицо умершего. Это и стало соборованием Антонио. Среди этих холмов не место церемониям.
Никто из могильщиков на тело не взглянул, но оба несколько минут помолчали. Это все, что они могли сделать для покойного.
Несколькими днями ранее Конча отправилась из Гранады в Куалгамурос, как и обещала. На входе ей необходимо было зарегистрироваться, и затем, уладив формальности, она направилась к небольшому зданию. Вокруг тянулись длинные ряды бараков.
Она назвала полное имя Антонио, и сержант пробежал пальцем вниз по списку с именами рабочих. Список был огромным, и она покорно ждала, пока он переворачивал страницу за страницей. Он скучающе вздохнул. Хотя Конча не могла прочитать ни одного имени вверх ногами, зато заметила, что некоторые имена были вычеркнуты.
Затем его палец остановился на середине страницы.
— Умер, — безучастно сообщил он. — На прошлой неделе. Силикоз.
Сердце Кончи остановилось. Его слова были словно удар ножа.
— Спасибо, — вежливо поблагодарила она. Она не намерена была показывать свою слабость перед этим человеком, поэтому, не оглядываясь, побрела куда глаза глядят.
Было пять часов, и некоторые рабочие вернулись в бараки после двенадцатичасовой смены. Хавьер выглянул в окно. Он заметил женщину. Не считая жен рабочих, которые иногда жили недалеко отсюда, женщины были здесь редкостью. Но лицо показалось ему знакомым, что и заставило его посмотреть снова. Он выскочил из барака и поспешил за женщиной.
Она шла медленно, поэтому ему не составило труда догнать ее.
— Извините, — сказал он, чуть касаясь ее руки.
Конча была уверена, что это караульный хочет сделать ей замечание, что она разгуливает по запретной зоне. Она остановилась, не чувствуя ничего, даже страха.
Хавьер не ошибся. Хотя ее волосы посеребрила седина, она не очень изменилась.
— Сеньора Рамирес, — позвал он.
Конче понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что за костлявое создание стоит перед ней. Он стал совсем другим, но огромные проницательные глаза остались такими же.
— Это я. Хавьер Монтеро.
— Да-да, — ответила Конча так тихо, что даже пение птицы заглушило бы ее голос. — Знаю…
— Что вы здесь делаете? — спросил он.
Первое, что пришло ему на ум: сеньора Рамирес узнала, что он здесь, и приехала передать привет от Мерседес.
— Я приехала к Антонио, — ответила она.
— Антонио! Он здесь?
Сердце Кончи сжалось. Она не могла ответить, но слезы, побежавшие по щекам, говорили сами за себя.
Они постояли, помолчали. Хавьер ощутил неловкость. Он хотел обнять сеньору Рамирес, как сын, но это казалось не очень уместным. Ах, если бы он мог хоть как-то ее утешить!
Темнело. Конча знала, что скоро ей придется уезжать. Она должна выехать до наступления ночи. Когда слезы высохли, она заговорила. Перед отъездом она хотела сделать еще кое-что.
— Думаю, что ты не знаешь, где он похоронен. Я бы хотела сходить туда перед отъездом, — сказала она, стараясь, насколько возможно, сохранять самообладание.
Хавьер взял ее за руку и осторожно повел к кладбищу, которое находилось в нескольких сотнях метров за баракам. На поляне между деревьями она по свежей земле без труда могла определить, где недавно копали: здесь земля была мягкой, как пашня. Они подошли к этому месту, и Конча несколько секунд постояла, закрыв глаза, пока ее губы двигались в беззвучной молитве. Хавьер молчал, так как понял, что это он хоронил Антонио. Даже звук его дыхания здесь казался неуместным.
Наконец Конча взглянула на парня.
— Я должна идти, — решительно сказала она.
Хавьер снова взял ее за руку. По дороге к воротам они встретили нескольких рабочих, бросивших на них недоуменные взгляды. Его снедало желание задать сеньоре Рамирес вопрос, он не мог вот так проститься с ней.
— Мерседес…
Конча за последние несколько часов почти забыла о дочери. Но она понимала, что рано или поздно наступит момент, когда придется рассказать Хавьеру, что Мерседес уехала искать его и так и не вернулась.
— Я не могу тебе врать, — сказала она, взяв его руку. — Но если я что-то узнаю о ней, я сразу же тебе напишу.
Теперь Хавьер не знал, что сказать.
Услышав металлический лязг закрывающихся за ней ворот, Конча вздрогнула. Закутавшись в пальто, она поспешила прочь. Несмотря на то что здесь был похоронен ее сын, ей захотелось побыстрее уйти отсюда.
Однажды над горной вершиной в небо взметнется огромный крест высотой сто пятьдесят метров: величественный, надменный и непобедимый. У основания воздвигнут коленопреклоненные фигуры святых — их установят над могилой Франко. И временами длинная тень, отброшенная этим крестом, будет касаться леса, где в безвестной могиле покоится тело Антонио.
Глава тридцать пятая
Гранада, 2001 год
На площади за «Бочкой» тени стали длиннее, когда замерли слова Мигеля. Соня уже и забыла, где находится. Услышанное ее поразило.
— Но как все это могло произойти с одной семьей? — спросила она.
— Не только с семьей Рамирес, — ответил Мигель. — Они не были исключением. Даже наоборот. Пострадала каждая республиканская семья.