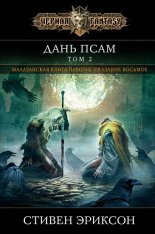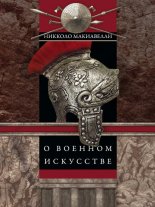Возвращение Хислоп Виктория

В Хараме националисты планировали захватить дорогу, ведущую к Валенсии. Шестого февраля они неожиданно напали на республиканцев. С немецкими танками и самолетами сорокатысячная армия Франко, включая иностранных легионеров, самых жестоких из всех солдат, начала наступательную операцию. Пока республиканцы собрались с силами, были захвачены стратегические высоты и мосты. Советские танки немного задержали наступление, но националисты продолжали двигаться вперед, республиканцы уже несли огромные потери, когда прибыли трое друзей из Гранады.
Добравшись до передовой, они ожидали, что их тут же бросят в бой. Они стояли возле грузовика, на котором приехали, и осматривались. Пейзаж мало чем напоминал поле битвы. Они увидели ухоженные виноградники, ряды оливковых деревьев, низкие холмы и заросли утесника и чабреца.
— Не больно тут спрячешься… — заявил Франсиско.
Он был прав, и, прежде чем им дали в руки оружие, они оказались среди тех, кого послали рыть окопы. Старые двери, вынесенные с развалин разрушенной бомбами соседней деревушки, использовали, чтобы укрепить стены окопов. Франсиско с Антонио работали вместе, стоя в котловане, пока другие передавали им вниз двери. На некоторых до сих пор остались гладкие медные ручки, на других можно было различить написанный краской номер.
— Интересно, что произошло с людьми, которые жили за этой дверью? — пробормотал Антонио. Когда-то дверь охраняла частную жизнь ее владельцев, но сейчас их дом, вероятно, был открыт всем ветрам.
Они рыли траншеи ниже оливковой рощи на склоне холма над рекой Харамой и ждали, когда же смогут ощутить вкус сражения. Пока они лишь укрепляли окопы, эта война не вызывала ничего, кроме скуки. Днем земля была слишком сырой, а ночью невозможно было заснуть; здесь впервые они подхватили вшей, которые будут досаждать им многие месяцы. Непреодолимое, постоянное желание почесаться будет одолевать их и днем, и ночью.
— Сколько это продлится? Как думаешь? — прошептал Франсиско.
— Что именно?
— Это. Это ожидание. Это бездействие.
— Кто знает… Не от нас зависит.
— Но мы бездействуем уже несколько дней. Я этого не вынесу. В Гранаде от меня было больше толку. Не думаю, что останусь тут бить баклуши.
— У тебя нет выбора. Если попытаешься сбежать, тебя свои же и пристрелят. Даже не думай об этом.
Какое-то время они были заняты тем, что писали письма родным и играли в шахматы.
— Бессмысленно писать письма, — заметил Антонио с несвойственной ему угрюмостью, — если адресата может не оказаться в живых, когда оно придет.
Он адресовал свои письма тете Розите в надежде, что она сохранит их для Кончи. Посылать письма матери напрямую было слишком опасно. Он надеялся, что она жива и здорова и что ей удалось навестить отца. Он молился о том, чтобы Мерседес нашла Хавьера или вернулась домой. Шестнадцатилетней девушке небезопасно бродить в одиночестве.
— Я даже не знаю, жива ли моя мама, — сказал Франсиско, складывая пополам готовое к отправке письмо. — Может, когда оно дойдет, я уже умру. От тоски.
Антонио пытался поднять другу настроение, хотя его самого терзало разочарование. Утомительное ожидание сводило всех с ума.
Даже если период бездействия казался вечным, он рано или поздно должен был закончиться. Довольно скоро бои вспыхнули с новой силой. Спустя сутки они были на передовой, где беспрестанно строчил пулемет, свистели снаряды, и команда «Fuego!»[68] разогнала их скуку.
Внезапно был отдан приказ занять ближайшую высоту. Пока они сидели в окопах у подножия холма, несколько батальонов националистов захватили холм и пошли на них в атаку.
В тот момент, когда они уже почти могли разглядеть белки глаз противника, был отдан приказ: «Огонь!» Некоторые повернули назад и побежали в укрытие, остальные упали как подкошенные. Пулеметная очередь ненадолго стихла, пока перезаряжали патронную ленту, но националисты еще несколько минут продолжали артобстрел. Нескольким десяткам республиканцев, включая Антонио, был отдан приказ: «В атаку!» Они должны были занять высоту и оттуда вести стрельбу по противнику, но тяжелая артиллерия отбросила их назад. Солдата, находящегося рядом с Антонио, разорвало на куски. Его кровь забрызгала всех в радиусе нескольких метров, сквозь пелену дыма Антонио споткнулся об еще одно тело, которое распласталось на пути. Не зная, жив этот солдат или нет, Антонио отнес его назад в укрытие. Лишь половине подразделения удалось выжить в этот день — так они столкнулись с жестокой реальностью войны. Антонио всю ночь преследовали видения искалеченных тел.
Войска Франко, решительно настроенные выбить из города республиканцев, продолжали наступление на оставшиеся стратегические позиции. Раненых было очень много, включая и идеалистов из интернациональных бригад, — некоторые даже никогда до этого не держали в руках винтовку. Зачастую оружие оказывалось ненадежным — старым и уже отслужившим свой срок, с западавшими затворами или заклинивающими патронами. Тысячи солдат никогда так и не научатся как следует обращаться с ним, потому что их через несколько часов просто убьют. Однажды Антонио насчитал десятки солдат, убитых во время штурма неподалеку от его собственного месторасположения. Эти жертвы казались бессмысленными.
Ход сражения изменился, когда на помощь республиканцам прибыли советские самолеты, они несли реальную угрозу националистическим силам. Под натиском советских истребителей бомбардировщики армии Франко вынуждены были отступить.
В конце февраля сражение закончилось. Обе стороны понесли значительные потери, но войска Франко продвинулись лишь на несколько километров. Каждый сантиметр пыльной земли стоил многих жизней. С точки зрения математики эта битва оказалась бессмысленной, но с точки зрения морали — уверенность республиканцев в собственной победе укрепилась. Сложилась патовая ситуация, но республиканцы считали, что выиграли это сражение.
Франсиско так не считал.
— Наши потери исчисляются тысячами, как и потери Франко. К тому же они продвинулись на несколько километров вперед, — заметил он.
— Но всего лишь на пару километров, Франсиско, — ответил Сальвадор.
— Мне сражение напоминает кровавую бойню, вот и все, — разозлился Франсиско.
Спорить с ним никто не стал. «Кровавая бойня» — точное описание случившегося.
Спустя несколько дней они вернулись в Мадрид. Здесь они могли подстричься, побриться, переодеться, даже поспать на удобной кровати. Несмотря на угрозу налетов с воздуха, жизнь в столице продолжалась. Пару раз появлялся слух, что по соседству с ними находится легендарный лидер коммунистов Долорес Ибаррури. Друзья присоединялись к собравшейся послушать Долорес толпе. Неутомимую Ибаррури, одетую в черное, все знали под псевдонимом La Pasionaria[69]; ее нередко можно было увидеть на улицах Мадрида. Ей всегда удавалось сплотить упавших духом людей.
Когда Антонио впервые увидел точеные черты ее лица, ему показалось, что на него пахнуло чистым воздухом. Они часто слышали ее голос по радио и когда она вещала по громкоговорителю на передовой, но реальная женщина обладала настоящим величием, которое нельзя передать одним голосом. Эта женщина излучала безмерную силу и харизму, распространявшуюся на всю площадь.
Бессознательным жестом, совершенно естественным для испанки, она хлопнула в ладоши. Прежде всего она обращалась к женщинам, напоминая им о жертвах, на которые те обязаны пойти.
— Лучше быть вдовами героев, чем женами трусов! — убеждала она, ее глубокий голос разносился над головами притихшей толпы.
Ее крепкая фигура — кровь с молоком — вдохновляла присутствующих. Они должны все как одна стать такими же сильными, как сама Пасионария.
— No pasarn! — воскликнула она. — Враг не пройдет!
— No pasarn! — вторила толпа. — No pasarn! No pasarn!
Ее твердая уверенность воодушевляла слушающих. Пока они будут стоять, готовые к сопротивлению, фашисты в город не войдут. Сжатый кулак Пасионарии, пронзивший воздух, лишь укреплял их веру, что враг не пройдет. Многие из этих женщин и мужчин были совершенно измучены, испуганы, утратили иллюзии, но ей удалось убедить всех, что борьбу стоит продолжать.
Сальвадор впитывал ее магнетизм и теплую реакцию толпы. Ибаррури стояла слишком далеко от него, чтобы читать по ее губам, но, тем не менее, ей удавалось удерживать внимание Сальвадора.
— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! — убеждала она.
Ни один человек — ни мужчина, ни женщина, ни ребенок — не шелохнулся.
Когда она закончила свое выступление, толпа разошлась.
— Ее слова вселяют надежду, согласны? — проговорил Антонио.
— Да, — ответил Франсиско, — удивительная женщина. Она, как ни странно, заставляет верить в нашу победу.
— Она права, — согласился Антонио. — Мы не должны терять веру.
Глава двадцать четвертая
Несколько дней Мерседес бесцельно блуждала по улицам Альмерии. Она никого не знала в этом городе. Временами перед ней мелькали полузнакомые лица, но это были всего лишь люди, которых она видела в толпе по дороге из Малаги. Это были не друзья, просто люди, такие же, как она сама, оказавшиеся в незнакомом месте, все еще на ногах, с трудом двигающиеся из одной очереди в другую.
Для тех, у кого была семья, остаться в Альмерии оказалось единственным выходом, поскольку идти дальше было выше их сил. Мерседес же меньше всего хотелось задерживаться в этом городе. Она стояла на улице, где околачивалось немало беженцев — чужих друг другу, чужих городу. Даже речи не шло о том, чтобы здесь оставаться.
Перед ней стоял выбор: проще всего было бы вернуться домой, в Гранаду. Она сильно тревожилась за мать и чувствовала уколы совести, что она не там, не с ней. Она скучала по Антонио и знала, что брат сделает все от него зависящее, чтобы успокоить маму. Может, отца освободят из тюрьмы. Ах, если бы она могла об этом как-то узнать!
Ей отчаянно не хватало кафе и своей спальни, где она знала каждую темную ступеньку, каждый оконныйкарниз. Она позволила себе на время расслабиться и предаться воспоминаниям о том, что так любила дома: вспомнила сладкий, не поддающийся описанию аромат, исходивший от мамы, тусклый свет на лестнице, мускусный запах собственной спальни, двери и оконные рамы, покрытые толстым слоем коричневой краски, свою старенькую деревянную кровать с плотным зеленым шерстяным одеялом, которое с незапамятных времен согревало ее по ночам. Ее охватила волна безграничной любви. Все эти милые вещи казались такими далекими в этом разрушенном незнакомом городе. Может, эти мелочи и были самыми главными в ее жизни?
Потом она подумала о Хавьере. Вспомнила, как увидела его в первый раз и как в одно мгновение ее жизнь изменилась. Мерседес ясно вспомнила ту секунду, когда он оторвал свой взгляд от гитары, его ясные глаза с темными длинными ресницами пристально посмотрели на нее в толпе. Он ее не видел, но она помнила воздействие его взгляда. Казалось, что он излучает жар, и она плавилась в нем. После самого первого танца для Хавьера их встречи были подобны камешкам, по которым она пересекала реку. Каждый камешек приближал ее к другому берегу, где, как ей казалось, они никогда больше не разлучатся. Их страсть была взаимной. Расставание с Хавьером причиняло ей тупую ноющую боль, от которой невозможно было избавиться. Болезнь…
Как-то раз, примерно через неделю после гибели Мануэлы, внимание Мерседес привлекли скромные двери церкви. Может, Дева Мария поможет ей решить, куда идти?
За обветшалыми дверями открывалось внутреннее убранство в стиле барокко, но не это удивило ее, поскольку многие церкви имеют едва заметные двери, за которыми открывается величественный интерьер. Больше всего ее поразило количество людей внутри. И совсем не создавалось впечатление, что они пришли сюда в поисках безопасности. В такой неразберихе ни одно церковное здание не могло надеяться на защиту Всевышнего. Церкви были такими же уязвимыми, как и остальные здания, — националисты бомбили их с воздуха, республиканцы сжигали. В проходах и нефах многих церквей располагались воинские подразделения, а на помостах и хорах селились птицы.
Несмотря на потерю веры, мужчины и женщины искали защиты и приюта в этой открытой церкви. Мерседес вспомнила, что когда-то значила для нее религия; прошла целая вечность с тех пор, как она каждую неделю ходила в церковь, чтобы исповедоваться в своих грехах, и много лет с тех пор, как ее привели к первому причастию. Перед иконой Девы Марии горели свечи, а глаза Святой Девы смотрели прямо на Мерседес. «Славься, Мария» — это заклинание раньше лилось из ее уст, как вода из крана. Сейчас она преодолела искушение пропеть молитву на память. Это было похоже на гипноз. Она не верила. Глаза, которые пристально смотрели на нее, были всего лишь маслом на холсте, химическим соединением. Она отвернулась, запах воска защекотал ноздри. Мерседес почти завидовала тем, кто может в подобном месте найти успокоение.
На изгибе апсиды[70] херувимы взлетали в небеса. Некоторые взирали на собравшихся с озорной улыбкой. Под ними сидела Дева Мария, Иисус Христос безжизненно лежал у нее на коленях. Мерседес внимательно изучала икону, пытаясь разглядеть хоть какой-то намек на истинные чувства, но поняла, что художнику не удалось передать ту боль, которую она видела на лице женщины по дороге из Малаги несколько дней назад. Боль матери, которая, как и Дева Мария, баюкала мертвое тело своего ребенка. Было очевидно, что автор этой пьеты[71] никогда не видел настоящих страданий. Его пьета не была достоверной ни на йоту. Это изображение выглядело как насмешка над горем. В каждой маленькой часовне она видела пошлые изображения страданий и горя, и с каждого потолка улыбались пухлые ангелочки.
Уже по дороге от главного алтаря Мерседес наткнулась на гипсовое изваяние Девы Марии в полный рост. Стеклянные слезы блестели на ее гладких щеках, глаза — решительные и голубые, уголки рта немного опущены. Она взирала на Мерседес сквозь прутья затертой капеллы, заключенная туда вместе с маленькой вазочкой с блеклыми бумажными цветами. Тогда как другие искали у этих фигур защиты и надежды, верили, что обретут успокоение, Мерседес такой театральный символизм показался просто нелепым.
Набожные люди стояли у капеллы, преклонив колени, или сидели, повесив головы, в здании церкви. Казалось, все пребывали в мире, только Мерседес была вне себя от злости.
«Какой прок от Господа? — хотелось воскликнуть ей, чтобы разрушить почтительную тишину, царящую в этом величественном храме. — Что он сделал, чтобы защитить нас?»
В реальности Церковь выступала против людей. Многие свои деяния националисты совершали, прикрываясь именем Господа. Несмотря на это, Мерседес видела, что многие жители Альмерии до сих пор тверды в своей вере и надеются, что Дева Мария поможет им. Тем, чьи губы шептали молитвы, даже не надеясь на ответ, Церковь продолжала даровать успокоение. Но Мерседес, которая пришла за наставлением, это казалось просто смешным. Святые и мученики с нарисованной кровью и показными стигматами когда-то были частью и ее жизни. Теперь она считала, что Церковь — это сплошное притворство, сервант, забитый многословными обещаниями.
Она присела и некоторое время смотрела на людей, которые входили и выходили, ставили свечи, шептали молитвы, всматривались в иконы. Интересно, что они чувствуют? Отвечает ли им Господь, когда они молятся? Отвечает сразу или на следующий день, когда они меньше всего ожидают? Неужели эти ледяные глаза святых кажутся им живыми, из плоти и крови? Возможно, что так. Может, эти люди с просящими глазами, полными слез, и крепко сцепленными побелевшими пальцами, видели что-то недоступное ее пониманию, что-то сверхъестественное? Она не могла понять этого ни умом, ни сердцем.
Нет никакого Божественного провидения. В этом она была уверена. Секунду она раздумывала над тем, чтобы помолиться за души усопших, Мануэлы и ее сынишки. Она подумала о них, невинных, безобидных; их смерть только укрепила ее убеждение, что никакого Бога нет.
Осознав это, Мерседес лишилась и веры, и надежды на помощь: решение ей придется принимать самостоятельно. В это мгновение перед глазами девушки возник образ Хавьера, самого красивого в мире мужчины, который был прекраснее, чем любой нарисованный маслом святой. Она почти все время думала о нем. Вероятно, у набожных людей все мысли только о Господе, но для Мерседес богом являлся Хавьер. Она поклонялась ему душой и телом, зная, что он этого достоин.
Тепло церкви, полумрак и сильный мускусный запах свечей убаюкивали Мерседес. Девушка предполагала, что именно уют привлекал сюда людей. Для нее тоже было бы проще остаться здесь, но становилось слишком душно. Мерседес должна была выйти на свежий воздух.
На улице было тихо. В мусоре рылся отчаявшийся пес. Еще один гнался за газетой, страницы которой напоминали грязную птицу, пытающуюся взлететь. Собаки с подозрением посмотрели на Мерседес, на мгновение их глаза вспыхнули голодным огнем. Эти животные, вероятно, не ели несколько дней. В былые времена они жирели на щедрых объедках из ресторана, но сейчас в мусорных корзинах для них не было ничего, даже косточек.
Мерседес теперь была полностью уверена, что ее поймет любой, хоть раз в жизни испытавший непреодолимую силу взаимной любви: она не может вернуться в Гранаду. Она вспомнила слова, с которыми мать провожала ее в дорогу, и рассчитывала, что та не станет осуждать ее за то, что она пошла дальше, а не вернулась домой. Мерседес верила, что Хавьер — ее единственная любовь и, каким бы горьким ни был конец, она обязана его найти. Даже сам процесс поиска и непоколебимая вера в то, что он найдется, притупляли боль разлуки.
Не зная, куда приведут ее ноги, она неспешно брела по улице. У нее было время подумать. Может, она ничем не отличается от людей в церкви. Они «знают», что Бог есть, их вера в чудо Воскрешения была нерушима. У нее была своя вера: она знала, что Хавьер жив. Когда она стояла на тротуаре, решение пришло само собой. Она пойдет на север, слушая свой внутренний голос. У нее была лишь одна зацепка — дядя Хавьера жил в Бильбао. Вероятно, ее любимый там, ждет ее.
Хотя теперь она почти не испытывала страха, путешествовать одной все же было рискованно. Мерседес понимала, что безопаснее ехать в компании. В Альмерии беженцев было не счесть, среди них многие собирались покинуть город. Вот с ними она и могла бы поехать. Решив навести справки, она завязала разговор с двумя женщинами. Сами они планировали на некоторое время остаться в городе, но рассказали Мерседес, что есть одна семья, родители с дочерью, которая вот-вот собирается уезжать.
— Я слышала, что они скоро уедут, — сказала женщина помоложе своей сестре.
— Да, верно. У них родственники где-то на севере, именно туда они и направляются.
— Когда получим свой хлеб, мы найдем их. Тебе нельзя ехать одной. Уверена, в компании гораздо лучше.
В оговоренный час, прижимая к груди свои краюхи хлеба, они поспешили к школе на окраине Альмерии, где эти две женщины обосновались вместе с сотней остальных беженцев. Мерседес было дико видеть классные комнаты, где взрослых теперь было в несколько раз больше, чем детей, а парты и стулья грудой лежали в углу. На полу были разостланы старые одеяла. На стенах все еще висели забавные детские рисунки. Теперь они казались неуместным напоминанием о том, как старый порядок перевернулся с ног на голову.
Сестры нашли место, где они оставили свои пожитки; в этой же комнате сидела и женщина средних лет. Казалось, что она штопает носок, но при ближайшем рассмотрении Мерседес поняла, что та пытается починить свои туфли. Их кожа была настолько тонкой и изношенной, что ее можно было шить обычной иголкой. Кое-как она починила свою обувку. Без туфель далеко не уйдешь.
— Сеньора Дуарте, это Мерседес. Она хочет ехать на север. Может она отправиться с вами?
Женщина продолжала шить. Она даже не подняла глаз.
Мерседес ощупала руками закругленные носки своих танцевальных туфель, лежащих по одной в каждом кармане пальто. Иногда она забывала о них, но они всегда приятно оттягивали ее карманы.
— Мы пока не едем, — ответила сеньора Дуарте, взглянув наконец на Мерседес. — Но, если хочешь, можешь поехать с нами.
Слова были произнесены без намека на теплоту, что уж говорить об искренней радости. Хотя в комнате было душно, Мерседес задрожала всем телом. Она понимала, что людей лишили возможности заботиться об окружающих. Многие повидали ужасные зверства, она прочла это в глазах сеньоры Дуарте. Люди редко интересовались незнакомцами, а иногда и своей семьей.
Несколько минут спустя подошла девушка возраста Мерседес.
— Ну, что-нибудь достала? — спросила мать, даже не взглянув на дочь.
— Столько, сколько дали, — ответила девушка. — Но совсем немного. Едва хватит на одного.
— Но нас трое, включая твоего отца, и четверо, если эта девушка решится поехать с нами, — возразила мать, указав на Мерседес кивком головы.
Мерседес сделала шаг вперед. Женщина, которая ее представила, уже ушла.
— Ваши знакомые сказали мне, что я могу отправиться с вами, поскольку мы едем в одном направлении. Это вас не стеснит?
Мерседес говорила с долей сомнения, опасаясь, что получит такой же холодный прием от дочери, как и от матери.
Девушка смерила ее взглядом с ног до головы без тени подозрения, а только с интересом.
— Конечно, нет. — Говорила она с неподдельной теплотой.
— Пойдем поищем, где это можно приготовить, — сказала она, размахивая пакетиком с чечевицей. — Уверена, мы придумаем, как это сделать. Я вижу, у тебя есть немного хлеба.
Две девушки встали в очередь возле маленькой кухни. Сейчас все привыкли стоять в очередях. Здесь знакомства перерастали в дружбу.
— Прости, кажется, мама была не слишком-то дружелюбна.
— Не стоит. Я же совершенно незнакомый человек. Почему она должна со мной любезничать?
— Раньше она такой не была.
Мерседес взглянула девушке в лицо и увидела свою копию. Это была молодая девушка с глазами старухи, исполненными печали, как будто она уже повидала в жизни немало боли и страданий.
— Все из-за моего брата, Эдуардо. Он шел с тремя друзьями, они выдвинулись вперед, мы отстали. Мамины туфли совсем развалились, каблуки треснули, ноги стали кровоточить. Она не могла идти слишком быстро, а Эдуардо так и горел нетерпением. Во время бомбежки нам удалось спрятаться, а когда самолеты улетели, мы пошли дальше и увидели их. Всех четверых. Мертвых. Лежащих в ряд. Их тела убрали с середины дороги, чтобы людям не нужно было их обходить. Родители остальных еще не видели своих сыновей, мы были первыми.
Мерседес припомнила, что видела эту картину, вполне вероятно, она проходила мимо этого места несколькими минутами ранее.
— Мы опоздали лишь на мгновение. Знаешь, бывает, опаздываешь к кому-то на встречу, а когда приходишь, тебе говорят: «Они только что ушли», — то испытываешь чувство утраты, потери чего-то важного. Вот так и мы, только навсегда. Эдуардо ушел. Мы опоздали лишь на мгновение. Он был еще теплым. Невозможно представить, что его больше нет. Его тело лежало там, но душа уже покинула его.
Слезы заструились по щекам девушки, Мерседес чувствовала всю боль ее утраты. Она вспомнила, как сама увидела безжизненное тело своего брата. Игнасио был мертв уже несколько часов, Мерседес ужаснулась собственной реакции. Это был не ее брат, она вспомнила, что сразу увидела разницу между телом и трупом. Последний напоминал пустую раковину на пляже.
Мерседес не находила нужных слов. По дороге из Малаги она видела сотни смертей, но от этого принять смерть конкретного человека, даже в море всеобщих страданий, никогда не станет легче.
— Мне очень жаль. Какой ужас… ужас.
— Я знаю, они никогда не оправятся от этого удара, никогда. Отец два дня не разговаривал. Мама постоянно плачет. Я должна быть сильнее…
Несколько минут они стояли молча. У самой девушки был такой вид, будто она несколько дней проплакала. Наконец она заговорила.
— Кстати, меня зовут Анна, — представилась она, вытирая глаза.
— А меня — Мерседес.
Больше никто в очереди не прислушивался к их разговору. В истории, которую рассказала Анна, не было ничего необычного в такие непростые времена.
Пока Анна размешивала жидкую кашицу из чечевицы, девушки продолжали беседовать. Мерседес рассказала, что ей необходимо добраться до Бильбао, а Анна объяснила, что родители едут к дяде в деревню на севере страны. Брат ее отца, Эрнесто, никогда не поддерживал республиканцев, а сам отец не придерживался никаких твердых политических взглядов, поэтому убедил маму, что они должны искать себе новый дом, поближе к родственникам. Так будет безопаснее. Он был уверен, что захват Мадрида войсками Франко — вопрос времени, а потом счет пойдет на дни, пока вся страна не окажется в руках националистов. Нужно было преодолеть немалое расстояние, но их дом в Малаге был разрушен, и теперь их возвращение вообще ставилось под сомнение. Отец никогда не был ни членом профсоюза, ни любой другой ассоциации рабочих, поэтому считал себя вправе принимать ту или иную сторону.
Единственной целью Мерседес было найти Хавьера, не важно, на националистской или республиканской территории. Она подозревала, что он, скорее всего, находится на последней, но решила держать свои мысли при себе. Даже сейчас она видела, что умение умалчивать о своих политических убеждениях может сослужить ей хорошую службу. Для нее было довольно и того, что они едут в одном направлении.
— Я буду рада, если ты отправишься с нами. Родители постоянно молчат, а ехать еще далеко. Мне нужна компания.
Когда они вернулись к матери Анны, сеньор Дуарте уже сидел рядом с ней. Он весь вечер простоял в очереди и достал луковицу и полкочана капусты. Последовало знакомство. Сеньор Дуарте вежливо пригласил Мерседес присоединиться к ним.
Хотя на нем не было бинтов или других видимых признаков ранения, Дуарте был похож на раненого: казалось, под грузом горя он вот-вот сломается. Он явно не был расположен к разговорам. Мерседес увидела, что эти люди значительно моложе, чем ей показалось на первый взгляд. Сеньору Дуарте легко можно было принять за бабушку Анны. Неужели смерть единственного сына состарила их на несколько десятков лет?
Сеньора Дуарте стала чуть приветливее, вероятно, потому что Мерседес предложила ей свой кусок хлеба. Они сели плотным кружком, разлили в четыре эмалированные миски суп и разделили на всех хлеб. В комнате находились еще люди, и здесь считалось неприличным показывать, что ты ешь, даже если это были сущие крохи.
— Значит, Мерседес, ты хочешь поехать с нами на север? — уточнил сеньор Дуарте, нарушив молчание, когда они закончили есть.
— Да, хочу, — ответила она. — Если не помешаю.
— Не помешаешь. Но ты должна кое-что понять.
Анна нервно посмотрела на отца. Она не хотела, чтобы он отпугивал ее новую подругу.
— Когда нас остановят, говорить буду я, — резко бросил он Мерседес, пристально глядя на нее своими холодными глазами. — Что касается остальных — вы сестры. Ты меня понимаешь, не так ли?
— Да, понимаю, — ответила она.
Ее было неуютно из-за его манеры разговаривать, но она понимала, что не должна обращать на это внимание. Мать казалась довольно доброй женщиной, и в том, чтобы представляться одной семьей, был свой резон. Чтобы добраться до Бильбао, придется пересечь территорию, оккупированную националистами. Этот факт совершенно не заботил Анну, и Мерседес решила тоже не волноваться по этому поводу.
После скудного ужина девушкам захотелось прогуляться по улице, уйти подальше от переполненного людьми здания. Но едва они собрались уходить, как неожиданно услышали звуки музыки, доносившиеся из класса дальше по коридору. Они пошли на эти звуки. Впервые за несколько недель до их слуха донеслось что-то иное, не грохот войны. Даже если бомбы не падали, а пулеметы не строчили, шум выстрелов все равно постоянно стоял в ушах. Восхитительные плавные звуки арпеджио[72] заставили их сердца биться быстрее. Подруги ускорили шаг.
Они вскоре нашли, откуда лилась музыка, и увидели гитариста, уже окруженного людьми, — его лысая макушка отражала свет единственной лампочки, освещавшей комнату. Он всем телом склонился над инструментом, как будто хотел защитить свою гитару.
Люди выглядывали из всех дверей, расположенных вдоль коридора, и собирались в этой комнате. Дети сидели прямо на полу, глядя на гитариста снизу вверх. За время путешествия из Малаги они утратили свою детскую наивность и теперь, казалось, понимали трагический пафос гитарных аккордов.
Никто не знал, как зовут исполнителя фламенко. Складывалось впечатление, что у него нет семьи. К тому времени, как подошли Мерседес и Анна, некоторые уже аккомпанировали гитаристу тихими хлопками. Его длинные грязные пальцы проворно и легко перебирали струны. Он играл для себя, но временами отрывал взгляд от инструмента и видел все увеличивающуюся толпу. Мерседес ускользнула назад в комнату. Ей понадобилась одна вещь.
Вернувшись, она услышала знакомую мелодию, которая пронзила ее, словно током. Лишь четыре ноты были сыграны в уникальной последовательности, а она уже могла различить эту мелодию среди миллиона остальных. Она значила для Мерседес больше, чем для других зрителей. Солеа. Первый танец, который она исполнила для Хавьера. От грустной мелодии она должна была упасть духом, но вместо этого солеа стала знаком того, что Мерседес снова увидит любимого. От этой мысли ее сердце радостно забилось.
Остальные слушатели тоже узнали напев и стали хлопать в такт. Какое-то время Мерседес держалась в стороне, а потом обнаружила, что почти бессознательно достает из карманов свои танцевальные туфли, обувается, дрожащими руками застегивает пряжки. Мягкая кожа была такой знакомой, такой теплой. Она без колебаний обошла детей, которые сидели всего лишь в метре от гитариста. Когда она подходила, ее металлические набойки цокали по паркету. Дети с восхищением смотрели на девушку, которая закрыла от них музыканта.
Еще год назад предстать перед чужим человеком и показать свою готовность танцевать считалось верхом дерзости, но подобные правила больше не действовали. Что она теряла перед этой публикой, которая не знала ни Мерседес, ни ее семью? Они все здесь были чужими людьми, которые волей судьбы и печальных обстоятельств оказались в одном месте.
Мужчина поднял глаза и широко, ободряюще улыбнулся. Он видел по ее выходу, по позе, по тому, как она держалась, что девушка танцевала уже много раз и знала, как руководить гитаристом.
Она прошептала ему на ухо: «Мы можем начать этот же танец сначала?»
Пока он слушал ее, перебирая струны, его пальцы брали аккорды с виртуозной ловкостью.
Появление этой девушки рядом с ним вернуло его назад, к старой жизни, где вечера протекали с восхитительной непосредственностью. Его часто приглашали на juergas, единственное, что гарантировалось, — неизвестность. Чем закончится вечер, кто сыграет лучше, как будут танцевать женщины, будет ли у собравшихся настроение, duende?
Он улыбнулся девушке. Мерседес и остальным, кто увидел выражение его лица, на мгновение показалось, что в хмурый, грустный день выглянуло солнышко. Подобная теплота стала редкостью в последнее время. Сейчас по вступлению Мерседес поняла, что началась солеа, которую она просила повторить. Девушка начала хлопать в ладоши, сначала легонько, пока не почувствовала, что публика всеми фибрами души ощутила ритм и сердца забились в такт музыке. Некоторые женщины стали хлопать ей в унисон, не сводя глаз с девушки, которая появилась ниоткуда и заняла центр импровизированной сцены. Когда хлопки стали увереннее, Мерседес начала топать правой ногой, пока не извлекла из половиц сильный, яростный звук. Потом она громко топнула левой ногой — танец начался, ее руки и запястья плавно двигались над головой, ее длинные тонкие пальцы стали еще тоньше, чем месяц назад.
Впервые за много дней люди воспрянули духом.
Игра гитариста вторила движениям танцовщицы, танец продолжался, страсти накалялись. Сейчас мелодия была почти неистовой, ногти рвали струны гитары, руки барабанили по деке. Мужчина, повесив гитару за плечи, нес ее многие сотни километров, по дороге она несколько раз побывала под дождем. И, несмотря на то что непогода каким-то чудом не слишком повредила инструмент, сейчас он своей одержимой игрой, казалось, стремился ее сломать.
Он был абсолютно уверен, что крепкий сосновый корпус его гитары выдержит подобное обращение, и сейчас он использовал свой инструмент, чтобы передать не только свою боль, но и боль всех зрителей. Музыка вторила людским страданиям.
За время танца этот незнакомец стал для Мерседес совершенно другим человеком. Когда два года назад она впервые станцевала в cueva, они с Хавьером были такими же чужими людьми. Она плотно закрыла глаза, сосредоточившись на танце, музыка перенесла ее назад в тот вечер, и опять она отдавала зрителям всю себя без остатка.
После солеа с ее мощной модуляцией и чувственностью, которая незримо проникала прямо в сердце, нервы зрителей были напряжены как струны. Они понимали, что это спонтанное выступление. Кто-то негромко воскликнул: «Оле!», но на него зашикали, как будто никто не хотел нарушать колдовство.
Tocaor знал, что атмосферу разрядит более легкая алегриас. Его танцовщица несколько расслабилась, когда подхватила новый ритм и стала кружиться в танце. Одеревенение, которое Мерседес чувствовала все эти недели без танцев, прошло, и сейчас она могла изгибаться и извиваться всем телом с той же пластичностью, что и раньше, щелкать пальцами, как обычно, резко и четко.
Наслаждение от танца унесло мысли каждого далеко от разбитых жизней, сожженных домов, зрелища мертвых тел и жестоких лиц людей, которые вынудили их покинуть родной город. Многие присоединились к действу, с каждой минутой все четче отстукивая ритм.
К концу выступления Мерседес устала. Пот бежал по ее шее и стекал на спину, она чувствовала, как он струится между ягодицами. Она отдала всю себя без остатка, почти забыв, где она и кто она. Как и остальные, Мерседес перенеслась из настоящего в прошлое, мыслями она была на празднике, в окружении родных и друзей. Она пробралась сквозь аплодирующую толпу в конец комнаты, где увидела Анну. Лицо ее новой подруги сияло от восхищения.
— Fantstico[73], — просто сказала она. — Fantstico.
Гитарист не прекращал играть, даже не перевел дыхание после последнего удара ногой Мерседес и тихими первыми аккордами нового произведения. Его зрители были в трансе и не желали из него выходить.
Казалось почти невероятным, что музыка исходит от одной его гитары. Сила звучания и глубина исполнения создавали впечатление, что задействован не один инструмент, а когда добавилось и ритмичное постукивание по корпусу гитары, мелодия стала еще глубже, окутывая слушателей роскошным бархатом. Кто-то отбивал ритм на стульях и крышках столов — музыка лилась отовсюду. Каждый в этой комнате был в восторге, всех унесло быстрым течением реки звуков.
Мерседес негромко отстукивала ритм кончиками пальцев. Она стояла, опершись о стену рядом с Анной, их плечи соприкасались.
Из тени вышел человек. Это был довольно тучный мужчина, на голову выше остальных, с копной густых черных кудрей, ниспадавших на плечи. Волосы на вид были очень жесткими. Его рябое лицо наполовину скрывала клочковатая щетина. Толпа расступилась, поскольку по его виду было ясно, что он без колебаний сам проложит себе дорогу. В его грубом лице не было ни намека на теплоту.
Когда гитарист заканчивал мелодию, вновь прибывший приставил к его стулу свой. Двое мужчин доверчиво посмотрели друг на друга, как будто раньше уже встречались. Несколько минут они разговаривали полушепотом, хотя гитарист ни на секунду не отрывал пальцев от струн гитары, продолжая подбирать мелодию, не отпуская внимание толпы.
Слушатели не сразу поняли, откуда идет новый звук. Казалось, он не имеет никакого отношения к певцу. Все, кто видел, как занимает свое место этот человек, уже заранее представляли себе его голос, но действительность не оправдала их ожиданий. Раздался низкий мелодичный напев, совсем не похожий на цыганский скрежет, которого они ожидали. Это был чистый звук чьей-то души. После вступления к песне, taranta[74], голос начал набирать силу, а пальцы и руки цыганского cantaor[75] стали передавать раздирающие его эмоции. В тусклом свете комнаты его большие бледные руки ярко контрастировали с черным пиджаком. Они напоминали кукол в пантомиме, передавая страдание, злость, несправедливость и печаль. Эта была история цыганских гетто, которую он рассказывал всю свою жизнь, и трагический смысл его слов, казалось, был как никогда понятен изгнанным жителям Малаги.
Теперь слушатели его понимали. Посмотрев на себя, они осознали, что его неотесанный вид является лишь их собственным отражением. Они все теперь так выглядели — грубые, грязные, загнанные, печальные.
После первой песни Анна повернулась к Мерседес.
— Неужели он всегда так пел? — удивилась она.
— Кто знает? — ответила Мерседес. — Но это самый красивый голос, который мне доводилось слышать.
Искренность gitano было трудно передать словами. Он описал их историю, их жизнь. В его словах удивительным образом раскрывались их собственные чувства.
— Откуда он знает? — прошептала Анна.
До конца вечера танцевали еще многие, некоторые с таким энтузиазмом, что пасмурное настроение, повисшее над Альмерией, казалось, рассеялось. Пришел еще один гитарист, за которым шла пожилая женщина, великолепно владеющая кастаньетами. Она хранила их в кармане юбки с тех пор, как покинула дом. Как пара туфель Мерседес, эти обычные куски дерева приносили пожилой женщине успокоение каждый раз, когда она чувствовала под своими пальцами дарующую надежду прохладу. Для нее они были единственной постоянной величиной в этом чужом ужасном кошмаре новой жизни, которая внезапно обрушилась на нее.
Это был праздник, не похожий на другие. К четырем часам утра почти все женщины, мужчины и дети, которые укрылись в этой школе, собрались в одной комнате. Стало жарче, чем в августе. Люди забыли о своих бедах и улыбались. Лишь когда tocaor наконец выдохся, вечер закончился. Все на несколько часов забылись глубоким сном — впервые за несколько дней. И даже сероватое утро не потревожило спящих.
Мерседес с Анной спали под одним одеялом прямо на твердом полу. В подобных обстоятельствах быстро становятся друзьями, и когда девушки проснулись, то остались лежать под одеялом и рассказывать друг другу свои истории.
— Я ищу одного человека, — призналась Мерседес. — Поэтому еду на север.
Она слышала собственный голос, такой решительный, но, взглянув в лицо Анне, поняла, как смешно это звучит.
— А кого ты ищешь?
— Хавьера Монтеро. Его родные живут возле Бильбао. Я думаю, он мог попытаться добраться туда.
— Да, мы все едем в одном направлении, — сказала Анна. — Мы поможем тебе, чем сможем. Мы отправляемся сегодня днем. Он будет готов к тому времени.
Она кивнула на отца, который все еще спал, ни разу не шелохнувшись под одеялом у стены.
Мерседес уже поняла, что не стоит ожидать от отца Анны какой-то сердечности. Минувшим вечером, вернувшись, чтобы взять свои туфли, она краем уха услышала разговор, который поверг ее в шок. Она вот-вот собиралась войти, как услышала громкие голоса и собственное имя.
— Мы ведь ничего не знаем об этой Мерседес, — выговаривал сеньор Дуарте жене. В комнате было немного людей, большинство отправились послушать музыку, которая непреодолимо притягивала к себе. — А если она коммунистка?
— Какая она коммунистка?! Что ты выдумываешь?
Мерседес приникла к щелке в двери.
— Потому что коммунисты повсюду. Экстремисты. Люди, которые это затеяли. — Взмахом руки он указал на хаотично разбросанные вокруг них вещи — символы разрухи.
— Как ты можешь такое говорить? Разве это их вина? — воскликнула сеньора Дуарте, повысив голос. — Ты напоминаешь своего брата.
Мерседес остолбенела от услышанного. Анна уже говорила, что ее отец очень зол на республиканское правительство, но теперь она понимала, насколько должна быть осторожна.
— Без этих rojos, — он произнес это слово, словно плевок, — не было бы никакой войны.
— Без Франко война даже бы не началась, — возразила ему жена.
Ярость переполняла сеньора Дуарте, он замахнулся на жену. То, что она перечила, было для него невыносимо.
Она вскинула руки, чтобы укрыться от удара.
— Педро!
Он тут же пожалел о содеянном, но исправить ничего было нельзя. Он никогда раньше не поднимал руку на жену, возможно, потому что раньше она ему так не возражала.
— Прости, прости, — беспомощно шептал он, горько сожалея о случившемся.
Мерседес была в ужасе от того, что муж бьет свою жену. Она твердо верила, что ее отец никогда маму и пальцем не тронул. Может, стоит вмешаться? Сеньор Дуарте явно старался как-то выплеснуть отчаяние, вызванное смертью единственного сына. По его мнению, виновны были все — не только бомбардировщики, которые оборвали жизнь его сына, и националистические войска, захватившие полстраны, но также и республиканцы, которым не удалось восстать единым фронтом против врага.
Сеньора Дуарте была настроена продолжать спор:
— Значит, ты говоришь, что лучше будешь жить под пятой у фашистов, чем отстаивать то, за что голосовал?
— Да, лучше так, чем умереть… да. Лучше так. Потому что смерть бессмысленна. Подумай о нашем мальчике. — Настала очередь сеньора Дуарте возражать.
— Я-то думаю о нашем мальчике, — ответила сеньора Дуарте. — Его убили те, чью власть ты собираешься поддерживать.
В обоих боролись злость и печаль — ссору невозможно было направить в конструктивное русло.
Сеньора Дуарте, вся в слезах, вышла из комнаты. Мерседес спряталась в тени, когда женщина проходила мимо. Ей нужны были туфли; девушка улучила момент, чтобы забежать и схватить их. Сеньор Дуарте поднял на нее глаза. Он всегда боялся, что их подслушивают.
Днем все четверо были готовы отправляться в путь. Из Альмерии в Мурсию шел автобус.
Глава двадцать пятая
Трое друзей снова покидали Мадрид. На передовую их сопровождали водушевляющие слова Пасионарии.
На некоторое время итальянцы вывели свои войска из Харамы, и сейчас, в начале марта началось новое наступление на Гвадалахару, в пятидесяти километрах на северо-запад от Мадрида. Именно этого и ожидали друзья, их боевой дух поднялся, когда они ринулись в бой. Однако условия, в которых им пришлось сражаться, оказались абсолютно непредвиденными. С мощным танковым арсеналом, пулеметами, самолетами и техникой войска Муссолини намеревались нанести массированный удар по территории противника.
К тому времени как Антонио, Франсиско и Сальвадор прибыли на передовую, итальянские войска уже прорвали оборону и заняли господствующие позиции. Поддержка артиллерии не оставляла республиканцам никаких шансов. Потом изменилась погода. Пошел мокрый снег, и сразу людские ресурсы стали настолько же важны, как и оружие.
Дрожа в тонкой одежде под голыми деревьями, которые служили слабой защитой, люди стали коченеть от холода. Из-за мокрого снега гасли сигареты.
— Господи! — воскликнул Франсиско, изучая свою ладонь. — Я едва вижу собственную руку. Как мы отличим своих ребят от фашистов?
— Будет нелегко, — ответил Антонио, поднимая воротник и скрещивая руки на груди, чтобы согреться. — Может, потеплеет.
Он ошибся. Днем дождь перешел в снег, а потом спустился туман. Когда республиканцы начали контрнаступление, итальянцы в летнем обмундировании страдали от холода еще сильнее, чем их противники. Низкая температура стала врагом для тех и других, многие умерли от гипотермии. Антонио с удовлетворением понял, что итальянцы продвигаются слишком быстро, в хаосе тумана и снега их подразделения теряли связь с друг с другом. Топливо заканчивалось, техника буксовала, а самолеты не могли подняться в воздух.
К этому часу на поле боя верх взяли республиканцы.
— Кажется, хоть на этот раз удача повернулась к нам лицом, — жестами показал друзьям Антонио.
— Вероятно, потому что мы здесь, — с усмешкой ответил Сальвадор. — Теперь, Франко, держись!
У итальянцев большую часть времени связь отсутствовала, но и подразделение Антонио лишь смутно представляло себе общую картину. Вокруг кипели бои, но при нулевой видимости сложно было представить их масштабы. В холодном хаосе Антонио отчетливо слышал предсмертные крики умирающих, выстрелы, доносившиеся со стороны республиканцев.
Антонио старался держаться как можно ближе к Сальвадору, когда они бросились в атаку. Он успел доказать свою храбрость при Хараме, но, тем не менее, Антонио чувствовал огромную ответственность за друга.
Сальвадор уже открыл во время боя несколько преимуществ собственной глухоты. Он не слышал свиста пуль и криков раненых, но также не слышал предостерегающих возгласов. До самой последней минуты Сальвадор не испытывал страха. Единственное, что он мельком увидел, — перекошенное лицо товарища. Исполненный муки крик исторг не он, а Антонио, когда увидел, как его закадычный друг, дорогой El Mudo падает на землю.
Рубашка Антонио пропиталась кровью, когда он прижимал к себе умирающего друга. И земля вокруг них окрасилась алым, тоже пропитавшись кровью Сальвадора.
На поле боя не было времени горевать. Сальвадор погиб в конце дня, поэтому в отличие от многих, чьи тела часами лежали на поле сражения, он вскоре был похоронен. В мерзлой земле могилу вырыть непросто. Копая ее, Франсиско и Антонио впервые за последние несколько дней согрелись. Чтобы похоронить мужчину, необходимо было вырыть внушительную яму, а куча земли, которая возвышалась на краю ямы, казалась до нелепости огромной в сравнении с покрытым саваном телом Сальвадора.
Весь следующий день они собирали оружие, брошенное итальянскими войсками. Другим было приказано стеречь пленных, и Антонио обрадовался, что их избавили от этой обязанности. Он не верил, что Франсиско сможет относиться к ним по-человечески. Да и он сам тоже, говоря по совести.
С этого момента ими овладела ярость. Друзья не нуждались в дальнейших напоминаниях, что они сражаются за правое дело. Хотя об этом уже и так было прекрасно известно, брошенное оружие и амуниция, которую они собрали, лишь подтвердили, что Италия нарушила соглашение о ненападении, которого придерживалась вся Европа. Это решение — не вставать ни на чью сторону во внутреннем испанском конфликте — уже попрали несколько стран. Документы, которые попали в руки республиканцев, подтвердили вероломство политиков. К тому же трофеи, взятые республиканцами, стали для них большим подспорьем. Они нуждались в любой поддержке, какую только могли получить.
Когда сражение при Гвадалахаре кончилось, они вернулись в Мадрид. Если солдаты жили неподалеку и у них были семьи, им разрешалось поехать домой в отпуск. Для Антонио и Франсиско и речи не могло быть о том, чтобы вернуться в Гранаду. Город находился в руках националистов, поездка домой неминуемо обернулась бы арестом.
Они остались в Мадриде, чтобы помочь укрепить баррикады. Хотя защитить город от атаки с воздуха было непросто, защитники поставили задачу превратить столицу в настоящую крепость. Много дней Антонио с Франсиско возводили стены из промокших под дождем мешков с песком, похожих на огромные округлые булыжники. Многие городские здания с выбитыми взрывом окнами сейчас напоминали медовые соты. Они были неизменным напоминанием о том, что Мадрид еще держится, даже если войска Франко и продвинулись по всей стране.
Антонио и Франсиско очень не хватало Сальвадора. Их дружба держалась на его сдержанном влиянии, его гибель оставила огромную пустоту в их сердцах. После стольких лет заботы о нем их раздавила собственная неспособность защитить друга от вражеской пули. Они не знали, куда забросит их судьба в следующий раз, их иллюзии развеялись. В рядах левых произошел раскол, и Франко воспользовался отсутствием единства.
— Проблема в том, что не хватает сплоченности, нет цельного ядра, — с тревогой заметил Антонио. — На что нам надеяться?