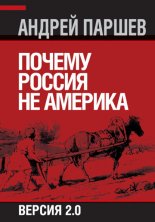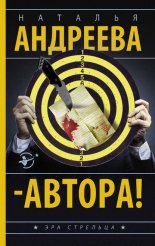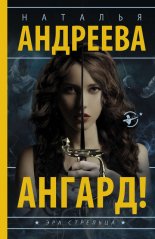Дань псам. Том 2 Эриксон Стивен

Там, за свежими фруктами и графином изысканного белого вина — а возможно, и за кальяном — она станет наблюдать за суетой жизни внизу, уделяя лишь мимолетное внимание и собакам, которых она не хочет, и детям, которых у нее нет и, скорее всего, не будет, если вспомнить о пристрастиях Горласа. Мимоходом, забавляясь, подумает о родителях мужа, их нелюбви к ней — убеждены, что она бесплодна, нет сомнений, но разве женщина может забеременеть сама от себя? И о своем отце, недавно овдовевшем, о грустных глазах и улыбке, которую он выдавливает при каждой встрече. Снова подумает, что нужно бы отвести его в сторонку и предупредить — но о чем? Да, о муже, Хануте Орре и Шардене Лиме, их общих делах. Им снится схема великого триумвирата тиранов; наверное, они уже планируют осуществление своей мечты. Но ведь он же рассмеется, не так ли? Скажет, что все молодые члены Совета одинаковы, пылают амбициями и великими замыслами; что их возвышение — лишь вопрос времени, оно неостановимо, словно морской прилив, скоро они сами поймут это и прекратят разрабатывать бесконечные планы захвата власти. Терпение, скажет он ей, это добродетель, приходящая последней. «Да, зачастую слишком поздно, чтобы иметь хоть какую-то ценность, дорогой отец. Погляди на себя, на жизнь, проведенную с женщиной, которую ты никогда не любил. Сейчас ты наконец освободился — чтобы обнаружить, что уже сед, сутул, спишь по десять звонов каждую ночь…»
Такие и подобные мысли тревожили ее, пока она освежалась и выбирала наряд. Она слышала, как Горлас сел на кровать в своих покоях. Без сомнения, стягивает сапоги, отлично зная, что она тут, в крошечной комнатке. Но ему все равно.
Что же предложит ей Даруджистан в столь солнечный день? Ну, она скоро увидит, не так ли?
Она отвернулась от собравшихся во дворе учеников, скользнула по нему глазами и осклабилась: — А, ты…
— И это твоя новая поросль, да? Сладкое лобзанье Апсалар, Стонни!
Ухмылка стала кривой гримасой; Стонни ушла в тень колоннады, где уселась на скамью под аркой, вытянула ноги. — Я не отрицаю, Грантл. Но я кое-что заметила. Сынки благородных поначалу приходят ленивыми, слишком толстыми и равнодушными. Искусство меча — это что-то, навязанное отцами и столь же скучное, как уроки игры на лире или счет. Почти все не способны удержать учебный клинок полсотни ударов сердца кряду. Я рассчитываю, что за восемь месяцев они едва-едва перестанут отличаться от ходячих соплей. Сладкое лобзанье Апсалар? Да, я согласна. Это кража, точно так.
— Вижу, ты хорошо научилась красть.
Женщина провела рукой в перчатке по правому бедру: — Новые лосины. Ну разве не роскошь?
— Поразительная.
— Черный бархат на старушечьих ногах так не играет.
— И на моих тоже.
— Чего хотел, Грантл? Вижу, полоски наконец-то поблекли. Я слышала, ты прямо сиял, когда вернулся.
— Катастрофа. Мне нужно сменить работу.
— Не будь смешным. Эта — единственная, в которой ты хоть что-то смыслишь. Болванам вроде тебя нужно быть в поле, прокладывать путь, рубя толстые черепа бандитов и прочей дряни. Когда ты начал задерживаться в городе, я поняла: городу несдобровать. Но так уж случилось, что мне нравится здесь жить, потому чем скорее ты снова выйдешь на тракт, тем лучше.
— Я тоже скучал по тебе, Стонни.
Женщина фыркнула.
— Бедек и Мирла хорошо поживают, кстати говоря.
— Дальше не надо.
Он вздохнул и почесал лицо.
— Я сказала, Грантл.
— Слушай, все, о чем я прошу — короткий визит…
— Я посылаю деньги.
— Неужели? Первый раз слышу. Бедек ни разу не рассказывал. Судя по тому, как они живут, посылаешь ты слишком мало или слишком редко.
Стонни сверкнула глазами: — Цап встречает меня у дверей, деньги передаются прямиком ему в руки. Уверяю, Грантл. Да как ты вообще смеешь? Я официально оформила усыновление и, черт дери, ничем им ни обязана.
— Цап. Ну, похоже, это все объясняет. В следующий раз попробуй отдать Бедеку или Мирле. Кому угодно, кроме Цапа.
— Ты хочешь сказать, мелкий дерьмец крал деньги?
— Они едва перебиваются. Что же, зная тебя так хорошо, как знаю я, становится понятно — приемные они родители или нет, но ты не захотела бы видеть их голодающими. Особенно сына.
— Не зови его так.
— Стонни…
— Отродье насильника. Я гляжу в запрокинутое лицо Харлло — а вижу ЕГО лицо. Ясно вижу, Грантл. — Она покачала головой, отказываясь смотреть ему в глаза, подтянула напряженные ноги; всякая бравада исчезла — женщина обхватила себя руками, и Грантл снова ощутил, как рвется на части сердце. Но он ничего не может сделать, ничего не может сказать. Будет только хуже.
— Лучше тебе идти, — сказала она натянуто. — Возвращайся, когда мир станет погибать, Грантл.
— Я подумываю о Трайгальской Торговой Гильдии.
Ее голова резко повернулась: — С ума сошел? Страдаешь стремлением к смерти?
— Возможно.
— Тогда иди с глаз моих. Иди, беги и помирай где подальше.
— Твои ученики готовы упасть, — переменил тему Грантл. — Повторять приемы в низком приседе — это любому нелегко. Сомневаюсь, что они смогут приползти завтра.
— Забудь о них. Если ты уже решил записаться к трайгаллам, так и скажи.
— Я думал, ты сможешь меня отговорить.
— С чего бы? у тебя своя жизнь, у меня своя. Мы не женаты. Мы даже не любовники…
— В этой области успехи есть, Стонни? Кто-нибудь мог бы…
— Прекрати. Прекрати болтать. Ты каждый раз приходишь с одним и тем же, весь полный жалости и, черт подери, сочащийся святостью. Пробуешь и пробуешь убеждать…
— Убеждать? В чем?
— Что я еще человек. Но все, проехали. Стонни Менакис умерла несколько лет назад. Сейчас перед тобой воровка, ведущая школу по обучению сущим пустякам чертенят с мочой в жилах. Я здесь для того, чтобы выдоить дураков досуха, освободить от монеты. Я здесь просто для того, чтобы врать им: «Ваш сын или ваша дочь скоро станут чемпионами среди фехтовальщиков».
— Так, значит, ты не станешь отговаривать меня от трайгаллов. — Грантл повернулся к выходу. — Вижу, здесь от меня добра не будет. Извини.
Однако, когда он уже собрался уходить, она схватила его за локоть: — Не надо.
— Не надо чего?
— Не забирай последнего, Грантл. Стремление к смерти — совсем нехорошая штука.
Чудно, — буркнул он и вышел.
Что ж, опять только все замутил. Ничего нового, увы. «Надо бы отловить Цапа, устроить встряску — другую. Хотя бы вытрясу правду. Пусть колется, где спрятал сокровища. Не удивляюсь, что он любит сидеть на пороге. Похоже, один глаз всегда настороже».
Итак, Грантл возвращается к своим неприятным истинам — к жизни, которую тратит зря, к бесполезным вещам, о которых зачем — то решил заботиться… Ну, не совсем так. Есть этот мальчик. Но вряд ли роль изредка приходящего дяди можно считать особо достойной. Какую мудрость он может передать? Весьма малую, если поглядеть на руины прошлой его жизни. Товарищи мертвы или сгинули, последователи гниют в земле; груды пепла старых битв, десятки лет, потраченных на защиту чужих доходов, каких-то бесчестных скоробогачей. О, Грантл мог иногда отказываться от службы, даже пускать кровь нанимателям. Не славно ли?
Вот почему, если подумать хорошенько, Трайгалл Трайдгилд начинает все сильнее тянуть его. Дольщик — человек честный. У него есть вложения в общее дело, он защищает свое добро, а не добро какого-то жирного дурака, потирающего во дворце потные руки.
Неужели это стремление к смерти? Едва ли. Многие дольщики выживают, а те, что поумнее, успевают выйти вовремя, получив денег достаточно для покупки особняка, для того, чтобы провести остаток лет в благословенной роскоши. Ох, вот это как раз для него, не так ли? «Что же, если ты хорош только в одном деле, прекращая им заниматься, мигом становишься бездельником!»
А очередной служитель Трича станет скрестись у дверей. «Летний Тигр взревет, о Избранный. Но ты бесстыдно возлежишь на шелковых простынях. Как насчет битв? Как насчет крови и стонов умирающих? Как насчет хаоса и вони выпущенных кишок, тел, свернувшихся в грязи и слизи, зажимающих смертельные раны? Как насчет ужасного сражения, из которого выходишь столь восхитительно живым?!»
Да, как насчет всего этого? «Дайте мне валяться, раскатисто и умиротворенно урча. Пока война сама меня не найдет. Если никогда не найдет — будет просто отлично».
Ба, никого ему не обдурить, а в особенности себя самого. Он не солдат, это верно, но похоже, что бойня сама его находит. Проклятие тигра, который бредет, обдумывая свои дела — и вдруг толпа пучеглазых дураков несется с пением в лес, аж земля дрожит. Это истина? Едва ли, ведь повода охотиться на тигров нет. Точно? Похоже, он придумал эту сцену или подхватил из снов Трича. Но разве охотники не осаждают зверей, выгоняя из логовищ, пещер и нор? Толпа бормочет скудные оправдания насчет потравы скота, хотя на деле жаждет кровушки.
«Загоните меня, вот как? Давайте, прошу…» Он вдруг обнаружил, что настроение изменилось, став подвижным как ртуть, кипящим от ярости.
Он шагал по улице, был уже близко от своего жилища, когда прохожие потеряли лица, став просто ходячими кусками мяса, и ему хотелось убить их всех.
Взгляд вниз, на руки — он видел, что тигровые полоски врезаются кожу, став черными словно гагат; он понял, что глаза сейчас светятся, зубы оскалены, клыки влажно блестят; он понял, почему смутные формы — прохожие разбегаются с дороги. Если один подойдет близко — он выбросит руку, отворит горло и вкусит языком соленой крови. Но дураки мчались прочь, заползая в двери или убегая по боковым улочкам.
Разочарованный, лишенный острых ощущений, он обнаружил себя у своей двери.
Она не поняла — или поняла слишком хорошо. Так или иначе, она права, когда говорит: он не принадлежит ни этому городу, ни другому. Они все — клетки, а он так и не сумел научиться трюку обитания в клетке.
В любом случае, мир слишком высоко ценят. Да поглядите на Стонни. «Я возьму свою долю, свое состояние и куплю новую жизнь — жизнь со слугами и все прочим, дом со стеной и садом». Он будет приказывать выносить себя в сад, будет сидеть и греться на солнце. Отлично воспитанные дети; да, какой-нибудь злобный учитель, способный взять Цапа за горло и научить некоторому уважению. А если не уважению, то ужасу. А для Харлло — шанс в будущем.
«Один — вот все, что мне нужно; неужели я не вытерплю одного? Самое меньшее, что я смогу для них сделать. А пока Стонни примет меры — позаботится, чтобы деньги доходили до Мирлы.
Так где я видел ту проклятую карету?»
Он опять стоит у своей двери, но лицом к улице. Нагружен пожитками, взял оружие и подбитый мехом дождевик — новенький, пахнет овцой — ясно, что должно было пройти время, но это несущественно, важно не то, что ты сделал, а то, что должен сделать. Без задних мыслей. Никаких колебаний, вялого взвешивания возможностей, никакого шатания взад-вперед, называемого иными «здравым размышлением».
Предстоит путь. Это тоже несущественно. Да, все несущественно, кроме мгновения, когда выскакивают когти и запах жертвы горчит в воздухе. Это Мгновение ждет где-то впереди, и он приближается, шаг за шагом, ибо если тигр решил, что пришло время охоты — значит, пришло время охоты.
Цап крался за жертвой, гордясь умением таиться, выслеживать тварь, что сидит в высокой траве, ни о чем не ведая. Доказательство, что Харлло не годится для реального мира, мира, в котором всё — угроза и нужно самому заботиться о себе, иначе о тебе «позаботятся» другие. Вот урок истины, и Цап готов преподавать его в этих пустошах.
В руке он держал мешочек с серебряными консулами, которые приносила Тетя Стонни — два слоя мешковины и шнурок, чтобы носить на шее. Когда монеты ударились о висок Харлло, звук получился отменным, по телу Цапа аж трепет прошел. То, как ненавистная голова своротилась набок, как тело шлепнулось о землю… да, это зрелище он готов боготворить.
Цап еще немного попинал бесчувственное тело, но без стонов и плача в этом оказалось мало забавы, и он ушел. Подобрал тяжелую корзину с кизяками и направился к дому. Мать порадуется подношению, поцелует в лоб; он выиграет время, а когда кто-нибудь спросит, куда делся Харлло… ну, он скажет, что видел его на пристанях, болтающим с каким-то матросом. Когда мальчишка не вернется ночевать, Мирла пошлет за Грантлом, попросит обойти побережье; там они поймут, что вечером отчалили два корабля, или три, и на каждом наверняка были юнги. А может, и нет — кому интересно помнить такие мелочи?
Потом будет недовольство, тревога, а потом и скорбь; но это продлится недолго. Цап станет драгоценным чадом, единственным оставшимся, единственным, кого они могут защищать, беречь и лелеять. Так все бывает, так всё и будет.
Улыбаясь яркому утреннему солнышку, поглядывая на длинноногих птиц на грязном мелководье слева, Цап не спеша брел домой. Хороший день. День, когда чувствуешь себя таким живым, таким свободным. Он исправил мир, целый мир.
Пастух, нашедший мальчишку в траве у вершины холма, что смотрит на Майтен и ворота Двух Волов, был стариком с артритическими коленями; пользы от него уже немного, и вскоре придется стать безработным — хозяин стада заметит, как тяжело он опирается на посох, как шатается. Осмотрев мальчика, он удивился, что тот еще жив. Пришлось думать, что же можно сделать для этого беспризорника.
Стоит ли трудиться? Он мог бы привести жену и телегу, вдвоем они подняли бы тельце и отвезли назад, в хижину у берега озера. Следили, выживет или нет, кормили бы, если он очнется.
Ну, много чего можно тут подумать. И все мысли неприятные, но кто вам сказал, что мир — приятное местечко? Найти ничью вещь — честное дело. Он уверен, есть какое-то правило, закон, вроде нахождения остатков кораблей на берегу. Что ты нашел, то твоё, его можно продать. Отлично, монета им пригодится.
Старик тоже решил, что день выдался хороший.
Он вспоминал детство — как бешено носился по улицам и аллеям, как залезал на крыши и проводил целые ночи, завороженно следя за печально знаменитой Дорогой Воров. Как влекла его романтика странствий в таинственном свете луны, над головами храпящих в комнатах олухов — а вполне возможно, и жертв.
Бешеная беготня — для ребенка одна дорога ничем не хуже другой, хотя самая лучшая — та, на каждом шагу подбрасывающая под ноги тайны и опасности. Даже потом, когда опасности стали вполне реальными, такая жизнь казалась Резаку полной перспектив, и сердце его билось, переполненное восторгом.
Но сейчас он понял: романтика — для дураков. Никто не оценит отданного сердца, никто не увидит, сколь драгоценным было его жертвоприношение. Нет, чужие руки просто схватили его сердце, скомкали, выжали досуха — и бросили. А может, сердце — игрушка? Та, что в руках, всегда менее интересна, чем еще не подаренная, тем более — подаренная кому-то другому. Или, что хуже всего, сердце — дар слишком дорогой, чтобы кто-то согласился принять его.
Причина отказа совершенно не важна — так говорил он себе. Боль и горе горчат и отравляют, и если ты испытал их слишком много, твоя душа начинает гнить. Он мог бы избрать другие тропы. Должен был. Может, надо пойти по дорожке Муриллио: новая любовь каждую ночь, обожание отчаявшихся женщин, элегантные прыжки с балконов, изысканные свидания под шепчущими листьями частного сада…
А как насчет Крюппа? Самый коварный наставник, к которому он мог бы пойти в ученики, чтобы освоить все вершины воровской науки, умение сбывать краденое, получать секретную информацию, доступную лишь тому, кто платит, и платит щедро. Жизнь веселого херувима… но разве в мире достаточно места для второго Крюппа?
Конечно, нет!
Итак, предпочтительнее всего нынешний путь, путь кинжалов, танец в тенях, похищение жизни за монету. У него не будет даже того оправдания, которым пользуется солдат — ну и что? Муриллио покачает головой, Крюпп закатит глаза, а Миза, наверное, скривит губы и снова схватит его за яйца, пока Ирильта будет взирать с материнским неодобрением. Что-то загорится в глазах Сальти, ужаленной горьким пониманием: она уже не годится для такого, как он, ей остались только мечты, ибо роль ассасина ставит его на высокую позицию, с которой не замечаешь низменных тварей вроде трактирной служанки. Даже если он попытается снова завязать дружбу, это станет казаться жалостью и снисхождением; она разрыдается при первом небрежном слове, нервом уклончивом взгляде.
Ох, почему так незаметно ускользает время грез о будущем, пока человек не осознает с потрясением, что уже лишен подобной привилегии, что она достается молодым, чьи лица он видит со всех сторон, парням, что смеются в кабаках и бешено носятся по улицам!
— А ты изменился, — сказала Муриллио с постели, на которой полулежал, опираясь на груду подушек. Волосы его были нечесаными и грязными. — Не уверен, что к лучшему.
Резак поглядел на старого друга и не сразу ответил: — А что такое «к лучшему»?
— К лучшему? Не надо бы тебе задавать такой вопрос, и в особенности таким тоном. С тех пор, как я в прошлый раз видел тебя, Крокус, кто-то разбил тебе сердце. Надеюсь, не Чаллиса Д’Арле?
Улыбнувшись, Резак покачал головой: — Нет. Знаешь, я почти забыл ее имя. Лицо точно забыл… И мое имя теперь Резак.
— Как пожелаешь.
Вообще-то он ожидал расспросов, но Муриллио, вполне очевидно, был не в лучшей форме. Если он пытался таким ответом намекнуть на нежелание продолжать разговор, что ж… Резак не прочь проглотить наживку. «Тьма в моей душе… нет, не надо».
— Семиградье, так? Потребовалось время, чтобы вернуться домой.
— Долгое путешествие. Наш корабль шел северным маршрутом, вдоль цепи островов, два раза застревая в жалких портах по целому сезону. Вначале зимние шторма, как мы и предполагали, потом весна, опасная отколовшимися полями льда — этого мы не предполагали, да и никто не предполагал.
— Нужно было купить проезд на судне Морантов.
Резак отвел глаза. — У меня не было выбора — ни с кораблем, ни с компанией…
— А где твоя компания?
Резак пожал плечами: — Думаю, уже разбрелась.
— Мы встретимся с ними? — спросил Муриллио.
Он удивился тому, какое направление приняла беседа, и даже почему — то рассердился на очевидный интерес Муриллио к его спутникам. — Может быть, с некоторыми. Кто-то сошел на берег только чтобы двинуться дальше любым возможным способом. С ними мы не встретимся. Другие… поглядим.
— Ах, я просто любопытствовал.
— Насчет чего?
— Ну, какой группы спутников ты стесняешься сильнее.
— Никакой!
— Прости, я не хотел тебя обижать… Резак. Ты кажешься каким-то… беспокойным, словно хотел бы оказаться в другом месте.
«Все не так просто». — Здесь теперь все… по-другому. Я попросту был потрясен, найдя тебя почти мертвым.
— Думаю, сражение с Ралликом на равных тоже тебя потрясло.
Об этом Резаку не хотелось и думать. — А вот я не мог вообразить, что ты проиграешь дуэль, Муриллио.
— Плевое дело, когда ты пьян и без штанов.
— О.
— На самом деле не это самое важное в моей ситуации. Я был беззаботен. Почему я был беззаботен? Потому что становлюсь старым. Потому что двигаюсь медленнее, слабею. Погляди на меня, лежащего здесь. Я исцелен, но страдаю от боли, новой и старой, а в душе один пепел. Мне выпал второй шанс, и я решил им воспользоваться.
— То есть?
Муриллио метнул ему взгляд. Казалось, он вдруг переменил намерения и сказал совсем не то, что намеревался вначале: — Я ухожу в отставку. Да, скопил я немного, но ведь можно поумерить аппетиты, не так ли? В Дару открылась новая школа фехтования. Слышно, она процветает — длинный список желающих и все такое. Я мог бы помочь через пару деньков. Или через неделю.
— Больше никаких вдовушек. Никаких тайных встреч.
— Точно.
— Ты будешь хорошим учителем.
— Вряд ли, — ответил он с гримасой. — Но я и не мечтаю стать мастером. Это всего лишь работа. Постановка ног, позиции, равновесие, расчет времени — более серьезные вещи пусть учат у кого другого.
— Если ты придешь и скажешь так, — заметил Резак, — тебя никто не наймет.
— Я и очарование потерял?
Резак со вздохом встал. — Сомневаюсь.
— Что привело тебя назад? — спросил Муриллио.
Вопрос заставил Резака застыть. — Наверное, заблуждение.
— И какого рода?
«Город в опасности. Я ему нужен». — О, — сказал он, отворачиваясь, — ребячество сплошное. Будь здоров, Муриллио — кстати, думаю, твоя идея хороша. Если Раллик забежит и спросит меня, скажи — я вернусь.
Он ушел по задней лестнице через сырую и узкую кухню, выйдя на все еще охваченную ночным холодком аллею. Ему нужно потолковать с Ралликом Номом, но не прямо сейчас. Его слегка шатает, словно пьяного. Возможно, это шок возвращения, столкновение того, кем он был раньше, с тем, кем стал сегодня. Нужно успокоиться, изгнать смущение из разума. Снова став способным видеть все ясными глазами, он поймет, что делать.
Итак, прогуляемся по городу. Не то чтобы «бешено бегать», э?
Нет, эти дни в прошлом.
Раны заживали быстро, что напомнило ему о переменах — о пыли отатарала, которую он втер в кожу всего несколько дней назад… как кажется. Чтобы начать ночь убийств… тогда, годы назад. Но другие перемены оказались более тревожными. Он потерял слишком много времени. Исчез из мира, а мир продолжал двигаться без него. Раллик Ном как бы умер? да — никакой разницы. Вот только он вернулся, хотя мертвецы так не поступают. «Вытащи палку из грязи — и грязь затянет лунку, так что никакого следа не останется».
Он все еще ассасин Гильдии? Не совсем.
Перед ним открывалось столько возможностей, что ум пасовал, рисуя всего лишь картину возвращения в катакомбы, где он предстает перед Себой Крафаром и объявляет о возвращении, требуя назад старую жизнь.
И если Себа хоть сколько-то похож на старину Тало, он скажет: «Рад, весьма рад, Раллик Ном». С этого мгновения шансы, что Раллику удастся подняться на поверхность, станут призрачными. Себа сразу распознает нависшую над ним угрозу. Воркана ценила Раллика больше, чем его — уже достаточная причина для устранения. Себе не нужны соперники — он поимел их предостаточно, если Крут все правильно рассказывал.
Есть и второй способ вернуться в Гильдию. Раллик может пойти и убить Крафара, объявить себя временным Мастером и ждать возвращения Ворканы. Или таиться сколько возможно, ожидая, пока Воркана не сделает первый шаг. Когда она снова усядется в середине гнезда, он сможет объявиться — и прошедшие годы словно испарятся, станут несущественными. Он столь многое разделил с Ворканой, что ей некому будет довериться, кроме Раллика. Он станет номером вторым, и разве это не хорошо?
О, старый кризис отдалился на годы. Тогда он думал, что Турбан Орр станет последним человеком, им убитым. Что за глупые мысли!
Он сел на край кровати. В зале внизу можно было услышать, как Крюпп поет дифирамбы завтраку; его речь сопровождали заглушенные, но, без сомнения, сочные комментарии Мизы. Да, это двое совсем не изменились. Увы, о Муриллио такого не скажешь. Как и о Крокусе, ставшем ныне Резаком — ясное дело, имя ассасина, вполне подходящее человеку, которым стал Крокус. «Так кто научил его так работать ножами? Что-то от стиля малазан — скорее всего, Когтя».
Раллик ждал визита Резака, предвкушал обед в сопровождении шквала вопросов. Разве он не захочет объясниться? Попытается убедить Раллика в верности принятых решений, даже если оправдать их нельзя. «А ведь он не послушал меня, не так ли? Игнорировал предупреждения. Лишь дураки думают, что отличаются от всех». Так где он? Наверное, у Муриллио. Откладывает неизбежное.
Короткий стук в дверь; вошла Ирильта — ей туго приходилось в последнее время, это заметно сразу — женщины стареют быстрее, хотя мужчины если уж сдаются, то быстро уходят. — Завтрак принесла, — сказала она, подавая поднос. — Видишь? Я вспомнила все, даже вымоченные в меду фиги.
«Вымоченные в меду фиги?» — Спасибо, Ирильта. Дай Кро… дай знать Резаку, что я хотел бы его увидеть.
— Он ушел.
— Точно? Когда?
Она пожала плечами: — Не так давно, если верить Муриллио. — Тут женщина тяжело закашлялась, лицо ее побагровело.
— Найди целителя, — сказала Раллик, дождавшись окончания приступа.
— Слушай, — ответила она, уже открывая дверь, — мне не нужно сочувствие, Раллик. Я не жду божьего поцелуя или какой другой помощи, и пусть никто не говорит, что Ирильта мало веселилась при жизни!
Она добавила что-то еще, но уже на лестнице, закрыв дверь, так что Раллик не разобрал. Что-то вроде «…сосунков учи у меня…», но ведь она всегда была грубиянкой, не так ли?
Он хмуро поглядел на поднос, поднял его и встал.
Вышел в коридор, уравновесил поднос на одной руке, а второй открыл дверь в комнату Муриллио.
— Это тебе, — сказал он. — Вымоченные в меду фиги, твои любимые.
Муриллио хмыкнул с постели: — Ясно, откуда у меня куски вяленого мяса. Ты такое ешь, да?
— Ты вовсе не такой любезник, как тебе кажется, — заметил Раллик, опуская поднос. — Бедная Ирильта.
— Ничего не бедная — за этой бабой толпится больше лет, чем за всеми нами. Она умирает, но не зовет целителя — думаю, потому, что готова уйти. — Он покачал головой и протянул руку за глазированной фигой. — Если узнает, что ты ее жалеешь, Раллик — может убить тебя. По-настоящему.
— Вижу, ты по мне скучал.
Пауза, бегающий взгляд… затем Муриллио впился в фигу.
Раллик подошел и сел в одно из двух загромождавших комнатенку кресел. — Говорил с Резаком?
— Так как-то.
— Я думал, он зайдет повидаться.
— Думал?
— И тот факт, что не зашел, заставляет меня полагать — он меня боится.
Муриллио медленно покачал головой.
Раллик вздохнул: — Видел ночью Коля. Итак, наш план работает. Он вернул имение, имя и самоуважение. Знаешь, Муриллио, не думал я, что это сработает так хорошо. Так… совершенно. Как нам удалось, во имя Худа?
— То была ночь чудес.
— Чувствую себя… заблудившимся.
— Неудивительно, — сказал, потянувшись за другой фигой, Муриллио. — Съешь хоть часть мяса — от эдакой вони меня тошнит.
— Лучше пусть смердит у меня изо рта?
— Ну, целоваться с тобой я не намерен.
— Я не голоден, — заметил Раллик. — Когда проснулся, был, но все куда-то ушло.
— Проснулся … Ты все время спал в Доме Финнеста? Валялся в кроватке?
— На камнях прямо у входа. А Воркана лежала справа. Кажется. Когда я очнулся, ее не было. Был неупокоенный Джагут.
Муриллио вроде бы обдумал сказанное. — Итак, что теперь, Раллик Ном?
— Хотелось бы знать.
— Баруку потребуются услуги. Как раньше.
— Например, охрана Резака? Пригляд за Колем? И быстро ли Гильдия узнает, что я вернулся? Быстро ли меня выследят?
— А, Гильдия. Я-то думал, ты вломишься прямиком в нее, оставишь за собой пару дюжин бездыханных тел и займешь подобающее высокое место. Если возвращается Воркана… ну, мне все кажется ясным.
— Это совсем не мой стиль, Муриллио.
— Знаю. Но обстоятельства меняются.
— Это точно.
— Он вернется. Когда будет готов говорить с тобой. Помни, он уходил и где-то получил много новых рубцов, глубоких рубцов. Некоторые еще кровоточат. — Он помолчал и добавил: — Если бы Маммот не умер… ну, кто знает, что случилось бы. А так он ушел с малазанами, чтобы вернуть Апсалар домой — о, вижу, ты понятия не имеешь, о чем я. Ладно, давай расскажу историю конца той ночи, когда ты нас покинул. Только дожуй проклятое мясо, умоляю!
— Жестоко задолжаешь, дружище.
Муриллио улыбнулся — в первый раз за все утро.
Ее запах остался на простынях, такой сладкий, что ему хотелось рыдать, и даже какое-то тепло осталось — хотя, может быть, виновато солнце, золотой луч, что струится из окошка и несет с собой смутно тревожащий щебет птиц, призывающих пару в кустах заднего дворика. «Не надо так буйствовать, малыши. Перед вами все время мира». Но… он же должен чувствовать себя так же, не правда ли?
Она работала у гончарного круга в другой комнате. Звук, который когда-то наполнял его жизнь, чтобы однажды исчезнуть, а вот теперь — вернуться. Словно и не было ужасных преступлений, бандитизма и рабства в качестве вполне заслуженной кары; он словно и не лежал в вонючей яме рядом со скованными варварами — Теблорами. Неужели не было могучего воина, висящего распятым посреди корабля, и Торвальд не лил воду в его потрескавшиеся губы? Не было магических бурь, акул, извращенных миров, в которые они попадали, из которых с трудом выкарабкивались. Ему лишь снилось, как они тонули… нет, это была чья-то жизнь, сказка полупьяного барда, и недоверчивая аудитория почти готова в ярости разорвать сказителя на куски — пусть только наплетет об еще одном невероятном подвиге! Да, чья-то жизнь. Круг крутится, как всегда, она придает глине форму, симметрию, красоту. Разумеется, после ночи любви ей не удаются шедевры, словно она потратила некую сущность, дар творчества. Иногда он корил за это себя. Тогда она смеялась, качая головой, отметая его сомнения и с большим пылом налегая на работу.
На полках он успел заметить массу горшков среднего качества. Повод для беспокойства? Увы, больше нет. Он пропал из ее жизни — так с чего бы ей хранить супружескую верность или соблюдать затянувшийся траур? Люди есть люди, и так будет всегда. Разумеется, она находила любовников. Может, и сейчас кто-то есть. Было бы настоящим чудом, если бы жена встретила его одинокой; он почти ожидал встретить какого-нибудь идола с огромными мускулами и выступающей челюстью, так и взывающей к тычку в качестве приветствия.
— Может, ушел маму навестить, — пробормотал Торвальд.
Он сел, опустил ноги на тканый коврик, что лежал на полу. Заметил, что коврик буквально усыпан подушечками; они были набиты лавандой — сухая трава затрещала под пяткой. — Не удивляюсь, что у нее ноги хорошо пахнут. — Ну да ладно. Он даже не спросит, как она поживала все это время. Не спросит, даже если она будет намекать, хотя все станет только хуже. «Да, только хуже».
Начался день, и все, что ему нужно — уладить некоторые проблемки. Потом можно возобновить жизнь, подобающую гражданину Даруджистана. Наверное, навестить старых приятелей, членов разбредшегося семейства (тех, что захотят с ним говорить), посетить места, вызывающие особо сильную ностальгию. Подумать, что будет делать с остатком жизни.
Но вначале самое важное. Натянув иноземные одежды (стираные, но, к сожалению, при сушке приобретшие массу складок), Торвальд Ном прошел в мастерскую. Она сидела спиной к нему, крутя круг, нажимая ногами на педали. Он увидел на привычном месте большой чан с водой, подошел и ополоснул лицо. Вспомнил, что нужно побриться — но теперь он может заплатить за такие услуги другому. Кто ловок, тот всегда награду получает. Кто-то когда-то так сказал, он уверен…
— Сладость моя!
Она чуть повернула голову и ухмыльнулась: — Погляди, как плохо вышло, Тор. Понимаешь, что наделал?
— Это темперамент…
— Это усталые бедра.
— Частое недомогание? — спросил он вскользь, пройдя к полке и встав, чтобы разглядеть набор кособоких тарелок.
— К сожалению, слишком редкое. Ты смотришь, да не понимаешь, муженек. Это новый, особо модный стиль. Симметрия мертва, да здравствует всё кривое и неуклюжее. Любая знатная дама мечтает о бедной деревенской кухне, о тетушке или бабушке со скрюченными пальцами, что изготовляют посуду в промежутках между кромсанием тыкв и сворачиванием куриных шей.
— Ого, какая изысканная ложь.
— Ах, Тор, я намекаю, чтобы не говорить прямо.
— Я никогда не понимал намеки. Разве что самые откровенные.
— Ну, у меня было только два любовника, Тор, и оба не продержались пару месяцев. Хочешь услышать имена?
— Я их знаю?
Когда она не ответила, он оглянулся через плечо. Жена смотрела на него. — А, — сказал он глубокомысленно.
— Что ж, лучше тебе рассказать, иначе начнешь коситься на всякого, кто приходит за заказом или говорит мне привет на улице…
— Нет, нет, дорогая. На самом деле тайна… интригует. Точное знание всё убьет.
— Верно. Вот поэтому я ни о чем не буду расспрашивать тебя. Где ты был, что делал.
— Но это совсем иное!
Она подняла брови.
— Нет, на самом деле. — Торвальд подошел ближе. — Ночью я рассказывал без преувеличений.
— Как скажешь.
Он понял, что она не верит. — Я сокрушен. Раздавлен.