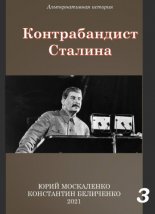Паучиха. Личное дело майора Самоваровой Елизарова Полина
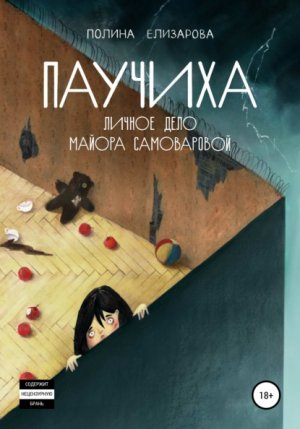
Зонт она, конечно, забыла дома…
«Файный»… Это смешное слово было как будто давно знакомо, но, хоть убей, она не помнила, откуда.
Примостившись под козырьком подъезда в надежде переждать дождь, Самоварова сделала то, что обычно избегала делать — в разгар рабочего дня набрала Валеру.
Он ответил на удивление быстро. Голос звучал тепло и приветливо:
— Как твои дела? Как там наша квартира?
— Вечером расскажу. Слушай, ты когда-нибудь слышал такое слово: «файный»?
Доктор задумался:
— По-моему, это украинский диалект.
— Украинский? Может, молдавский?
— Вроде украинский. Это что-то типа «прекрасный».
— Ну, это-то я поняла…
— Тебя там файной, что ли, назвали? Так ты у меня и есть самая файная!
— Серьезно? — с оттенком недоверия уточнила она.
— Не сомневайся!
— Ладно, до вечера!
— Целую.
Звуки фортепьяно были слышны и на улице.
Напористая минорная мелодия органично вписывалась в шум косого дождя.
Намотав на голову подопревший непонятно-чей-шарф, Варвара Сергеевна добежала до остановки троллейбуса, который, на ее счастье, подошел через пару минут.
Она вышла, не доехав до своей остановки, напротив сетевого кафе.
Самоварова взглянула на экран айфона — был всего лишь час дня.
«Может, Анька сегодня пораньше придет…»
Она боялась признаться себе в том, что не хочет возвращаться в собственную квартиру: мало ли какой очередной сюрприз может ждать ее под дверью.
Надо бы побыстрее заказать, как настаивал Олег, новую камеру, и на сей раз, что бы он ни говорил, расходы она возьмет на себя!
Примостившись, как любила, у окна, Самоварова заказала заведомо невкусный эспрессо и первый попавшийся в меню десерт.
В ушах все еще стояли отголоски страстных звуков фортепьяно — репетировавший неизвестное ей произведение явно готовился произвести впечатление на будущую аудиторию.
Варвара Сергеевна достала айфон и отыскала фото паспорта малярши.
Доктор оказался прав: вышедшая замуж за молдаванина малярша — Одобеску Оксана Ивановна, 1973 г. р., родилась в Мукачево. Подгрузившись к кафешной сети, гугл тут же пояснил: это город областного подчинения в Закарпатской области Украины.
За столиком напротив расположилась семья — мать и дочь лет семи.
Судя по недовольным лицам, обе были чем-то расстроены.
Удручающе некрасивая девчонка в ярко-розовом спортивном, расшитом серебряными стразами костюмчике демонстративно отбросила предложенное официанткой меню и, глядя в потолок, уставилась в одну точку. Мать, чуть менее некрасивая благодаря модной стрижке и макияжу, проигнорировав дочкину провокацию, выхватила из сумки надрывающийся аккордами «Лунной сонаты» мобильный. Вдавленный, похожий на дверной звонок носик на плоском, приплюснутом лице женщины, брезгливо втянул в себя воздух. Ответив на входящий, она начала с кем-то ругаться.
Наблюдая за ними, Варвара Сергеевна поедала маленькими кусочками сносный чизкейк и едва пригубляла жидковатый, прогорклый эспрессо.
Мать продолжала высоким противным голосом вливать в чьи-то уши потоки негатива, а дочь, устав разглядывать потолок, принялась отколупливать ногтем стразы с олимпийки.
И вдруг Самоварову словно прострелило!
«Файная» — именно этим, столь неожиданным словечком, обычно молчаливая Регина, Ольгина дочь, тридцать пять лет назад похвалила ее новую стрижку. Это было как раз в тот вечер, когда Варя на свою голову забрала ее вместе с Анютой из детского сада. Наевшись шарлотки, Регина долго отмывала в ванной липкие, вымазанные яблочной начинкой ладошки, а когда вышла и столкнулась с ней в коридоре, неожиданно обхватила ее влажными руками за талию.
Варя наклонилась к девочке и ласково потрепала по голове.
Тоненькая детская ручонка потянулась к ее волосам.
— Файная, — скованно улыбнувшись, будто никогда не делала так раньше, сказала девочка.
— Что? — не поняла Варя.
Регина обвела руками свою голову.
— Это.
Самоварова отчетливо вспомнила свои тогдашние ощущения — ей стало жутковато. Конечно, не от слова, привнесенного в Регинин лексикон ее матерью, узнавшей это слово от ее украинца-отца. Ей стало не по себе от Регининой физической близости, от контраста теплого доверчивого тельца с холодным взглядом и приклеенной к губам неестественной улыбки.
….Последнюю неделю перед отпуском Варя жила на разрыв аорты.
Нужно было раскидать по коллегам текущие уголовные дела, подробно отчитаться перед Никитиным, ухитриться увидеться с ним после службы и куда-то пристроить на это время Аньку. А еще перебрать, перестирать и уложить летние вещи, что-то приличное докупить (в условиях тотального дефицита!), покрасить волосы, ресницы и брови, сделать маникюр / педикюр, отнести в мастерскую босоножки, заскочить в бухгалтерию и собрать все необходимые для отпуска документы.
Ольгу она так больше и не увидела.
Зато пару раз встретила Маргариту Ивановну, которая в свои эмоциональные пассажи о погоде и политике нет-нет да и обеспокоенно вставляла фразочки о странной пианистке с пятого этажа.
— Ума не приложу, куда обе могли деться! — пожимала плечами Маргарита. — Обычно те, кто уезжает в отпуск, всегда с соседями делятся, чтобы за квартирой присмотрели. У нее цветы-то есть, не знаешь?
— Не помню. Видела только букеты в вазах.
— Слушай, может, она к мужику своему на Украину махнула? А что — взяла дочь и умотала?
— Вряд ли.
— Вот и я думаю вряд ли… Уверена: он уже и тогда был женат.
— Она этого не говорила.
— А она много тебе о себе говорила? Тихушница она. И с головой у нее, сама знаешь, не лады.
— Не лады с головой у каждого второго, — вяло заступилась за бывшую приятельницу Варя.
Но в целом с соседкиным резюме было не поспорить.
Могла ли тогда она, Варя, затюканная со всех сторон молоденькая мать-одиночка, разрываемая долгом и страстью, попытаться предотвратить ту жуть, что случилась в последний день долгожданного отпуска?
Возможно, могла… но как?!
Могла и Маргарита, мог и любой из соседей на пятом, просидевших все лето на дачах, в то время как из угловой квартиры вылезал из-под двери зловонный гнилостный запах.
«Раньше было понятие «общественный», а теперь, Варенька, людьми правит только собственное удобство», — мелькнули в памяти недавние Маргаритины слова.
«Нет, Маргарита Ивановна. Собственное удобство и тогда правило людьми. Оно всегда ими правило и будет во все времена править», — ответила она мысленно соседке.
Как только дождь за окном утих, Варвара Сергеевна попросила счет.
Столик напротив был пуст.
Пока она бултыхалась в своих воспоминаниях, мать с дочерью успели уйти.
«А вечером эта женщина кому-то расскажет, как хорошо сегодня посидела в кафе с ребенком!»
Прежде чем подняться к себе в квартиру, Самоварова решила зайти к Маргарите Ивановне.
Даня проводил с ней все свободное от работы на телевидении время.
С ненормированным графиком — то он был весь день дома, то зависал на телевидении до глубокой ночи.
Инфанта оставила прием в салоне красоты только по тем вторникам, когда Даня работал. Поскольку, как правило, он знал об этом только накануне, пару вторников успело «сгореть». Клиенты не имели возможности связаться с ней напрямую, а менять правила она категорически не хотела — столь тщательно созданная легенда не должна быть разрушена!
Это ведь важнее денег.
Когда она появлялась в салоне красоты, девчонки на рецепции (тоже не знавшие номера ее мобильного) пересказывали, как возмущались те несчастные, что прождали ее в коридоре час, а то и два.
Инфанта теряла заработок, но по сравнению с тем, что давал взамен Даня, это был пустяк.
О покойной, после сорока дней, влюбленные говорили лишь раз, на следующее утро поехав, по настоянию Инфанты, на кладбище.
По дороге, несмотря на сопротивление Дани, подчеркнувшего, что мать всегда была скромна, Инфанта купила огромный букет кроваво-красных роз.
Укладывая букет на свежевырытую, на самом конце лесистого участка бедную могилку, она сама не знала, что это — откуп или подношение.
На могилке стоял наскоро сколоченный кладбищенскими работягами деревянный крест. Она едва скрыла усмешку — поколение покойной, так же, как и ее матери, и твари, большую часть жизни прожило без Бога.
Зато в начале девяностых, пока, на хрен никому не нужная, она загибалась от бесконечных болезней в казенном доме, эти вдруг спохватились и кинулись по храмам — креститься да отмаливать.
Людям, по большому счету, все равно, во что играться — в орден избранных или в принадлежность к древнейшей секте, воспевающей Спасителя, которого они сами же и распяли.
После кладбища поехали в кино.
Даня выбрал дурацкую отечественную комедию, снятую его сокурсником. Перед сеансом купил попкорна и колы.
Прижавшись к его плечу в темном зале, Инфанта от души смеялась над плоскими шутками и предсказуемыми перипетиями героев.
После сеанса, бесцельно пошлявшись по торговому центру, остановились у ларька с мороженым.
Инфанта долго не могла выбрать между фисташковым, малиновым, карамельным и шоколадным.
Даня смеялся, предлагая ей отведать все варианты, а она, отвечая радостным смехом, заигрывала с молоденьким продавцом и зачем-то объясняла ему, что годами сидит на диете и что уже и так поправилась за последние недели почти на два килограмма.
В итоге она взяла два шарика обычного пломбира в хрустящем вафельном рожке, отдаленно напоминавшем тот, из детства, который никогда не покупала мать.
…Крепко замерзший пломбир в покривившемся вафельном стаканчике ей, семилетней, неожиданно принесла в лазарет молоденькая воспитательница с агрессивной тоской в глазах…
Даня, не любивший мороженое, с нежностью наблюдал, как Инфанта, примостившись у ограждения, жадно его поедала, нетерпеливо промакивая салфеткой растекавшиеся по губам и подбородку сладкие ванильные ручейки.
Мимо проходили одуряюще приятные люди — смешливые молоденькие женщины в яркой модной одежде — подружки или спутницы хорошо одетых, подтянутых мужчин. Большинство женщин что-то громко рассказывали, а их мужчины с нежностью и легким снисхождением во взглядах внимали этим эмоциональным потокам.
«Может, и глупо считать, что мужики от природы толстокожи, — думала Инфанта. — Они чувствительны, они эмпатичны, уязвимы и зависят от нас не менее, чем мы от них».
Секс в этот вечер был другим — неторопливым и каким-то вдумчивым.
Животная страсть уступила место диалогу мужчины и женщины как физически, так и буквально — часто прерываясь, они о чем-то ворковали, и это вовсе не мешало им возвращаться к действию, продолжая самое приятное для человеческой породы занятие.
Инфанте пришлось слукавить — она сказала Дане, что завтра, после того как получит взамен просроченного новый паспорт, повысит их билеты до статуса бизнес-класса, поскольку у нее накопилось много полетных миль. И про отель наврала, пояснив, что хозяин турагенства ей чем-то обязан и потому устраивает им люксовый вариант по цене эконома.
Разморенный любовными утехами, он не стал выяснять подробности.
Тяжелый дух покойной продолжал висеть в квартире, но из Даниной, вернее теперь уже «их» комнаты, не выдержав горячечное и радостное биение жизни, ушел.
Засыпая в ту ночь на плече любимого, Инфанта думала о том, что ей как можно скорее необходимо обустроить свою жизнь.
Во-первых, нужно избавиться от Жаруа. У нее, как у нормальных людей, будет приходящая два раза в неделю прислуга, а с остальным она может справиться сама.
Во-вторых, нужно избавиться от Пети. И еще подкупить в дом безделушек, и еще…
Ей снилось, что они, невесомые и счастливые, сидят в спасительной лодочке — теплом, с травами, чане. Сосны вокруг — их стражи, а с неба падает кружевной, молодой снежок.
Не секрет, что влюбленные резко глупеют и становятся беспричинно радостны. Даже наглухо закрытое сердце, стоит отогреть его другим, становится нежным и уязвимым, неверным прежнему себе и доверчивым к тому, кто сумел стянуть с него железный обруч.
Инфанта, избегавшая напрасного общества людей, тех, кто не мог быть ей чем-то полезен, сидела в прогулочном катере и как под гипнозом слушала — не слушая — бесконечные байки, которые травили Данины приятели-телевизионщики.
В компании оказались мужчины разных возрастов и лишь одна девушка, помреж, неприметная и молчаливая. Все внимание мужского пола было приковано к затянутой в темно-синий трикотажный комбинезон, подчеркивающей ее высокую небольшую грудь и длинные стройные ноги Инфанте. На ее губах мерцал красный блеск, а на верхних веках были густо, в духе восьмидесятых, намазаны ярко-синие монотени.
Небогатые, неискушенные неформальным общением с шикарными женщинами телевизионщики отнеслись к ней как к звезде, но она себя таковой не ощущала.
Хохоча над чьей-то очередной историей, Инфанта с легкой грустью думала о том, насколько ее прежний опыт общения с мужчинами был искажен и однобок; эти жизнерадостные, хорошо образованные мужчины смущали ее настолько, что она, тушуясь из-за своей необразованности, боялась вымолвить лишнее слово.
Она не спускала томного взгляда с Дани — довольный и оживленный, он дополнял истории друзей остроумными шутками.
При товарищах он вел себя с ней сдержанно, но когда они ненадолго оказались на палубе одни, крепко прижал к себе и возбужденно поцеловал в зазывно торчащие груди.
В каюте, на прикрученном к полу столе, принялись мешать коктейли.
Томатный сок с текилой, «отвертку» — водку с апельсиновым соком, дешевое игристое с ликером — для молчаливой девушки-помрежа.
Инфанта выбрала текилу с томатом.
Закусывали чипсами и начос.
Проголодавшись, она не побрезговала нехитрой общаговой закуской.
Коктейль, плескавшийся в пластиковом стаканчике, был вкусным, а чипсы, особенно те, что со вкусовыми добавками, еще вкуснее.
Ближе к часу ночи все изрядно захмелели, и самый старший из компании, пожилой звукооператор, наконец вспомнил о цели этого спонтанного путешествия по каналам Невы.
Толкаясь и хохоча, компания повалила на палубу.
Инфанта, забившись в угол, застегивала пальто.
— Боишься замерзнуть? — Даня стянул с шеи шарф.
— А ты? — кивнула она на его голую, хорошо видную из расстегнутой куртки грудь.
Не ответив, он намотал на нее шарф и заботливо, как на ребенке, затянул его сзади на узел. — Пойдем-ка скорее на наружу, а то все пропустим.
На палубе, в успевшей образоваться тесноте и толкотне, они тут же прижались друг к дружке.
Сезон навигации подходил к концу.
Картины разводившихся мостов, под которыми проплывал крытый, взятый вскладчину в аренду катер, вызвали радостные вопли у всех собравшихся, включая тихую девушку.
Все достали мобильные и принялись снимать фото и видео.
Инфанта, застыв рядом с Даней, не смела шевельнуться — под пальто, чуть ниже линии живота, лежала его нетерпеливая мужская рука.
Картина, открывавшаяся перед глазами, была воистину феерической: потускневшие от осенних дождей, подсвеченные множеством фонарей дворцы, казалось, были готовы распахнуть свои двери для бала. Подножия мостов, в ярко-красных лампах, раскрывали свои огромные безобидные пасти.
От Невы шел холодный освежающий пар.
Набережные, мимо которых проплывал катер, были полны ликующих зевак.
Инфанта зачем-то стрельнула у раскрасневшейся от восторга, неожиданно превратившейся из неприметной мышки в красавицу девушки-помрежа ментоловую сигарету и, подержав незажженную сигарету во рту, сунула ее в карман пальто.
Покатавшись до условленного времени, устав и захмелев, компания сошла на берег.
Шутя, зевая и толкаясь, все принялись вызывать такси.
Пропустив клевавшую носом Инфанту вперед, Даня плюхнулся рядом на заднее сиденье и, даже не поинтересовавшись, хочет ли она к нему, назвал свой адрес.
Она положила голову ему на плечо.
Всю дорогу он мягко тискал в руках ее податливое сонное тело.
Поднявшись в квартиру и добредя до дивана, оба наскоро скинули одежду и тут же рухнули в незастланную постель.
Промерзшие и усталые, они крепко обнялись и так проспали до утра.
— Варенька, не мучай ты меня и себя не изводи! Треть века с тех пор прошло, а ты все об этом вспоминаешь.
— Я и не вспоминала. Долгие годы. Сны только видеть начала — вокзалы какие-то, вороны, цыганята… После возвращения в эту квартиру почти каждый день такие сны вижу. Тревожные, мрачные… Проснусь — аж жить не хочется, будто колдует кто.
— В церковь ходила?
— Нет.
— Так иди! Говорила ж я тебе — это их души над тобой измываются.
Варвара Сергеевна тяжело вздохнула.
— Я допускаю существование иного мира, возможно, даже нескольких параллельных миров. Допускаю, что мечущиеся в бесконечности души могут навещать эту землю. Но я категорически не верю в то, что бестелесная душа может силой мысли или чего-то там еще перемещать в пространстве пакеты с мусором, писАть и отправлять электронные письма и… — запнулась она.
— Что еще за письма?
— А… — нервно отмахнулась Самоварова. — Не важно.
— Говорить не хочешь?
— Не хочу.
— Сами не могут. Но не исключено, что могут кого-то заставить это делать.
Не имея ответа, Варвара Сергеевна будто снова пытаясь отогнать от себя что-то невидимое, махнула в сторону рукой:
— Вопрос только в том — за что мне мстить?
— Вопрос неправильный. Это тебе кажется, что не за что. А ты ближе всех к ним тогда была. Наверное, могла предотвратить беду.
— Могла?! — моментально вспыхнула Самоварова. — Могла так же, как и вы, как любой из тех, кто жил в этом подъезде! Я вам еще тогда говорила, Ольга не была моей подругой.
— Варь, да ты будто оправдываешься…
— За что мне оправдываться?! Как вы помните, я единственная, кто впоследствии навещал несчастную девчонку! — продолжала горячиться Варвара Сергеевна.
— Помню, конечно, — с трудом встав с кресла, Маргарита Ивановна схватилась за поясницу и, потирая ее рукой, доковыляла до дивана. Усевшись рядом с Самоваровой, соседка приобняла ее высохшей, с выступающими на запястье синими венозными прожилками рукой. — В первый-то раз мы с тобой вместе ходили… Никогда не забуду глаза тех, в коридорах, детишек… Маленькие, полуголодные, напрасно ждущие чуда…
Слушая старушку, Самоварова в очередной раз задумалась о том, как же избирательна человеческая память. Если бы Маргарита Ивановна не напомнила, она, возможно, так и не восстановила бы в памяти тот факт, что в первый раз пошла в детский дом вместе с ней. Перед глазами ожила картинка: вот она, Варя, все еще загорелая после отпуска, и бодрая сорокалетняя Маргарита выходят из такси. В руках у Вари обрывок клетчатого тетрадного листа с адресом. Таксист помогает выгрузить из багажника несколько увесистых целлофановых пакетов — в них конфеты, фрукты, мягкие игрушки, гэдээровская хвойная пена для ванн будуазан, полпалки «салями». Посылку для сироты, с миру по нитке, собирали тогда всем подъездом…
— Да, конечно… А потом я раза три ходила одна… Передачи брали, а с девчонкой повидаться не давали. Заведующая говорила, мол, если забирать не будете, нечего ей душу травить. А зимой она умерла…
— Варюшка! — Соседка крепко прижала ее к себе и погладила по плечу. — Ни в чем ты не виновата. Ты только не переиначивай мои слова: я всего лишь хотела сказать, что одно и то же событие, один и тот же факт каждый воспринимает по-разному.
— Безусловно. Но воспринимать-то, кроме нас с вами, давно уже некому!
— Слушай… Я вот думаю, может, какой-то родственник через столько лет объявился? Попытался восстановить картину трагедии, решил сделать тебя крайней, ну и мстит таким образом?
— Господи, да за что мне мстить?! — раскрасневшись, негодовала Варвара Сергеевна. — За то, что общалась с Ольгой и один раз имела глупость забрать из детсада ее дочь? За то, что не взяла ее с собой на юг? За то, что носила передачи в детдом?
— Успокойся… Курить, вижу, хочешь. Кури здесь, я хоть подышу! — Маргарита Ивановна привстала с дивана. Кряхтя, проковыляла к югославской, еще «с тех времен» стенке и выудила из парадной, уставленной хрустальной посудой и чайными сервизами секции небольшую пепельницу. — Про юг я ничего не знала. Что за история? — Дрожащей рукой соседка поставила пепельницу на столик.
— Да не было никакой истории, — тут же воспользовавшись великодушным предложением бывшей заядлой курильщицы, Варвара Сергеевна достала из сумочки портсигар. — В тот день, когда я видела их в последний раз перед отъездом, Ольга просила меня взять ее дочь с собой в отпуск. Но я не могла этого сделать, понимаете?! Не могла и не хотела!
— Варюшка, ну вот, опять ты разошлась! — Зажмурив свои выцветшие, но все так же ярко подкрашенные глаза, Маргарита вдохнула в себя порцию дыма. — Какой хороший табак… Правильно делаешь, что опилки не покупаешь. В «Яве» советской и то раньше табак был настоящий, не то, что в нынешних, импортных вонючках. И, не делая паузы, добавила: — Конечно, ты не должна была брать с собой чужого ребенка!
— Сказать по совести, Регина меня всегда пугала. — Застарелое, засевшее где-то глубоко внутри крошечным, но острым камушком, сильно царапало, и Самоварову прорвало: — Взгляд у нее всегда такой был, будто это она за Ольгой присматривает, чтобы не натворила чего. А та все равно натворила… Девчонка как наперед знала!
В день, когда это случилось… Помню, вы позвонили в дверь… Вбежав в квартиру, я, признаюсь, думала о том, чтобы забрать ее к себе. Тельце помню это щуплое, ладошки горячие на моей шее, жмется ко мне, плачет… Я ведь действительно думала ее забрать… А потом вдруг на взгляд ее наткнулась — недобрый, недетский — будто она всю меня насквозь видит… Жутко мне стало!
Варвара Сергеевна раздавила в пепельнице окурок и посмотрела на притихшую Маргариту Ивановну.
— Знаю, не лукавишь, — переварив услышанное, вздохнула соседка. — Сама все видела, помню. Звереныш она была. Ни одна нормальная мать звереныша в дом, где живет любимый ребенок, не впустит. Все ты правильно сделала. Да вот только объяснить это уже некому… Хочешь, завтра вместе в храм сходим?
— Засиделась я у вас, пойду! — Варвара Сергеевна встала с дивана.
Наклонившись к соседке и стараясь не вдыхать в себя запах старого тела, приобняла ее за плечи.
— Завтра не получится. Да и вам, вижу, тяжело ходить.
Маргарита Ивановна глядела на нее по-матерински строго:
— Знаю, ты не особо верующая. Я и сама такая же лет до семидесяти была. А чем ближе к земле, тем яснее чувствуешь: там, — подняла свой сморщенный, крючковатый палец и ткнула им в потолок Маргарита, — однозначно что-то есть. И душа, и жизнь загробная. Погоди, я тебя провожу. Да убери ты руку, мне двигаться надо. Знаешь, как врачи говорят? Движение — жизнь. Может, еще на твоей свадьбе погуляю. Хотя, что сейчас за свадьбы? Расписались да поужинали втихаря в ресторане.
Шаркая следом за ней по коридору, старушка продолжала бормотать ей в спину:
— Ясно одно: ген нездоровый по женской линии в их роду сидел. Валентина-то Петровна, мать Ольги, тоже, хоть и образованная, со странностями была, да ты уж, конечно, не помнишь. А в храм сходить тебе нужно, поняла?
Самоварова неопределенно мотнула головой.
В месть мертвых душ она не верила.
Прикрыв за собой входную дверь, с огорчением отметила, что в прошлую их встречу соседка выглядела намного бодрее.
Люди из прошлого редко нужны в настоящем.
Скучаем мы вовсе не по ним, а по ушедшему времени, в котором были другими.
Бывает, что, лелея в своих воспоминаниях чей-то образ из молодых лет, вдруг, случайно столкнувшись с живым человеком в нынешнем времени, с разочарованным удивлением отмечаем, что этот едва знакомый субъект невыносимо скучен, и уже не можем себе представить, что он обладал теми качествами, которые столько лет приписывала его образу неверная память.
Но Маргарита Ивановна, некогда бойкая женщина, хоть и пугала Варю неизбежностью надвигающейся старости, была для нее необходимым человеком из прошлого.
Дело было в совместно пережитом.
То, с чем они тогда столкнулись, вызвало у обеих (как бы сейчас сказали) сильнейший стресс.
Ни Анька, ни Валера, ни даже Никитин — косвенный свидетель событий тех лет, никогда бы не поняли ее так, как понимала Маргарита.
Копаясь годами в чужих грехах и судьбах, Варвара Сергеевна хорошо знала, что реальность часто оказывается почти нереальной.
Соседкина мысль о том, что за всем этим бездоказательным кошмаром, возможно, стоит какой-то «прозревший» через тридцать с лишним лет родственник семьи Рыбченко, перестала казаться ей такой уж нелепой.
Бывшему следователю оставалось только найти ответ на ключевой вопрос: «Почему именно я?».
Как и тогда, так и теперь Самоварова оставалась при мнении, что виновата в трагедии Ольгина душевная болезнь, незаметное течение которой окружающие принимали всего лишь за странности поведения одинокой пианистки.
Что именно вызвало обострение, толкнувшее несчастную сразу на два преступления — самоубийство и оставление ребенка в заведомо угрожающих жизни обстоятельствах, так и не нашло конкретного ответа. Были лишь сплетни да предположения.
… Дорога в битком набитом возвращающимися курортниками поезде была тяжелой.
Варя и Анюта прибыли на Московский вокзал в начале двенадцатого ночи. В такси, за пять минут домчавшего до дома, дочка успела заснуть. Водитель попался отзывчивый и, не взяв с молодой матери дополнительных денег, донес чемодан и сумки до двери.
На следующий день Варя проснулась в начале девятого.
Дел было невпроворот.
Разобрать чемодан и сумки, что-то по-быстрому перестирать, сходить в магазин…
А самое главное — для того чтобы встретиться и поговорить с Никитиным, как решила, расставив все точки над «i» — нужно было кому-то сбагрить Аньку.
Усевшись на табуретку в коридоре, она набрала номер матери.
Та, как обычно, первым делом пожаловалась на здоровье, и разговор зашел в тупик.
Зато свекровь, от которой помощи всегда было мало, откликнулась и предложила сходить с внучкой в зоопарк.
Варя договорилась встретиться с ней в метро ровно в два.
Разбирая сумки, она корила себя за то, что, поддавшись на уговоры одной «южной» приятельницы, в компании которой они с Анькой покинули пансионат, на кой-то черт набрала на новороссийском вокзале персиков, слив и вишни.
Приятельницу с полными сумками ждала дома мать, а Варе это порядком поднадоевшее за три недели отпуска витаминное изобилие было просто в обузу. Варить варенье и консервировать компоты она не умела.
Отобрав для Анюты самые крепкие и не успевшие помяться дорогой фрукты, она ссыпала оставшиеся в пакет, чтобы вечером отдать хозяйственной, не ей чета, свекрови.
Темная пустая пасть выключенного перед отъездом из розетки холодильника глядела укоряюще.