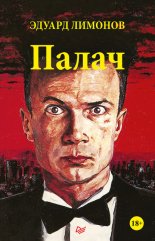Монстролог. Дневники смерти (сборник) Янси Рик
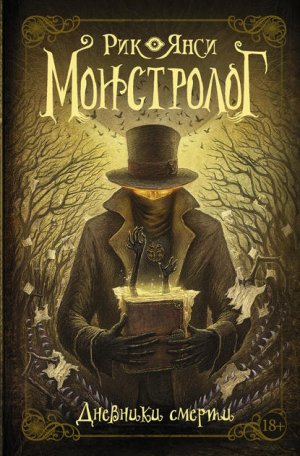
– Живых-то уж точно.
Я засмеялся.
– Я лучше, чем Сэмюэль?
– Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. – Ее теплое дыхание коснулось моего лица.
– Ради него или ради самой себя?
Она вскочила так резко, что я даже моргнул. В дверях стоял Уортроп.
– Уилл Генри, – произнес он тихо. – Где револьвер?
– У меня, – ответила Лили, держа его обеими руками.
– Положите его перед собой на пол, очень медленно, и отойдите.
Я встал, одной рукой сжимая горловину мешка, другую опустил в карман. Уортроп помотал головой. Он шагнул в комнату, за ним шел человек, – в шляпе-котелке, нахлобученной на самые глаза в попытке скрыть лицо, изуродованное шрамами и рытвинами оспы. Свободной рукой он махнул в мою сторону, другой приставил к затылку доктора пистолет.
– Давай его сюда, парень, – сказал он с сильным ирландским акцентом.
– Делай, как он говорит, Уилл Генри! – приказал Уортроп отрывисто. – Пусть он возьмет.
Я протянул мешок незнакомцу. Обогнув доктора, он вырвал его у меня из рук. Лили за моей спиной зашипела. Глаза Уортропа пылали от ярости.
– Большое спасибо! – сказал незнакомец, пятясь к двери. – А это вам за труды!
И он выстрелил, попал доктору в ногу, развернулся и побежал. Я обернулся к Лили – та уже подняла с пола револьвер, бросила мне, я перепрыгнул через Уортропа, который, извиваясь на полу, кричал, чтобы я остановился. Я выстрелил как раз в тот миг, когда человек в котелке уже поворачивал за угол, где находился кабинет куратора. Пуля выбила кусок из стены Монстрариума. Я добежал до подножия лестницы; пуля просвистела возле моего уха, попала в ящик. Грохнула, врезавшись в стену, входная дверь; я взлетел по лестнице на первый этаж и промчался через холл так стремительно, что она не успела затвориться, и я заметил угол холщового мешка, выскочил на улицу и увидел того, в шляпе, – он как раз садился на одну лошадь с другим человеком, тоже в котелке, и я снова выстрелил, лошадь рванулась и загремела копытами по граниту под дымчатыми арками фонарей и голыми ветвями деревьев, словно выжженных кислотой на зимнем небе.
Я бросился назад, в Монстрариум. Хотя, если подумать хорошенько, зря спешил.
Уортроп сидел, привалившись спиной к тому ящику, возле которого еще совсем недавно сидел я, а Лили перетягивала ему ногу над раной. Жгутом послужила ее пурпурная лента. Лицо Уортропа, мокрое от пота, омрачилось, едва я появился в дверях.
– Ну? – рявкнул он. – Где он?
– Ушел, – выдохнул я.
На миг мной овладел, совершено иррациональный страх: мне показалось, что он сейчас схватит револьвер и выстрелит мне в лоб. Я прямо видел, как отравленной стрелой пронеслась в его мозгу эта мысль. Но он только поднялся на ноги.
– Что? – начал я, интуитивно отступая назад. – Вы же сами сказали мне отдать его.
– Нет, – отвечал он голосом холодным, точно змея. – Я сказал тебе: «пусть он возьмет», а это совсем другое дело, можно сказать, прямо противоположное.
Уортроп был смертельно бледен и едва держался на ногах. Лили шагнула к нему, предлагая опереться на нее, но он только отмахнулся.
– Это ситуация первого уровня опасности, а вы стали Пандорой нашего времени, мистер Генри.
– Но он же приставил к вашей голове револьвер, – рявкнул я. – Что мне еще было делать?
– Дать ему вышибить мне мозги, но не отдавать Т. Церрехоненсиса, конечно! – заорал он, пораженный моей тупостью. – Моя жизнь ничто…
Я кивал. Я был с ним абсолютно согласен. Тем не менее я все же предложил, чтобы мы со всей возможной поспешностью отправились в госпиталь Бельвью.
– Зачем? – спросил он, бледный как смерть. Он шатался, его ботинок потемнел от крови.
– Затем, чтобы вытащить пулю из вашей ноги…
– Нет, я должен немедленно мчаться к фон Хельрунгу, а ты – поднимать тревогу.
Он шагнул ко мне – точнее, к выходу, который я загораживал. Я не двинулся с места. Он был выше меня примерно на дюйм и смотрел сверху вниз, буравя взглядом, но я не пошевелился.
– Отойди, – сказал он.
– Не отойду, – ответил я.
– Отойдешь, или я пристрелю тебя. Богом клянусь, пристрелю.
– Тогда стреляйте, только смотрите, не промахнитесь, доктор.
– Вы – никудышний охотник. – Лили заговорила, чтобы заполнить паузу, или спасти меня от пули, не знаю. – Я отвезу вас в госпиталь, доктор Уортроп. А Уилл с дядей Абрамом соберут пока поисковую партию, – разумеется, поставив сначала в известность полицию.
Тут мы с Уортропом закричали в один голос:
– Нет! Никакой полиции!
Монстролог поддался на уговоры Лили, принял ее предложение и ее протянутую руку, и они вместе стали подниматься по лестнице.
– Ты совершил ошибку, – бросил он мне, уходя. – И не впервые.
Я мог бы ответить ему, что результатом моей так называемой «ошибки» стало продолжение его бренного существования, но придержал язык – как делал часто. Любой ответ привел бы только к контрответу, и контр-контрответу, и так далее, до тошноты, а мне и так уже не раз приходила в голову мысль о том, что мы с ним ссоримся, как старая супружеская пара. А еще я подумал, что под ошибкой он вполне мог иметь в виду именно продолжение его бесполезного существования.
Пеллинор Уортроп всегда был немного влюблен в смерть.
Плюх. Шмяк! Плюх. Шмяк!
В подвале дома на Харрингтон-лейн.
Плюх. Шмяк! Плюх. Шмяк!
Движение отработанное и быстрое, тренированная рука крепко хватает тонкий безволосый хвост большим и указательным пальцами, выдергивает грызуна из клетки, плюхает его на деревянную доску, молоток с заостренным концом описывает в воздухе сверкающую дугу и с приглушенным шмяк! наносит грызуну смертельный удар в голову.
Плюх. Шмяк! Плюх. Шмяк!
Крошечные коготки тщетно царапают воздух, беззвучно открывается и закрывается пасть, шелковистая шерстка взблескивает в свете лампы.
– В первые дни жизни он падальщик, – объясняет Уортроп. – Пока не подрастет и не наберется достаточно сил для охоты на живую еду.
Плюх. Шмяк! Удар должен быть достаточно сильным, чтобы убить сразу, но не слишком резким, чтобы не брызнула кровь. Деликатное убийство, нежный замах. И череда трупиков, пухленьких мертвых тел с расплющенными головками.
Он должен был вылупиться на рассвете, и монстролог, как заботливая мать, знал, что его чадо появится на свет голодным.
– При должном питании он должен расти экспоненциально, – продолжает он. – По футу в неделю – он будет больше тебя, когда я представлю его Обществу.
– А каков его настоящий рост?
Глаза Уортропа вспыхивают в свете нагревательной лампы. Лицо блестит от пота – и монстрологической экзальтации.
– А вот это как раз и есть один из наиболее загадочных вопросов в аберрантной биологии. Самый крупный известный экземпляр достигал пятидесяти четырех футов в длину и весил около двух тонн, хотя считалось, что ему всего год от роду! Некоторые даже всерьез полагают, что у Т. Церрехоненсиса нет предела роста. Он растет на протяжении всей своей жизни, и если бы не хищники и ограничения, накладываемые средой обитания, то он мог бы превзойти размерами все живые существа на Земле, включая синего кита.
– Хищники? Кто же может охотиться на тварь таких размеров?
Он закатывает глаза.
– Хомо сапиенс. Мы.
Плюх. Шмяк! Как будто задуваешь свечу ударом кулака.
– Значит, если его вовремя не убить, то наш новичок вырастет настолько, что сожрет весь мир?
Он усмехается.
– Полагаю, когда-нибудь дело дойдет и до этого, вот только неясно, кто уничтожит мир первым – он, мы, или какой-то третий вид. В том, что рано или поздно мир будет уничтожен, я не сомневаюсь. Вероятно, тебе уже приходило в голову, что жизнь вообще проект самоуничтожающийся.
Плюх. Шмяк!
И монстролог, быстро и уверенно взмахивая руками, которые казались теплыми при свете лампы, цитирует одну из своих любимых книг:
«За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей»[165].
Он со смехом добавляет:
– Не говоря уже о людях и мышах!
И вот панцирь трескается. Из трещины сначала вытекает густая желтоватая жидкость, следом появляется рубиново-красный рот и круглая черная голова с мой кулак размером, а уж затем зубы, бледные, бесцветные, словно сухая кость: жизнь, неумолимая и самоуничтожающаяся, начало, заключающее в себе свой конец, с острым запахом свежевспаханной земли и немигающими янтарными глазами.
Рядом со мной монстролог выпускает давно сдерживаемый вздох.
– Узри: сие ужасная благодать Божия, из которой исходит истина!
Узри ужасную благодать Господа.
Ягнята в стойле старой конюшни блеяли жалобно, их черные глазки блестели в водянистом зимнем свете. Они плакали не от голода; они были откормленные, упитанные; каждая головенка казалась мелковатой для округлившегося тельца. Они плакали не от голода, а от страха. Я был незнакомец. Чужой. Их ноздри трепетали, оскорбленные моим неизвестным запахом. Я был не тот худой, сутулый мужчина в ветхом белом халате, который приносил свежее сено, овес и воду. Не тот, кто убирал стойло и стелил свежую солому. Не тот, кто заботился о них, защищал, закармливал до того, что бока болели от обжорства.
Я схватил с крюка лопату и ринулся прочь из конюшни.
Земля была твердой; мои руки нежными. Я не привык к физическому труду. Плечи скоро заломило; ладони жгло, как огнем. Ноги и сердце онемели.
Что за ужасная благодать двигала тобой, Уортроп? Стала ли Беатрис барашком, вроде тех, в стойле, или она слишком много видела? Милосердие монстролога почти так же холодно, как божественное, – быть может, тебе пришлось убить ее, чтобы избавить от более мучительного конца?
Сухой ветер подхватил и закружил еще теплый пепел, громыхнул покосившимся ставнем в облупившуюся крашеную стену, а у меня оставалось еще целых две канистры керосина, гора дров и гвозди, так что все еще можно было сделать: заколотить входную дверь досками, замуровать его внутри; от трухлявого старого дома в минуту и головешки не останется.
«Беги, Уилли, беги!» – из огня кричала мне моя мать.
Нет места жалости и горю, и прочей человеческой сентиментальщине, но справедливость не сентиментальна. Справедливость холодна и неумолима, как льды Джудекки.
Скажи мне, отец; скажи мне, что ты видел.
Часть третья
Абрам фон Хельрунг мощно выдохнул, не выпуская изо рта сигары; широко расставив крепкие ноги и нервно подрагивая плечами, он наблюдал утреннюю толчею на тротуарах из окна своего каменного дома на Пятой авеню. Солнечный свет придавал его лицу с темными ложбинами морщин сходство с каменистым ландшафтом. Его глаза, обычно яркие, как у птицы, сейчас отдавали расплывчатой голубизной зимнего небосклона.
– Беда, – бормотал он. – Беда!
– Бедой принято именовать последствия непредвиденной катастрофы, – пропищал с дивана за его спиной Хайрам Уокер. – Я же с самого начала предупреждал, что размещение экземпляра Т. Церрехоненсиса в Монстрариуме…
– Уокер, – процедил монстролог сквозь стиснутые зубы. Он стоял у камина, как воплощение истинной ярости. – Заткнитесь.
Англичанин шумно шмыгнул носом. Рядом с ним сидел его ученик, Сэмюэль Посредственный, и злобно пялился на меня. Вся левая сторона его лица распухла. Не исключено, что я сломал ему челюсть; во всяком случае на это надеялся. Есть люди, к которым с первого взгляда проникаешься искренней антипатией без всякой своей на то воли. Думаю, я бы ненавидел его, даже если бы он уступил мне на балу.
– Не будем тыкать друг в друга пальцами, это не решит проблему, – заметил доктор Пелт. Он изящно разместил свое большое костистое тело на козетке и пил кофе из чашечки, которая казалась игрушечной в его огромных руках. Коричневые капельки повисли на его пышных, словно куст, усах.
– Верно, – согласился сэр Хайрам. – Прибережем обсуждение последствий кое-чьих действий до конца программы.
– Кое-чьих действий? О чем это вы? – вскинулся Уортроп. – Я поступил абсолютно правильно.
– Вы привезли его сюда. Вы решили засунуть его в Монстрариум. Это же ваш «трофей», не так ли?
Уортроп побледнел. Доктора, занимавшиеся им в Бельвью, настоятельно рекомендовали ему избегать всяческих нагрузок, – точнее, решительно прописали ему постельный режим, – и хорошо, иначе увесистый бюст Дарвина с каминной полки полетел бы кое-кому в голову.
– Хайрам, – сказал он ровным голосом, – вы бесхребетная особь, лишенная воли и подбородка, помесь человека с губкой, а интеллект у вас как у морского огурца, но я не сержусь на вас за это. В конце концов, человек не властен выбирать себе мать.
Пуговичные глаза Уокера стали еще больше похожи на пуговицы, его рот беззвучно задергался, губы приоткрылись, обнажая желтые кривые зубы. Лили рядом со мной подавила смех. Я не стал сдерживаться.
– Смейтесь надо мной, Уортроп, смейтесь сколько хотите. Посмотрим, кто услышит ваш смех, когда он будет доноситься с Блэквел Айленда!
– Это вы во всем виноваты, фон Хельрунг, – заявил монстролог старому австрийцу.
– Я? Почему я?
– Вы его пригласили.
– О, а я уж думал, вы хотите сказать…
– От этого человека толку, как… – Уортроп запнулся в поисках подходящей метафоры.
Пелт предложил свой вариант:
– Как от козла молока.
– Джентльмены, прошу вас, – мягко корил их фон Хельрунг. – Мы здесь не для того, чтобы обсуждать достоинства доктора Уокера.
Плечи Лили ходили ходуном. Еще немного, и она рассмеется во весь голос. Я успокаивающе похлопал ее по руке.
– Что сделано, то сделано, – сказал монстролог из Аргентины, сосед Пелта; его имя – Сантьяго Луис Морено Акоста-Рохас – было больше него самого. Доктор считал его безнадежным спорщиком и упрямцем, но даже он признавал авторитет Акоста-Рохаса во всем, что касалось Т. Церрехоненсиса. – Тыкать пальцами и перекладывать вину друг на друга – не лучше, чем доить гипотетического козла. Утраченного этим не вернуть. А вернуть его мы обязаны, причем быстро! Перед нами две одинаково страшные возможности: либо воры потерпят неудачу с украденным ими существом, либо, наоборот, преуспеют. Если оно сбежит, погибнут люди. Если нет, еще больше людей станут жертвами пагубной привычки к его яду.
– Вы не сказали о наихудшей возможности, – заявил Уортроп. – Его могут убить.
– Что ж, теперь мы знаем, зачем его похитили, – сказал Пелт. – Осталось только понять, кто.
– Преступные элементы, – фыркнул Уокер с видом человека, сообщающего очевидное. – Мертвые Кролики, скорее всего, если судить по ирландскому акценту, который описывал Уортроп.
– Кха! – каркнул фон Хельрунг. – О «Мертвых Кроликах» с семидесятых годов никто не слышал.
– Гоферы, – предложил Пелт. – Как, по-вашему, Пеллинор?
Монстролог напрягся; он помрачнел так, словно Пелт бросил ему личное оскорбление.
– Гадать на кофейной гуще не в моих правилах. Возможно, мы имеем дело с бандой, или даже двумя, судя по тому, что в процессе совершения преступления одному из бандитов выстрелили в затылок. Однако нельзя упускать из виду и то, что всякий, у кого найдется двадцать свободных долларов и десять минут, чтобы дойти до Пяти Углов, может нанять там сколько угодно распоследних негодяев для этой или любой другой работы, причем без всяких знакомств в криминальном мире. – На нас он не смотрел. Его взгляд был устремлен в пустые глаза Дарвина, пальцем он гладил своего героя по мраморному носу. – Так что главный вопрос не в том, кто или почему, а как. Как эти безграмотные бандиты прознали о сокровище, хранящемся в святая святых Комнаты с Замком?
Вопрос повис в воздухе. Фон Хельрунг сразу понял его подоплеку, и его обширная, точно бочонок, грудная клетка раздулась так, что с жилета едва не посыпались пуговицы. Сдвинув губы, будто собираясь свистнуть, он все же воздержался от отповеди, ожидая, когда Уортроп закончит:
– Доктор фон Хельрунг поправит меня, если я ошибаюсь в подсчетах, но, по-моему, всего шесть человек знали о той особой презентации, которую я готовил для этого совета. Один из них мертв. Остальные в этой комнате.
Акоста-Рохас вскочил, точно ужаленный; ножки его стула заскребли по паркету.
– Я глубоко оскорблен подобными подозрениями!
– Разве предать доверие не более оскорбительно, чем намекнуть на такую возможность? – парировал Уортроп.
– Ну, ну, не надо спешить с выводами, майн фройнд, – запротестовал фон Хельрунг, размахивая перед собой пухлыми руками. – Мы все здесь люди почтенные. Ученые, а не искатели выгоды.
– Ничего удивительного, – объявил Уокер во всеуслышание. – Созерцание худших сторон природы извратило его восприятие природы человеческой.
– Избавьте нас от ваших банальностей, Уокер! – воскликнул доктор. – Все мы здесь изучаем самые совершенные творения природы, но это не имеет отношения к делу. Разум не хорош и не плох сам по себе; почему же тогда им обладают не все люди? Думаю, что Адольфа из числа возможных предателей можно исключить. У него не было мотива. Он шестьдесят лет имел доступ к любым сокровищам, большим и малым, и ни разу не попытался извлечь из этого выгоду.
– По мне, так наиболее вероятный подозреваемый и есть самый очевидный, – сказал Пелт. – Тот тип, Метерлинк, или его таинственный наниматель. Вряд ли они обрадовались, когда вы отклонили их предложение. А уж приехать за вами в Нью-Йорк и вызнать местопребывание Т. Церрехоненсиса для них труда не составило бы.
Тут заговорил я:
– Невозможно. Метерлинк в Лондоне.
– А вы откуда знаете, что он именно там? – спросил Акоста-Рохас, подозрительно прищурившись.
– Ему больше некуда было податься, – ответил я уклончиво.
– Очень странно, – сказал Уокер, – что ученик доктора Уортропа в курсе передвижений таинственного мистера Метерлинка. Любопытно, что еще ему известно.
– Уокер, я даже не знаю, что считать более оскорбительным, – зарычал Уортроп. – Ваш намек на возможное предательство мистера Генри неуместен!
– Хватит! – воскликнул фон Хельрунг, в порыве отчаяния ударяя себя в грудь. – Ваша грызня и детские оскорбления ни к чему не приведут. Мы все здесь друзья, по крайней мере, коллеги, и я готов поклясться честью – даже жизнью, – что в этой комнате предателей нет. При всем уважении к вашему мнению, Пеллинор, нас сейчас должно больше всего заботить не зачем, не кто и не как, а где. Остальное подождет.
– Этим нам и следует заняться, причем быстро, – поддержал его Пелт. – Ведь похитители могут быть уже на полпути в Роаноак, мы же не знаем.
– Роаноак? – переспросил Уортроп.
– Такая пословица.
– Странно, никогда не слышал, – сказал Акоста-Рохас.
– Вы же из Аргентины, что тут удивительного.
– Мне она тоже кажется странным, – сказал Уокер с подозрением. – Почему именно Роаноак, что это за место такое?
– Да первое, какое пришло на ум! – взвился Пелт. – Что тут особенного?
– Пословицы никогда не приходят на ум случайно, – пояснил Акоста-Рохас. – Иначе они не были бы пословицами.
Но чаша терпения Уортропа переполнилась. Даже он, похоже, осознал, что перебранки и подозрительность в такой ответственный момент ни к чему не приведут.
– Фон Хельрунг, боюсь, нам не обойтись без помощи властей, – деловито сказал он, поворачиваясь к своему бывшему наставнику. – Надо аккуратно задать несколько вопросов представителям определенных кругов администрации Нью-Йорка.
Мейстер Абрам серьезно кивнул и перекатил огрызок толстой сигары из одного угла рта в другой.
– У меня есть на примете человек – надежный, не слишком любопытный. Его как раз только что назначили следователем.
Уортроп громко расхохотался.
– Ну, еще бы!
– Одну минуту. – Акоста-Рохас был в шоке. – Вы собираетесь привлечь к делу полицию?
Монстролог не удостоил его взглядом. Он продолжал говорить с фон Хельрунгом.
– Расследование убийства может поставить нас в неловкое положение.
– Несомненно, майн фройнд, но я же не глупец, чтобы заявлять о нем!
Мы с монстрологом вернулись в «Плазу», чтобы сменить фраки на более подходящую одежду, а фон Хельрунг отправился в полицию, захватив с собой Лили, чтобы попутно завезти ее домой, в Риверсайд. Та не спала уже сутки, но все еще была бодра и полна сил – когда начиналась охота, она не уступала выносливостью самому Уортропу.
– А женщине дадим уютную грелку и отправим спать, поцеловав на прощание! – буркнула она на пороге. Ее платье было в пыли Монстрариума, прическа растрепалась, локоны цвета воронова крыла уныло повисли. Но глаза по-прежнему горели знакомым огнем. Я нежно потрепал ее по плечу и поцеловал в щечку. Но, вопреки моим надеждам, она не развеселилась, а, наоборот, сильно наступила острым каблучком мне на ногу.
– Не пытайся быть обаятельным, тебе это не идет, – сказала она.
– Отдохни, Лили, – ответил я. – Если получится, я позже к тебе зайду.
Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила:
– Зачем?
Даже будь у меня готов ответ – которого не было, – я все равно не успел бы его дать, потому что из-за угла вдруг вынырнул Сэмюэль, все еще франтом, в пальто и фраке, хотя и с распухшей челюстью.
– Вы все еще должны мне танец, мисс Бейтс. Я помню, – сказал он, немного шепелявя. Приложился к ее ручке, а уж потом повернулся ко мне. Его обезображенный рот скривился в гнусной пародии на улыбку.
– Нас, кажется, не представили, старина. – Похоже, его рот открывался не больше, чем на полдюйма. – Моя фамилия Исааксон.
Я не видел, как он нанес удар. Заметил только, как он двинул бедрами, вкладывая всю силу корпуса в движение руки; наверное, учился боксу. Стены в доме фон Хельрунга завертелись; я рухнул на персидский ковер, прижав руки к солнечному сплетению. В мире кончился кислород. Исааксон торчал надо мной, весь черно-белый, с головой как тыква.
– Бойцовый пес Уортропа. – Он ощерился на меня. – Персональный ассасин. Я слышал о тебе и Адене, и о русских во время Тур дю Силенс, и об англичанине в горах Сокотры. Скольких еще ты отправил на тот свет по его заказу?
– Одного ты пропустил, – выдохнул я. – Но Уортроп тут ни при чем.
Трудно смеяться от души, когда у тебя не открывается рот, но Исааксон как-то умудрился сделать это.
– Надеюсь, Чулан Чудовищ тебе по нраву, Генри. В один прекрасный день ты сам станешь экземпляром в этом бестиарии.
Он легко перешагнул через меня, сбежал по лестнице к выходу и подозвал такси. Лили помогла мне встать; ее душил то ли смех, то ли слезы. Я так и не понял, что именно.
– Ты и теперь считаешь его посредственностью? – спросила она.
– Дело не в том, как именно он мне врезал, – ответил я. – А как я упал.
– О, ты рухнул великолепно, – тут она все-таки засмеялась. – Такого впечатляющего падения я не видела никогда в жизни.
Не знаю, что было тому причиной – может, ее смех, приятный, как звон монет, падающих на серебряный поднос, – но я вдруг поцеловал ее, хотя мне по-прежнему не хватало воздуха, и чуть не задохнулся от удовольствия.
– Меня немного беспокоит связь между насилием и любовью, – прошептала она мне в ухо, – которая явно присутствует в вашем сознании, мистер Генри.
Тут я даже обрадовался, что дышу с трудом и не могу ответить.
– Это Уокер, – сказал я Уортропу на пути к «Плазе».
– Очевидно, – согласился он. – Его любовь к роскоши намного превосходит его способность обеспечивать себе соответствующий образ жизни – вот почему меня всегда удивлял его выбор профессии. Монстрология – не самый короткий путь к богатству.
– Пока не подвернется экземпляр, чей яд дороже брильянтов.
Он кивнул и неопределенно фыркнул.
– Нельзя исключать и Акоста-Рохаса. Никто так не жаждал поймать живого Т. Церрехоненсиса, как он, это всем известно.
– Именно поэтому его и следует исключить. Будь у него в руках яйцо Т. Церрехоненсиса, уж он бы точно с ним не расстался.
– Все равно это один из них, или никто, – буркнул Уортроп сердито. – Фон Хельрунг вечно болтает. Наверняка это он разболтал, а теперь даже не помнит, с кем говорил об этом, и говорил ли вообще. – Он вздохнул. – Ирландские бандиты! Не менее глупо предполагать, что за этим стоит Метерлинк или его клиент – если таковой вообще существует.
Он барабанил пальцами по колену, глядя в окно. Экипажи уворачивались от автомобилей, те и другие объезжали редких велосипедистов и невесть откуда выныривавших пешеходов. Раннее утреннее солнце золотило здания вдоль Пятой авеню и покрывало медью гранитную мостовую.
– Зачем вы туда пошли? – спросил он вдруг. – Как вы с Лили Бейтс оказались в Монстрариуме?
У меня загорелись щеки.
– Поздороваться с Адольфом. – Я вздохнул. Что толку увиливать? – Я хотел показать ей Т. Церрехоненсиса.
– Показать что…? – Он явно мне не поверил.
– Она… любит такие вещи.
– А ты? Что любишь ты?
Я знал, на что он намекает.
– Мне показалось, что мы закрыли эту тему еще на балу.
– После чего ты пошел и сломал челюсть ее партнеру. – Почему-то мое замечание показалось ему смешным. – Да и вообще, насколько я понимаю, эта тема неистощима.
– Только не для вас, – напомнил ему я.
– Да, из-за любви я едва не утонул в Дунае.
Я мог бы сказать ему, что не из-за любви он сиганул тогда с моста в Вене – по крайней мере, не из любви к другому. Отчаяние – глубоко эгоистичный ответ на удары, которыми осыпает нас судьба.
– Что ж, ваше появление в логове монстрологов оказалось как нельзя кстати, – сухо заметил Уортроп. – Еще минута, и было бы поздно! Также и мой друг успел тогда вытащить меня из воды прежде, чем меня подхватило и понесло течение.
– Лучше любить, но потерять…[166]
Тут уж он не выдержал и взорвался, поэт-неудачник:
– Ты еще будешь стихи цитировать? Зачем – подразнить захотелось? Кто из нас более жалок, Уилл Генри: тот, кто любил и потерял любовь, или же тот, кто не любил совсем?
Я отвернулся, мои руки, лежавшие на коленях, сами собой сжались в кулаки.
– Идите к черту, – буркнул я.
– Можешь сколько угодно утешать себя тем, что лучше любить и потерять любовь, но помни – самый невинный поцелуй может таить смертельный риск для твоей возлюбленной. Никто точно не знает, как именно Биминиус аравакус переселяется от хозяина к хозяину. Так что в твоей страсти – семена гибели, а не спасения.
– Только не надо говорить мне о гибели! – крикнул я. – Мне ее лик знаком лучше, чем кому-либо, – и уж конечно, лучше, чем вам!
И тогда он начал цитировать из «Сатирикона» – видимо, чтобы поквитаться со мной:
– «А вот еще, Сивилла Кумская: я ее своими глазами видел, подвешенную в бутылке; мальчишки спрашивали ее: «Сивилла, Сивилла, чего ты хочешь?», а она отвечала: «Смерти».
Мальчик в вязаной шапчонке, мужчина в запачканном халате и существо, запертое в банке.
Шр-р-р, шр-р-р.
Я спрятал от него лицо, но он повернулся ко мне и заговорил, наклонившись так близко, что я чувствовал его дыхание на своей шее.
– Можешь пренебречь любыми советами, которые я давал и еще дам тебе в жизни, но этот ты должен навеки запечатлеть на скрижалях своего сердца. Любовь приходит, не спрашивая нашего согласия; но ты, ради самой любви, должен дать ей уйти. Отпусти ее, Уилл. Дай себе зарок никогда больше не встречаться с этой девушкой, и ни с какой другой тоже, ибо боги не мудры, а природа не терпит совершенства.
Я горько рассмеялся.