Сын ведьмы Вилар Симона
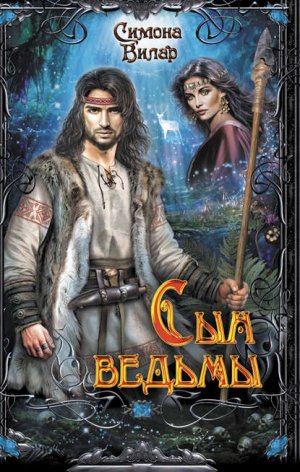
– Благослови тебя Господь, посадник! Горжусь, что судьба свела нас вместе.
Там и другие обступили. А потом он увидел улыбающуюся Забаву и какое-то время просто не мог отвести от нее глаз. В лохмотьях, закутанная в какие-то шкуры, но до чего же хороша! Так бы и расцеловал… да и она не против. Но тут толклись еще эти пленники, и у Добрыни сжалось сердце при взгляде на них – изможденные, с трудом возвращающиеся к жизни, некоторые совсем седые, несмотря на молодые лица, пока еще полные горечи и страдания.
– Ты сразил Кощея, Добрыня?
Это Малфрида спросила. И не было в ее голосе радости. А ведь она могла бы и порадоваться за сына. Сейчас же сторонилась, смотрела исподлобья.
Он не стал ей ничего объяснять. Успеется. Сейчас ему было просто хорошо с людьми. После мрака подземелья так приятно посидеть у костра, выпить горячего отвара – это Сава насобирал ягод, сделал густое ароматное пойло. А вскоре и грибная похлебка с глухарем подоспеет.
– О, как я понял, ты успел поохотиться, святоша?
– Это нетрудно. Птица тут вообще не пуганая. Мог бы и оленя у ручья завалить, да только чем? Камнем из пращи его скорее спугнешь.
Добрыне было приятно видеть улыбку парня, приятно держать руку Забавы в своей. А вот Малфрида по-прежнему сторонилась, приглядывалась к нему, как ранее это делал Мокей. Сейчас она все больше держалась рядом со своим кромешником. А тот словно изменился, оказавшись среди людей. К удивлению Добрыни, его темные провалы глаз исчезли, и теперь стало заметно бельмо на полуприкрытой веком, пересеченной шрамом глазнице. Зато другой глаз – серый, прозрачный – смотрел на Малфриду тепло и нежно. Она же потом смастерила ему повязку из обрывка ткани, перевязала слепую глазницу.
– А если опять кромешное в нем проявится? – не удержался от вопроса Добрыня. – Если мрак снова из него попрет?
– Ну тогда ему повязка больше не понадобится, – легко отозвалась Малфрида.
Добрыня только хмыкнул. Да ну их… его родителей. Ему вообще о другом поговорить надо. Кто же даст лучше совет, как не темная ведьма, сама порождение хозяина Кромки?
Но и Малфрида желала переговорить с сыном без посторонних. Она жестом велела ему следовать за собой, увела подальше к реке. Розоватый солнечный свет еще алел над ними. Облака уходили, алый диск солнца клонился, почти касаясь горного хребта. Смотреть на него было не больно, даже приятно. Иногда только шевельнется, вспыхнет живой луч, но сейчас же тухнет, как конвульсия умирающего.
– В наших краях все иначе, – вздохнул Добрыня. Домой-то как хотелось!
Они расположились на камнях над рекой. Вода в ней была кристально чистой, журчащей. Не скажешь, что где-то неподалеку бурлят вонючие желтые воды Смрадной. Хотя ветер порой и сюда приносил ее тухлый запах.
– Мокей сказал, что ты не сразил Кощея, – начала Малфрида. – Это хорошо. И я вот что скажу: сейчас, когда его сила не набрала прежнюю мощь… давай просто уйдем? Погонится он за нами или его удержат за Кромкой подземные сокровища, но надо попытаться скрыться от него. Может, и получится у нас.
Добрыня поправил пояс с мечом, огладил его рукоять любовно.
– Нет, Малфрида. Я не могу так просто уйти. Вот вы уходите. Это будет разумно. А я слово Кощею дал, что мы продолжим единоборство.
И поведал ведьме, как и что происходило во время их боя, как они условились с Темным о новом поединке.
Она слушала внимательно, глаза блестели, порой закусывала губы, вздыхала.
– И ты готов выполнить договор, заключенный с поганым? Кто он и кто ты? Ты – русский витязь. И должен остаться таким, должен вернуться в свои края. Тебе было предначертано прославиться, и ты сделал почти невыполнимое. Освободил людей, ослабил Бессмертного. Если же снова пойдешь в бой… ох, будет тогда беда!..
И поведала, что узнала от Мокея. О том, что даже если Добрыне удастся сразить Бессмертного, тот не исчезнет. Не может живущий вечно пропасть, даже если разрубить его кладенцом. И в момент гибели его дух легко переселится в самого погубителя. Кем тогда станет Добрыня? Уйдет вместо Кощея за Кромку? Продолжит жить его жизнью? Это ли надо Добрыне?
Он долго молчал. Когда же заговорил, голос его звучал тихо и смиренно:
– Я все же попробую. Ты пойми, несмотря ни на что, Кощей был со мной по-своему честен. И я это ценю. Поэтому не стану изворачиваться и избегать встречи с ним. Есть у нас уговор – встретиться через седмицу и докончить начатое. И я его не обману. Он знает, что я не отступлюсь.
– Даже если он заполонит тебя? Если подчинит твою душу, как сказано в предании, и сам станет тобой? – Малфрида смотрела на сына с удивлением. – Скажи, Добрыня, неужели тебя не страшит такой исход? Что для тебя страшнее такой участи?
– Потерять честь! Поэтому не мешай мне. Я в любом случае постараюсь не поддаться Кощею, но отступать и сбегть не стану. Это бесчестно. У меня есть еще семь дней, и я буду готов к тому времени.
– Хорошо, что ваш поединок только через седмицу, – задумчиво произнесла Малфрида. И спросила: – Но как ты догадался назначить время через семь дней?
Добрыня пожал плечами. Как? Сказал первое, что в голову пришло.
– Добро, – только и отозвалась Малфрида. И вдруг рассмеялась: – Никогда не думала, что такое скажу, но я даже твоего Бога готова благодарить за твой выбор в семь дней. Значит, есть на то Его промысел.
Когда темная ведьма такое говорит, впору изумиться. И Добрыня смотрел на Малфриду изумленно и растерянно. Она же ласково погладила его по щеке и ушла под темные лапы елей, растворилась в лесном сумраке.
После этого она редко выходила к людям, все больше сторонилась их, общаясь только со своим кромешником.
Добрыня же оставался с людьми. Была ли в нем Кощеева сила или своя собственная, как уверял Мокей, но ему было легко с обычными смертными. Пусть и не совсем обычными, учитывая, что с ними приключилось за Кромкой. И он с интересом слушал их рассказы о том, как и кто попал к Кощею. Освобожденные варяги, как выяснилось, оказались у него в попытке совершить подвиг и прославиться, однако не устояли против колдовской мощи Темного. Был среди освобожденных и лях кузнец, который ранее так похвалялся своим мастерством, что заинтересовал Кощея, и тот утащил его за Кромку, желая заставить себе служить. Однако лях заупрямился, вот и попал в лед, дескать, до той поры, когда образумится. А сколько кузнец пробыл в ледяном сне, сам не ведал, как и не ведал, что сейчас в мире происходит.
Был среди пленников и черноглазый хазарский шаман, оказавшийся у Кощея из-за того, что пытался научиться темным заклинаниям, да невольно выкликавший из-за Кромки ее властелина. Вот Кощей с ним и позабавился, а потом за ненадобностью покрыл льдом.
И все эти пленники никак не могли опомниться, поверить, что вернулись в мир, и смотрели на Добрыню или того же Саву как на посланцев богов. Или Бога, как пояснял им Сава. А пояснять он мог умело и душевно, и все они слушали его рассказ о Боге Творце, вера в которого нынче растет по миру, завоевывает сердца людей.
Добрыне тоже приятно было слышать негромкий, мягкий голос вдохновенно проповедовавшего священника. Но еще приятнее было, когда рядом садилась Забава. Девушка куда меньше других пробыла в ледяном плену, силы к ней возвращались быстрее, чем к этим бледным, изможденным мужчинам. Она льнула к своему спасителю, смотрела на него светящимися от счастья глазами. Добрыне нравилось, когда она перебирала его волосы, напевала что-то тихонько, ластилась. Ох и прижал бы он ее, ух и покрыл бы с горячей страстью! Однако опасался, что плотская близость умалит его чародейскую силу. Вон Малфрида всегда обычной становилась, когда зов плоти побеждал в ней стремление к волшебству. Наверное, и Добрыне этого сейчас нельзя. И он лишь смотрел на солнце, гадая, какой сейчас день. Сколько еще осталось на продых перед схваткой с Бессмертным?
Добрыня постепенно набирался сил. Порой ходил на охоту с Савой, порой собирал ягоды с Забавой. Они делали отвар с добавлением брусничника и голубики, слушали реку и лес. Солнце медленно проходило сквозь тучи, расцвечивая их багрянцем. Вот доползло до запада, но не закатилось, а как низкое, гонимое ветром облако понеслось дальше на север. Так минули день, ночь, еще день – солнце не сходило с неба.
Но однажды Добрыня проснулся от шума мелкого дождя, взглянул вверх – темно, все в тучах. Вроде и удивляться нечему, но он понял – сегодня тучи не разойдутся. Значит, сила Кощеева растет. Значит, скоро…
Он встал и, сам не зная зачем, оправился туда, откуда доносился запах реки Смородины. Не к мосту пошел, а по берегу. Расселина, по которой она текла, была глубока, но если идти вдоль нее, то берег постепенно опускается. В нос все сильнее бил запах тухлых яиц, рыжая река текла медленно, на ее густой поверхности о и дело появлялись и лопались большие пузыри. И вдруг из этой рыжей мути всплыла темная голова Малфриды. Добрыня замер. Он видел, как она обмывается этой вонью, заметил, какими желтыми стали ее еще недавно темные глаза. Силы возвращались к ней. И, видимо, чтобы окрепнуть окончательно, ведьма окуналась в эту вонючую рыжую воду.
Она выбралась на камни у высохшей кривой коряги – тело желтое, волосы как в жидкой глине, сама будто серная статуя. Из-за коряги показался поджидавший ее Мокей, принялся растирать ведьму куском сукна. Вонь тут была неимоверная, даже Добрыне стало тошно. А этим двоим ничего. Им вообще вместе было неплохо.
Добрыня пошел прочь, но оступился, посыпалась из-под ноги крошка. Его наверняка заметили, но он не оглянулся.
Позже Малфрида разыскала сына у реки, где они ранее беседовали. Она уже вымылась, но серный запах еще угадывался, когда заполоскались на ветру еще влажные волосы и ведьма стала расчесывать их длинными отросшими когтями.
– Вижу, что ты теперь снова полна чародейских сил, – сказал Добрыня. – Ну хоть ясно, что кромешника этого просто так с собой таскаешь, не сближаясь, не любясь. Ну и зачем он тебе? Неужто забыла прошлое зло и простила его?
Она молчала. Как тут объяснишь? За последние годы ведьма очень редко ощущала, что нуждается в чьей-то помощи, но сейчас был именно такой случай. Мокей помогал ей, понимал ее, он был необходим ей. Но как о таком скажешь сыну, которому сама же поведала о прошлом? Да и не только в этом дело.
И чтобы ничего не объяснять, Малфрида засмеялась легко и непринужденно – Добрыня узнал ее чарующий колдовской смех.
– Ты ведь христианин, Добрыня. И как у вас там говорят: возлюби врага своего.
– Ха! Сава, что ли, тебя так очаровал своими проповедями? Я замечал, как порой ты его слушаешь. И я бы еще понял, если бы ты вспомнила, как мил тебе был сам красавчик святоша. Помнишь, как настаивала: «Мой Сава, мой». А теперь… Я ведь догадался, что с кромешником этим ты… Фу, гадость какая!
Она лишь вздохнула. Сидела рядом, мяла в ладонях иголки сосновой хвои – запах от них шел опьяняющий, острый, душистый. Ну хоть вонь тухлую забивал.
Малфрида заговорила негромко, медленно:
– Был в моей жизни, Добрынюшка, один человек, которого я любила. Очень сильно любила, верила, что мой он и навек таким будет. А как не сложилось у нас… погубила я его страшно и жестоко. И торжество сильное чувствовала из-за этого. Но потом пришла печаль. Такая сильная, что выть хотелось, расцарапать себе лицо, как плакальщица на тризне, и голосить не переставая. Однако исправить уже ничего было нельзя. С этим и жила… Вот так и Мокей. Мало ли что было в его прошлом, если теперь он исправиться хочет. Неужели нельзя дать ему такую возможность? Пусть еще раз испытает удачу.
– А его удача – это ты, как я понял?
Малфрида отвела взгляд и даже слегка покраснела, будто дева юная. А еще сказала:
– Да, это я. Но и ты.
– Ну, я-то много радости ему не доставлю.
– А жаль. Он искренне помочь тебе хочет.
– Что-то не верится мне в искренность кромешника, – буркнул Добрыня.
Малфрида бросила в реку измятую хвою, посмотрела искоса – человечьим взглядом, словно для искреннего разговора чародейство только помешало бы ей.
– Если Мокей помогает смертным, то насколько он нежить? Нежить не может и не умеет жалеть или ненавидеть. У нее нет человеческих чувств, есть только стремление погреться в человеческом тепле, выпить чужую жизнь. А у Мокея есть желания. Помочь нам освободиться от власти Кощея. Помочь тебе выстоять против Бессмертного. Если такое возможно…
– Ха! Ну и как же он в этом поможет?
– Ну хотя бы поупражняется с тобой с оружием. Некогда он неплохим воином был. Вот бы вы и вспомнили, что и как. Сава вон нынче скорее мамка-нянька для освобожденных, ты все больше с Забавой милуешься, в глаза ее лазоревые смотришь, как будто и не ждет тебя больше ничего. А срок-то на подходе…
– Ты на Забаву не ворчи. Я с ней радость сладкую испытываю. Словно и не жил годы и годы, словно юность вернулась. И ты пообещай мне, что, если случится со мной… ну, если то, в чем упреждала, произойдет… ты позаботишься о ней.
Малфрида низко склонилась к нему, глаза как у лани трепетной – нежные, блестящие, трогательные.
– Прежде всего я о тебе позабочусь. А там… не оставлю избранницу твою. Но и ты меня послушай – иди к Мокею. Он многое о Кощее знает, он научит и поможет. Я просила… да и он сам готов помогать своему сыну. Ведь нет у него больше никого.
Ладно, уговор так уговор. Малфрида позаботится о Забаве, а уж он потерпит возле себя этого кромешника.
Однако Мокей и в самом деле оказался хорош. Бился он скорее по старинке, не столько наносил выверенные удары, сколько действовал исподтишка, мог и песок в глаза кинуть, и подножку коварную подставить. Но кто сказал, что Кощей будет биться по какой-то особой науке? К тому же скор был древлянин, силен, Добрыня, если честно, получал удовольствие от схваток с ним. Порой они даже беседовали.
– Кощей может явиться в любом облике, – говорил Мокей. – Не жди от него того, что сам решил. И уж будь уверен, миловать он тебя не станет. Но если вдруг начнет поддаваться – знай, что-то задумал Темный. Вот тогда и не спеши разить его.
А потом настал день, когда тот же Мокей вдруг велел Саве увести всех.
– Он рядом, я ощущаю его приближение. И он постарается погубить всех, кого только сможет.
Добрыня тоже чувствовал: что-то менялось, что-то сдвигалось в мире, как это было недавно, когда они бились с Кощеем. Значит, размыкает он горы, выходит…
Сава собирался в дорогу, ему помогали бывшие пленные, но и те нет-нет да замирали, вслушивались, на лицах всякое было написано: у кого страх, у кого злоба, один из варягов даже подошел, сказал, что готов остаться и помочь. Жизни не пожалеет, но постарается подсобить. Однако Добрыня только похлопал его по плечу:
– Уходите, если не желаете отвлекать меня заботой о вас.
А вот Забава так и вцепилась в посадника:
– Я с тобой! Ты ведь не для того за мной пришел, чтобы теперь прогнать.
Он ласково коснулся ее дрожащих губ, сказал, что еще не ведает, чем все обернется, не знает, кем вернется к ней сам.
– Мне все равно! – плакала девушка. – Я тебя выбрала и буду ждать, кем бы ты ни был.
– Не стоит ждать! – резко оторвал от себя ее руки посадник. И уже мягче добавил: – Помнишь, ты хотела боярыней стать? Так вот, пойдешь с Савой, он тебя в Новгород доставит. А там такая краса да разумница, как ты, любого к сердцу припечатает. Славно жить будешь, долго и счастливо. Меня же оставь. Я приказываю – оставь!
Когда они ушли, когда стихли отдаленные рыдания девушки, Добрыня заметил неподалеку мать и Мокея. Ну, Мокей-то понятно, он кромешник, ему уходить некуда. А вот Малфрида… Она на все шла, чтобы возродить чары и помочь ему. И она не уйдет. Хотел было спросить, что ведьма задумала, но не стал: ее лицо, какое-то болезненно сосредоточенное, и взгляд, будто обращенный внутрь себя, не располагали к вопросам. Она уже начала колдовать, глаза ее горели, волосы взмывали, шевелились, как живые.
Добрыня опоясался мечом, поправил шлем и пошел туда, откуда слышал приближение. Солнца не было, темные облака снова закрыли горы, мир как будто притих, но время от времени слегка подрагивал, ощущались тяжелые толчки поступи. Ну что же, если Кощей приближается, чего тут дивиться…
Тени в тумане колебались, неясно было, куда смотреть. И от этого в душе росли страх и напряжение, дышать становилось трудно. Добрыня собрался и вдруг понял, что страх таится не в нем самом, а веет на него влажной туманной сыростью откуда-то извне. Значит, это не его страх, а нечто постороннее, как морок, как колдовство, насылаемое чужой недоброй волей. Выходит, что Кощей начал бой еще издали, даже не приблизившись. И осознание этого помогло Добрыне сохранить ясность мысли, укрепить нежелание поддаваться давящему ужасу.
Он уже дошел до моста через Смрадную реку, приготовился ждать, когда вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. И не Кощей – его поступь еще глухо отдавалась в земле. Добрыня оглянулся и едва не выругался.
– Да что вам тут надо? Родители, видишь ли! Убирайтесь! Вы только мешаете.
Мокей и впрямь отступил. Дивно, что, несмотря на приближение Кощея, его глаза не стали темными дырами, а единственный живой глаз был напряжен, вглядывался в туман. В руке Мокей держал острый тесак из заточенного камня. И с этим он на Бессмертного вышел?
У Малфриды же вообще ничего не было. Только ее желтые горящие глаза с узкими хищными зрачками. Но ее колдовство всегда уступало чарам Бессмертного, на что же ведьма сейчас надеется? Нелепица какая-то. Того и гляди Бессмертный колдун учует ее присутствие, подчинит себе, как и ранее, когда превратил помимо ее воли в Ящера и заставил напасть. И случись подобное… тогда у Добрыни только больше хлопот прибавится.
– Да уходите же вы! – разгневался посадник.
Малфрида и Мокей быстро переглянулись – Добрыне даже показалось, что они обменялись мыслями. Потом Малфрида повернулась к нему, вгляделась. Даже зрачок ее на миг расширился, взгляд стал почти проникновенным, человеческим.
– Тебе сейчас не о нас думать надо. Но будь по-твоему, в стороне останемся. Однако и ты учти: если начнешь побеждать Темного, то проиграешь. Поэтому остановись, как только почувствуешь победу. Пусть убирается, не добивай.
И это родная мать такое советует? Победить и отпустить?
– Я сам знаю, как мне быть, – огрызнулся Добрыня.
– Если знаешь, то не забудь, что Кощей Бессмертный – твой дед. Так уж вышло, что вы родня и в тебе его кровь. А родню убивать нельзя ни по какому закону.
Добрыня даже поперхнулся, закашлялся. Вот уж подумать страшно… дед! И зачем Малфрида напомнила об этом? Еще больше разозлить хотела?
Но особо задумываться было некогда. Туман заколебался, и он увидел в белесой мути огромную приближающуюся тень.
В этот раз Кощей не принимал облик змея многоглавого. Видать, понял, что думать в сече одному за несколько голов не так-то просто. И он явился огромным витязем, великаном жутким, ходячей тяжелой тенью в трехрогом шлеме, а на месте лица – пятно, только глаза светятся белым. И эти ослепительно-белые глаза Бессмертного, налитые жгучим светом пустоты, шарили по округе. Добрыня вдохнул сильный запах тухлятины. Смрадная, что ли, вскипела или это от Кощея такая вонь, что дышать стало трудно? Он видел, как Бессмертный высматривает противника, как, заметив наконец стоявшего на Каленом мосту богатыря, застыл, вперив в него тяжелый взгляд. У Добрыни в первый миг даже закружилась голова. Рука с кладенцом стала невероятно тяжелой, словно не хотела слушаться хозяина.
Добрыня задыхался, но остался стоять на мосту, широко расставив ноги и решительно склонив голову в сверкающем шлеме. Ну что, нечисть, если у тебя такой посыл давящий, то отразись и получи ответку!
И получилось! Огромный темный силуэт Кощея качнулся, получив свой же посыл, даже немного отступил. Добрыня тотчас воспользовался этим. Не стоило ждать, когда противник опомнится, лучше сразу напасть.
Прыжок его был легкий, стремительный; он различал в клубах тумана огромный, уходящий вверх силуэт, но достичь такой высоты не смог и попросту рубанул Бессмертного по голени. Свистящий звук меча, хлюпающий звук, и нога Кощея была отрублена. Он стал заваливаться, однако устоял, высился теперь, как-то скособочившись, опираясь на отрубленную ногу, но не чувствовал боли. Теперь передвигаться ему было неудобно, и он просто поднял огромную руку, которая продолжалась гигантской палицей. Рука, летящая с высоты, опустилась там, где только что находился Добрыня. Витязь успел отскочить, и удар пришелся по Каленому мосту, разбив его в щепы. Берега стали заваливаться, словно стирая грань между миром Кромки и миром людей. Плеснуло волной вонючей рыжей воды, которая, растекаясь, делала землю склизкой. Добрыня оступился и упал, с трудом, оскальзываясь, стал подниматься. Он видел, как палица вновь опускается. Ох, помоги, Боже, дай сдержаться и не отвести взор…
Удар был отражен шлемом, а Добрыня еще и успел срезать часть булавы. Срезанный пласт был огромен, при ударе от него полетели острые осколки. Добрыня ощутил, как чиркнуло по телу, по лицу. Там, где волшебная кольчуга спасла тело, боль была терпимой, а вот щеку обожгло, как огнем.
«Думать надо в другой раз», – яростно подсказывал себе Добрыня. Однако теперь знал, что Кощей вооружен палицей из крепкого кремня. Сейчас Бессмертный склонился, и Добрыня видел сквозь гущу тумана его темное неподвижное лицо, видел, как открылась в довольном оскале черная пещера пасти. И если меч может разрубить его тело, то булава слишком крепка, чтобы так просто ее разрушить.
– Ты всего лишь кусающийся червяк! – глухо неслось из этой пасти. – Ты лягушка, возомнившая себя бойцом.
Добрыня поднялся, посмотрел вверх и поудобнее перехватил рукоять меча.
– Тот, кто первый в бою начинает оскорблять противника, уже проявил свою нерешительность! – крикнул он зычным голосом.
Видел, как снова на него с высоты валится огромное оружие. Мечом можно и не отвести, лучше сдержаться и смотреть, отвести удар отражением. И получилось! Палица не долетела до него, снова ушла вверх.
Кощей взвыл, когда почувствовал, как рука с палицей уносится обратно, повинуясь силе отражения. А кладенец опять подрубает ноги, они крошатся, вынуждая великана рухнуть на колени. Добрыня с разбега в невероятном прыжке пролетел почти возле белых глазниц и чудом не поразил одну из них: лишь сверкнуло светом волшебного меча… но достать не сумел. Кощей тотчас попытался поймать его, как ловят досадную мошку, однако промахнулся, издал глухой рык – будто лавина в горах обрушилась.
В стороне, стараясь не упасть от сотрясения земли, творила заклятие Малфрида.
– В единый миг, в миг отлета души приди ко мне в руку, сохранись, стань моим…
Глаза ее горели, а из задергавшегося горла уже вырывались не человеческие слова заклинания, а клокочущие звуки – казалось, целое болото лягушек заквакало громко. Так она творила заклятие на языке земноводных, потом замяукала кошкой, затрубила оленем, зарычала медведем, а там и заскрипела старым деревом. Все, что есть в мире, выходило из груди чародейки, она повторяла заклинание, чтобы все силы услышали ее и помогли. Она шумела волной, свистела ветрами, гудела пламенем. Если Кощей уловит творимое ею волшебство, он отвлечется от Добрыни, он поймет, что она задумала, и сделает все, чтобы уничтожить ее. Но тогда случится то, чего она опасалась, – ее сильный ловкий сын сможет победить Бессмертного, но при этом сам станет им же.
Однако Кощею сейчас было не до сторонних чар. Добрыня наседал на него не переставая, задел по локтю, опять ноги подрубил и сразу отскочил, переводя дыхание. И неожиданно заметил, что обе конечности Кощея вдруг стал удлиняться, вновь расти мощными столбами. Нет, так Бессмертного не свалить. Значит, нужно добраться до горла. Как поется в песнях, как сказывают волхвы: чтобы свалить нежить, надо пересечь ей жилу духа в горле. И для этого Добрыне следует отрубить громадную голову этого великана. Но поди же еще доберись до нее.
Огромный Кощей был неуязвим, однако и не так быстр, как человек. Когда Добрыня прыгал, перескакивая с утеса на утес, он только успевал обернуться, наносил удар туда, где витязя уже не было. В пылу схватки они давно удалились от заваленной землей Смрадной реки, сражались у высоких гор, исчезали в плотном тумане.
Малфрида невольно двинулась следом, продолжая творить заклинание. Ей надо было их видеть, надо было не упустить нужный миг.
– Ты слишком близко к ним, – расслышала она голос Мокея. – Лучше я подойду, я подскажу, а ты не прекращай колдовать, не останавливайся!
Он сделал несколько шагов туда, где маячила огромная тень великана, где порой вспышкой сверкал меч-кладенец. Мокей прикрывал собой Малфриду, в руке его подрагивал острый каменный тесак. Его единственный глаз следил за происходящим, видел, как настигает Добрыню гигантский силуэт, как тот уворачивается, отступает, чтобы потом опять напасть. Какая же в нем смелость!.. И каким маленьким он кажется подле этого великана!
Булава Кощея врезалась в уступ, где только что стоял витязь. Все содрогнулось, покатились камни, попадали деревья, из трещин потекли подземные реки. Добрыня изловчился и с диким криком обрубил удерживающую палицу длань Кощея. Она покатилась по склону, но и обрубком Кощей так ударил Добрыню, что тот полетел куда-то в сторону, ушибся о скалы, захлебнулся от боли и удушья. Казалось, ни вдохнуть, ни выдохнуть.
А Кощей уже грохочет, приближаясь, клубятся и разлетаются вихри тумана, несет вонючим трупным смрадом. И совсем близко его темное лицо, шарят, сверкая мертвой белизной, пустые, но все замечающие глаза.
Добрыня взмолился. Он был не самый преданный Христу верующий, да и не мог он быть услышан в этой мути тем, к кому взывал. Но у него вдруг появилось ощущение, что он уже не один, что его кто-то поддерживает и подбадривает. И он рванулся, прыгнул из последних сил, оказался на плече как раз склонившегося великана. Одной рукой Добрыня ухватился за выступ рогов шлема Бессмертного, другой с яростным криком рубанул по горлу великана. Кладенец врезался в толстую и твердую, как чешуя, шею, застрял. Такого Добрыня не ожидал. А Кощей вдруг замер, не шевелился, словно чего-то ждал.
Добрыня вспомнил слова Мокея: если Бессмертный начнет поддаваться… Но что бы там ни было!.. И он рванул застрявший клинок, пытаясь высвободить его. Сам еле удерживался на качающемся великане. Ну же, еще усилие – и он избавится от Кощея, избавится от… своего деда. Вовек бы его не знать!
А Малфрида еще говорила, чтобы он не забывал, что перед ним его дед! Вот сейчас он… Но опять вспомнилось, о чем предупреждал кромешник, и уже занесенный для удара меч-кладенец дрогнул в его руке, словно сама рука была готова изменить своему хозяину. Проклятье! Так он должен биться или загадки разгадывать?
Где-то внизу Мокей протянул Малфриде каменный тесак.
– Сейчас! Все получится.
Его голос прозвучал на удивление спокойно. И это придало сил испуганной, умолкшей от страха чародейке. Она резко ударила по своей раскрытой ладони каменным острием, брызнула кровь. Ее волосы взвились, из горла вылетел крик, почти вопль, однако закончившийся словами:
– Своей кровью заклинаю, своей кровью призываю… Ко мне на сохранение. В единый миг поддаться и быть спасенным!..
Она еще колдовала, когда Кощей, уже с почти наполовину перерубленной шеей, вдруг очнулся, перестал медлить и, стремительно схватив Добрыню свободной рукой, стал сдавливать. Неуязвимая кольчуга сперва сдерживала невероятную мощь каменной десницы великана, потом стала поддаваться, и витязь закричал. Меч выпал из его руки, только шлем отразил огромные бездушные глаза. Отразил, как изнутри их вспыхнул аспидно-алым светом зрачок, а потом стал расплываться кровавым пятном, залил всю глазницу… и потемнел. Или это потемнело в глазах Добрыни? Он еще чувствовал, как его сжимает гигантский кулак, а потом, когда его уже никто не держал, он полетел в пустоту, ударился, покатился. Казалось, сейчас и дух вылетит из обмякшего тела, но он помнил, что надо вставать, надо отражать новые нападки. Он ведь не сразил Бессмертного, он должен продолжать…
Кто-то помогал ему подняться, тащил. А вокруг носились некие темные вихри, чернота налетала, пронзала холодом, валила с ног. Но рядом было надежное плечо, Добрыню удерживали, вели через эти темные вьюги, смерчи, сквозь дикий яростный вой.
Он с удивлением понял, что его поддерживает кромешник Мокей, увидел его так близко… И этот прищуренный от ветра обычный серый глаз, и повязку через другую глазницу. Лицо вроде молодое, но с какими-то скорбными морщинами. Сколько ему лет? Да о чем, в конце концов, он сейчас думает?
– Куда тащишь меня? Где Кощей?
– А вон же, в руках у Малфриды.
Они были уже рядом, могли рассмотреть ее за темными стонущими вихрями, которые вдруг стали смыкаться в ее окровавленных ладонях, блеснули металлом. И Добрыня с удивлением увидел, что ведьма держит в руках обычную штопальную иглу.
– Это и есть смерть Кощеева! – почти с восторгом произнес рядом Мокей.
Малфрида кинула на него быстрый гневный взгляд, будто бы он мешал, и продолжила колдовать.
И на глазах удивленного Добрыни игла исчезла, и теперь чародейка держала обычное белое яйцо. Которое вдруг потемнело, обросло сероватым пером, и вот уже бьет крыльями, пытаясь вырваться, дикая утка. Она даже крякнула, но тут ее утиный клюв расширился, задергался подвижным носом – ведьма уже держала бьющего лапами зайца.
Малфрида еще что-то прорычала и подбросила зайца. Сейчас сбежит… Но над ней, прямо в воздухе, словно огромная пасть, вдруг открылся возникший невесть откуда каменный сундук, заяц впрыгнул в него будто по собственной воле, и крышка захлопнулась. Тяжелые канаты оплели сундук, подняли куда-то вверх, унесли…
Добрыня только смотрел. Не было мути тумана, не было темных вихрей, расходились тяжелые тучи, и над горным перевалом заалело низкое солнце. И везде: на склонах с полосами снега, на вершинах елей, на камнях плоскогорья – сияли багряные блики, как будто разлитая кровь.
– Так где же Кощей? Ты заколдовала его?
Малфрида слабо опустилась на колени. После вспышки сильного чародейства она выглядела обессиленной – лицо посерело и осунулось, волосы повисли космами, вокруг глаз образовались темные круги. Дышала тяжело, как после долгого бега.
Мокей поддержал ее, стал хлопать по щекам, не давая впасть в беспамятство.
– Все, милая, все! Ты заколдовала его, уничтожила его силу. Он не сможет больше явиться!
Кромешник почти смеялся, но потом лицо его помрачнело.
– Однако… кто знает, сколько его чар могло проникнуть в тебя саму, когда Кощея развеивала. И может так случиться, что однажды ты не сумеешь с этим справиться.
Он не договорил, просто смотрел на нее – и столько было в этом взгляде!
– И все же, куда делся Кощей? – хотел понять Добрыня.
– Да оглянись же ты! – резко ответил ему Мокей. – Посмотри на тень – это все, что от него осталось.
Добрыня оглянулся и онемел. Там, где над ними возвышалась каменная стена высокой горы, виднелась темная нечеткая тень. Словно камни там расплавились и почернели, когда душа покинула тело Бессмертного. Почти под горной грядой наверху можно было рассмотреть тень от его головы, широченные плечи великана, широко расставленные ноги. Но это была всего лишь тень. А сам Кощей…
Добрыня понял.
– Ты заколдовала его душу, Малфрида! Спрятала в иголке, иголку в яйце, яйцо в утке, утку в зайце, зайца… Где тот сундук, в котором ты его замуровала?
– Далеко, – отозвалась ведьма, поднимаясь с помощью Мокея. – В безбрежном море, на одиноком острове, на высоком дереве. И уж поверь, Добрынюшка, не тебе предстоит однажды сломать эту иголку. Ты же… ты остался человеком. И что? Жалеешь теперь?
Как он мог жалеть? Он стоял живой, по щеке текла кровь из пореза, все тело болело, однако он видел все вокруг, дышал, ощущал упоительный запах тающих снегов и чувствовал во рту вкус хвои, аромат ее коры. Огромная тень высилась над ним, но уже не угрожала. Это была всего лишь тень, о которой особо и думать теперь не стоило.
Добрыня еще недавно был готов погибнуть в схватке, даже согласился принять в себя чужую душу, стать нелюдью темной и уйти за Кромку. Но вот же он стоит, смотрит по сторонам, он жив и здоров, он дышит. И остался собой. О чем же ему жалеть?
А спасла его чародейка Малфрида, его мать. И помог ей в этом его отец… как бы к нему Добрыня ни относился.
И витязь шагнул к ним, обнял обоих.
– Благослови вас Бог!..
Ну вот сейчас ведьму передернет от сказанного ее сыном-христианином, а кромешник вообще отшатнется. Но нет же, они стояли все втроем, улыбались друг другу.
С гор веяло ветром, журчали водопады от таявших снежников. Все в мире менялось, лишалось чего-то необычного, волшебного, даже ранее сверкающая кольчуга Добрыни вдруг померкла, стала просто кольчужной рубашкой из спаянных колец. Шлем тоже не сиял уже, а казался простым шишаком обычной ковки. А куда делся меч, Добрыня сейчас и вспомнить не мог. Все чародейство растаяло с исчезновением того, кто давал темные чары этому миру. Можно было бы и пожалеть об этом… но мир и без чар так прекрасен! Даже дали дальние проступили внизу, теряясь в легкой голубоватой дымке, окутывающей предгорье, светилась вода широких озер. Облака на небе отступали, багровели и золотились в лучах солнца. Все успокоилось, но дышало и жило.
Позже Добрыня подсел к Малфриде, спросил у понурой, истратившей на колдовство все свои силы матери:
– Сможешь идти или тебя понести? Нам ведь теперь долгий путь предстоит. Ты сама сказывала, что надо идти к Колдовскому заливу, поджидать проплывающие суда. А путь туда неблизкий, да и неизвестно, возьмут ли. Выдержишь ты такое путешествие?
Она приподняла опущенные веки, улыбнулась.
– Ветер подует – и я воспряну. Роса упадет – и я оживу. Каждый шаг по земле будет возвращать меня к жизни. И каждый распустившийся цветок даст мне новую волну дивного, что есть во мне.
Добрыня усмехнулся, но ничего не сказал. Хотя было в его душе сомнение. Он ведь тоже имел в себе частицу волшебной крови, но сейчас, после всех пережитых чудес и страхов, был рад, что чувствует себя самым обычным. Главное – верить в себя и знать, как поступать. А сейчас надо было передохнуть и подлечиться: ожог на его скуле еще не совсем сошел, рассеченная щека по-прежнему кровоточила, мышцы тягуче ныли, да и ребра болели при дыхании. И все же он знал: им надо идти. Нечего тут оставаться, его дела дома ждут.
Дома! При мысли о доме, о Руси, о Новгороде даже сладко стало в душе. Наконец-то он может подумать об этом, наконец-то готов возвращаться! Может, и своих удастся нагнать. Забаву обнять. Вот только… И он снова спросил, как там мать. Сможет ли, готова ли возвращаться?
Потом повернулся к отцу:
– А ты как? Ты ведь через смерть прошел, ты с ней сжился. И что для тебя теперь мир людей?
Остался ли Мокей получеловеком? Живет ли он вообще?
Тот моргнул глазом, поправил повязку на пустой глазнице. Одежда на нем лохмотья лохмотьями, вся истлевшая, лишь только выданная Савой меховая безрукавка хороша. Но все равно выглядит бывший древлянин странно. Пусть и почти по-человечески. Или даже совсем по-человечески, но скорее как бродяга, а не отец посадника новгородского.
– Мне бы хотелось попасть в мир людей, – молвил со вздохом Мокей. – Корабли на реках увидеть, березы высокие, хороводы у костров. О, ничего бы я не хотел сильнее, как вернуться к людям, пожить и умереть обычной смертью.
– Ну тогда все ясно! – хлопнул себя по коленям Добрыня, поднялся. – Если все решили, то чего тут торчать… Под этой тенью.
Он снова посмотрел на высокую скалу, на которой темнела Кощеева тень. Все, что осталось от властелина Кромки. Как ее люди назовут когда-нибудь, что придумают? Да не важно. Главное, что путь был свободен и их ничего тут больше не задерживало.
Эпилог
Новгород
Зима в словенском краю на исходе 990 года от Рождества Христова выдалась снежной, метели и снегопады налетели сразу после сырых осенних дождей, загудели, завыли, засыпали землю высокими пушистыми снегами – и успокоились. Солнце теперь светило почти каждый день, мороз пронзал воздух, и все вокруг блестело. Холода держались ядреные, так что жители Новгорода ходили с Детинецкой стороны на Торговую и обратно по крепкому льду реки Волхов, мимо свай моста, еще не восстановленного после разгрома перед крещением. Да и зачем им сейчас мост, если и так пройти можно? Вот по весне и займутся им. Но когда еще та весна придет… Ну а пока и зиме снежной все рады, не прискучила еще.
А вот епископу новгородскому Иоакиму, рожденному у теплых южных морей, было даже боязно смотреть на эти тяжелые высокие снега, на сугробы у частоколов, на пушистые белые шапки на кровлях. Ему казалось, что надо забиться в укрытие, жаться у теплого очага, кутаясь в меховую накидку. Однако самих новгородцев зима не пугала, вон разгуливают по городу, выходят на торжище, женщины идут к полыньям с коромыслами, дети и то не спешат в тепло, а бегают по снежным навалам, съезжают на салазках с сугробов.
Иоаким наблюдал за ними, отодвинув ставневую заслонку на окошке, и начал улыбаться. Дети эти неугомонные ну чисто воробышки суетливые, а девы с румяными щеками до чего хороши! Да и смех купцов такой звонкий в ясном морозном воздухе. Вон сколько народу сегодня пришло к епископу на его подворье. Они уже не сторонятся церковника, уже дело у каждого к нему есть.
Подворье для епископа справили знатное. Пусть и не каменные хоромы, но тепло и удобно; стены мхом проконопачены, лестница с резного крыльца ведет широкая, во дворе поленница опоясывает едва ли не весь двор – местные позаботились, чтобы их христианский глава не мерз в столь непривычно студеную для него зиму. Иоакима такая забота трогала до глубины души. Он вообще хорошо ладил с новгородцами в последнее время, после того как прекратили убивать священников и перестали резать людей на подступах к граду Новгороду. Посадник Путята тогда с ног сбивался, гоняя и казня головников непримиримых, а молодой Воробей Стоянович уже не ведал, чем и привлекать окрестных словен ко граду: не желали те торговать с крещеными градцами, да еще и купеческие караваны грабили и разгоняли, мешая вести торговлю. Епископ же Иоаким молился, но сам начал терять надежду, что лад и покой настанут на этой истерзанной земле.
Ну а потом… Вспоминая то облегчение, что последовало после тревог и волнений, Иоаким широко перекрестился. И стал думать о хорошем. Вспомнил, как служил сегодня обедню в недостроенной деревянной церкви Святой Софии. Ох, как же она нравилась епископу! Была новгородская София просторной, с изогнутыми деревянными сводами и искусно выполненной резьбой. Запах ладана и красок от новых икон с образами смешивался с ароматом свежесрубленного дерева, свечи восковые испускали мягкое сияние. И пусть купола еще не подняты на кровлю и звонницу, но зато как мастерски выполнены эти купола! Сейчас они ожидали своего часа на церковном подворье, запорошенные снегом, было их больше десятка, крупные и поменьше, напоминавшие перевернутые луковицы, искусно украшенные чешуйчатой деревянной резьбой.
А вот обряд с венчанием в недостроенной церкви можно будет провести уже после пресветлого Рождества. Иоаким немало внимания уделял предстоящей свадьбе с венчанием пред образами. Будет жениться молодой Воробей Стоянович на местной девице, и епископу было важно, чтобы новгородцы увидели, как красиво и благолепно пройдет обряд. Когда знать начнет венчаться, покажет пример, то однажды и простые люди, дай бог, потянутся к алтарю.
Так что Иоаким радовался, что Воробью так вовремя пришла охота жениться. Пышной будет эта свадьба, а главное – освященной. Правда, немного волновало, что сегодня сам посадник Воробей почему-то не явился на службу в церковь. Обычно он никогда служение не пропускал. Но сегодня пришла какая-то весть от воеводы Путяты, и Воробей спешно покинул город, уехал невесть куда и неизвестно на сколько.
Обычно Иоаким в дела мирские не вмешивался – своих забот хватало. Но сейчас стало даже любопытно: что там у них происходит? Вон, почитай, более седмицы назад в Новгород приехала пара гонцов из дальней заснеженной Ладоги. Надо же, в такое непростое время и пробрались сквозь снега и заносы! Обычно зимой ладожане с новгородцами не общались, пока реки не вскроются, а тут вдруг явились. Видимо, нечто важное заставило их проделать такой путь в Новгород. Причем столь важное, что воевода Путята сразу собрал отряд и отбыл в северном направлении. Иоаким тогда не стал спрашивать, что происходит: это русская земля, в ее диких северных пределах кто только не берется за оружие да чинит разбой, и зима им не помеха. Но, видимо, спросить стоило: тот же молодой посадник Воробей в последующие дни ходил встревоженный, поднимался на стены, ждал вестей. А сегодня и сам отбыл верхом, даже отстоять обедню не явился. Иоакима это не устраивало: чем чаще нарочитые люди будут ходить на службу, тем больше и простого люда за ними потянется. Ведь несмотря на то, что новгородцев окрестили, к церкви они шли скорее поглядеть на нарядных бояр да посадника, а не молиться Всевышнему. Но Иоаким был все одно рад, что люди посещают новый храм: не важно, как ты приходишь к Богу, главное – что приходишь. А там и душа откликнется.
И вот после полудня на подворье епископа новгородского примчался гонец с новостями. Да такими, что Иоаким упал перед образами на колени и стал читать благодарственную молитву. Вот радость-то! Гонец сообщил, что Воробей отправился встречать не кого-нибудь, а самого посадника Добрыню, за которым Путята в саму Ладогу сквозь снега добирался.
Новость быстро разошлась среди людей, новгородцы повыходили из изб, спешили на торжище, где всякая новость обычно обсуждалась. И рады ведь были! Уже не таили обиду на посадника, который их насильно в реку загонял, а говорили о том, что с Добрыней в Новгороде всегда порядок и лад были. Без него град словно без головы оставался, жить-то жили, а как дальше дела повернутся, не ведали. Но вернется Добрыня, вот тогда ужо!..
Иоаким еще издали услышал волну гомонящих людских голосов, какая шумела, приближалась, вопила. Вот дудки загудели, барабаны забили, шум стоял такой, что даже устроившиеся под стрехами галки поднялись в алевшее закатом небо. Красивая картина, но и тревожная. Иоакиму тоже стало тревожно. С какими вестями явился посадник? Уходил он невесть куда, ничего не пояснив, да и мрачен был, как туча. Еще и священника Саву с собой увел. И епископ молился о них обоих все это время – и о властном, упрямом Добрыне, и о мягком парне Саве, какого порой так не хватало ему.
Однако тревожные мысли покинули преподобного Иоакима, когда он увидел въезжавшие во двор сани, заметил и посадника Добрыню в высокой меховой шапке, а там и Саву заметил, даже умилился тому, как возмужал его любимец. С ними еще какие-то люди были, епископ разглядел и пару женских лиц, но разбираться, кто такие, будет позже. Пока же лишь молился, благодаря Всевышнего за столь радостную встречу. Служилые люди епископа сдерживали ликующую толпу за воротами: кажись, не уйми их, так весь Новгород явится на церковное подворье, заполонит все вокруг.
Иоаким ожидал прибывших на высоком крыльце, важно опираясь на епископский посох. Выходя в спешке, даже забыл надеть варежки, но сейчас о холоде не думал. Видел, как гарцевал на коне по двору счастливый Путята, как Воробей подал руку сошедшему с саней посаднику. В приветном жесте подал, не от слабости прибывшего. Ибо Добрыня шагнул к крыльцу сильно и широко: шуба длинная на нем распахнута, длинные полы снег метут, шапка соболиная на крутые брови надвинута, карие глаза горят весело. И хотя на лице посадника появились новые шрамы и седины в волосах прибавилось, он, поднимаясь по ступеням, смотрел на Иоакима почти с задором, полные губы чуть улыбались. Вот совсем чуть-чуть, хотя само лицо так и светилось от радости.
Добрыня сперва коленопреклоненно припал к руке епископа, попросил благословения, а поднявшись, вдруг сжал его в объятии.
– Ох, владыка, как же я соскучился! Как сладко вернуться домой. Да еще и победителем!
Кого он там победил, Иоаким сейчас не думал. Он был шокировал вольностью обращения к себе посадника. Что подумают собравшиеся? Как можно было так забыться?! По сути, одичать!
И если бы не Сава, отвлекший на миг епископа, то он бы уж высказал Добрыне… путая греческие и славянские слова. А так светлая улыбка любимого ученика немного погасила пожар в груди Иоакима. Он благословил Саву, а потом услышал его быстрый шепот:
– Не гневайтесь на посадника Добрыню, владыка. Он такое пережил, с таким столкнулся, что гордыня его вознеслась высоко. Но худа от этого никому нет. Есть даже добро. Ибо победитель должен быть награжден.
Однако о том, что пережил Добрыня в своих странствиях, Иоаким узнал лишь на другой день рано утром, когда тот чуть свет явился в его покои.
– Выслушайте мою исповедь, владыка. И уж тогда решайте, какое покаяние вы мне наложите. Да и поверите ли вы мне вообще…
До прихода христианства год у славян на Руси заканчивался обрядом Корочуна – когда в самую длинную ночь гасили все огни, а затем долгим упорным трением сухого дерева о дерево добывали новую искру, от которой и зажигали вновь очаги в домах. Епископ Иоаким был достаточно разумен, чтобы не запрещать то, к чему в этих краях привыкли, однако для него куда важнее было, чтобы местному люду больше понравилось, как отмечают Рождество Спасителя. Поэтому после самой темной ночи новгородцы потянулись к еще не достроенному, освещенному пламенем свечей храму Святой Софии. Заглядывали внутрь, следили за праздничной службой, слушали песнопения священников, а потом радостно садились за угощение, каким потчевали их в честь светлого праздника. И такое празднование им понравилось куда больше, чем продолжительное сидение во мраке в самую долгую ночь.
А потом народ узнал о предстоявшем венчании временного посадника Воробья и местной боярышни. На это было бы любопытно посмотреть. Но еще больше все развеселились, проведав, что и Добрыня предстанет перед алтарем с привезенной им из дальних краев красавицей. Ее еще в Ладоге окрестили в новую веру, причем крестным отцом стал не кто-нибудь, а сам воевода Путята. Поэтому невесту Добрыни так и называли теперь – Забава Путятична. Было у нее, правда, и новое имя, в крещении данное, да только его многие еще не знали, а вот имя Забава новгородцам пришлось по душе. Ведь и сама невеста посадника была милой, забавной, улыбалась всем так счастливо. Да и заслужил их удалой посадник в жены такую раскрасавицу.
Ну а где свадьбы, там и пиры застольные, с играми, гуляниями, катанием на тройках. Весело было той зимой в Новгороде! К тому же постепенно разошелся слух, что в числе прибывших с Добрыней была и его мать, известная чародейка Малфрида. Многим любопытно было на нее глянуть, но все никак не могли понять, где же матушка посадника? Правда, сидела на пиру с гостями некая веселая черноглазая красавица, да только кто же подумает, что эта молодица – родительница самого почтенного Добрыни?
Однако после свадьбы Малфрида вскоре уехала из города. Сопровождал ее худощавый нелюдимый спутник с повязкой через один глаз. А так как сам посадник сразу после пиров с головой погрузился в местные дела и заботы, то проводить их до Рюрикова Городища вызвался только священник Сава. В пути он заметил, что чародейка холодно держится со своим спутником, потому и сказал при прощании:
– Ты не сильно ворчи на Мокея за то, что он согласился креститься. Он ведь, почитай, половину души оставил за Кромкой, а как можно к жизни вернуться, если не позаботишься о спасении души? А Христос милостив, он примет всякого, кто уверует в него всем сердцем. Так что у Мокея теперь есть надежда пожить по-человечески.
Малфрида лишь опустила лицо в пышный воротник лисьей шубки. Склонилась так, что длинные колты-подвески из-под расшитой шапочки скользнули по скулам.
– Я Мокею не нянька. Хочет креститься – его воля. Да и не было в нем никогда ничего чародейского. Обычный он. А то, что от силы Кощеевой ему перепало, забыть поскорее хочет. Где уж ему понять, каково это, когда силу волшебную всю жизнь имеешь.
– А тебя так уж и радует волшебная сила? – чуть подмигнул ей Сава.
В темном одеянии священника, в скуфье99 куполообразной с нашитым крестом, он смотрелся как настоящий служитель церкви, и ничего от бродяги, проделавшего столь долгий путь, в нем теперь не осталось. Даже стать, казалось, стала другой, и теперь не богатырский размах плеч привлекал внимание, а некая плавность во всех движениях, словно Саве никуда больше торопиться было не надо. Только в глазах светилось прежнее удалое веселье да улыбка была все такая же ясная. Правда, когда он улыбался, в глазах его все же читалась легкая тревога. Ведь Сава хорошо знал Малфриду, знал, что рано или поздно ее темная кровь начнет брать над ней верх. За время их долгого пути на Русь, когда им пришлось идти через далекие северные земли и плыть по водам Колдовского залива, где их подобрали на варяжскую ладью, а также преодолевать пустые и дикие земли биарминов, она порой вдруг начинала темнеть и выпускать когти. Но теперь это ее саму пугало. И тогда она тянулась к Мокею, звала к себе. Не хотелось ей снова в чудище превращаться: проведет ночь с полюбовником – и опять весела, опять спутница их верная, подруга милая.
А почему Мокея выбирала, когда на нее даже кое-кто из пленников засматривался восхищенно? Видимо, что-то роднило их с бывшим кромешником. И не только общий сын Добрыня, но и пережитые несчастья. Они подолгу о чем-то говорили, порой плакали оба, порой чему-то смеялись. Было видно, что им хорошо вдвоем, что нежность и доверие между ними. Только когда Мокей стал поговаривать, что хочет прийти под защиту Спасителя, Малфрида на него не на шутку рассердилась, ссорилась с ним, даже оставить в пути своих спутников подумывала. Но не ушла же! Значит, и ей, дикой ведьме, нужны людское тепло и забота.
Тут, в Новгороде, Добрыня ее богато одарил, хотел в тереме своем поселить, однако она отказалась: слишком много христиан тут, сказала, того и гляди уговорят ее в церковь пойти. Сын не стал ей перечить, но предложил, пока холода не минуют, пожить в Городище, чтобы отдохнула от всех тревог и долгого опасного пути. А когда Мокей вызвался сопровождать ее, Добрыня даже обрадовался. Ему самому спокойнее будет, если рядом с Малфридой останется кто-то, кому она дорога. Может, тогда и не одичает снова, потянется к близкой душе.
Малфрида, признаться, и сама не понимала, чего же она хотела. Но в Городище жила уютно, хотя порой пугала челядь, когда глаза ее вдруг желтым огнем загорались. И начинали люди ее тогда сторониться, плевались за ее спиной, крестились. А она злилась на них, прогоняла. Только Мокей и мог с ней справиться, обнимал, удерживал, пока не сникала, грустить вдруг начинала.
– Вот так и живу, Мокеюшка, сама не зная, где спокойствие и приветливость найду. Такая уж, видно, недоля моя…
По весне, как вскрылись реки, уговорил ее Мокей отправиться к внуку Владимиру. Малфриде эта затея пришлась по душе, вот и уехали они, ушли на торговой ладье к далекому Киеву.
Когда посаднику Добрыне о том сообщили, он опечалился. И было такое чувство, что больше никогда он с матерью не встретится. Да и Мокея не увидит, не поговорят они, как порой разговаривали по пути из земель Кощеевых. Но все же мысль, что бывший кромешник Малфриду не оставил, давала некоторое успокоение: сильно любил ее Мокей, с ней пребудет, как бы судьба ее ни сложилась в дальнейшем.
В остальном же Добрыня был занят делами посадническими, правил всем Новгородским краем. Выходил на вече, принимал иноземных гостей-торговцев, восстанавливал новые торговые подворья. При нем же и подняли на деревянную церковь Святой Софии тринадцать дивных куполов-маковок и вновь возвели широкий мост через Волхов, соединив две стороны купеческого града – Торговую и ту, что раньше Детиницкой называли, а нынче гордо прозвали Софиевской100. И отовсюду сходились люди поглядеть на это диво дивное, а там и заходили в храм, смотрели, слушали, проникались.
Со временем в Новгород пришла весть, что и в Киеве было решено возвести храм, так же называвшийся Святой Софией. А еще вестовые сообщили нечто, удивившее и порадовавшее посадника Добрыню: дескать, чародейка Малфрида обитает при князе Владимире, советчицей его слывет да служит верно. Имя ее стало славным, люди ее почитают, князь слушает. И хотя говорили, что церковники пеняют князю Крестителю за то, что с колдуньей связался, он бабку родимую обидеть не дает. Правда, о том, что это его бабка, мало кто догадывался. Но положение у советчицы князя было знатное.






